Другой класс Харрис Джоанн
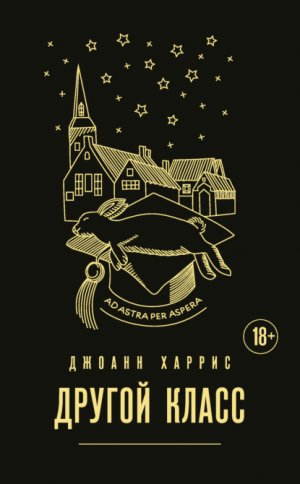
Его настоящее имя было Эдвард, но мама и папа всегда называли его Кролик Банни. Мне было семь лет, когда он умер. На самом деле из-за него меня и в школу отправили, потому что до его рождения мама сама меня воспитывала, дома. Но когда родился Банни, она решила, что воспитывать сразу двоих детей – это чересчур, и я оказался в «Нетертон Грин». Пока я учился в школе, мама дома воспитывала Банни.
В школу мне совсем не хотелось. А эта школа, «Нетертон Грин», оказалась какой-то ужасно шумной и очень большой. И там было слишком много других детей, а я других детей не очень-то любил. Я их даже немного боялся. Так что в первые три дня я там вообще ни с кем не разговаривал, только лаял, как собака. Мне казалось, что так лучше, потому что собак люди любят. Но в итоге я только заработал кличку «придурок», да так с ней и остался.
Никто мне толком не рассказал, что же на самом деле случилось с Банни. Наверное, родители решили, что я еще слишком мал. Они сказали только: «Его забрал Господь». Все остальное я узнал от чужих людей. В общем, мама решила выкупать Банни и, пока малыш плескался в ванне, отошла на минутку, чтобы ответить на телефонный звонок. Всего на одну минуту! Да и Банни к этому времени был уже довольно большой, почти два года. И все-таки он ухитрился утонуть, хотя воды в ванне было едва дюймов на шесть[43].
По-моему, именно тогда я впервые начал по-настоящему бояться Бога. Если Он смог забрать Банни, значит, может забрать и меня. И, что еще хуже, мои родители без конца говорили об этом, словно попасть в рай – это какая-то веселая экскурсия вроде поездки в Диснейленд. Но иногда я слышал, как мама плачет у себя в комнате. А еще как-то раз я в церкви подслушал разговор миссис Плам с миссис Констебль, и миссис Плам сказала, что моя мама ничуть не лучше других и теперь-то, возможно, ей станет ясно, что у Бога любимчиков нет.
Миссис Констебль моих родителей не любила, потому что папа когда-то давно сказал кому-то в церкви, что дочка миссис Констебль живет во грехе с одной женщиной из Лидса. После этого миссис Констебль вообще перестала с моими родителями разговаривать, а мистер Констебль создал «Группу поддержки гомосексуальных семей», а это, по словам моего отца, прямой путь к одобрению безнравственности. Я, правда, был маловат, чтобы во всем этом разобраться, но папа объяснил мне, что быть геем – это очень плохо, неправильно, что так и в Библии написано. С тех пор, конечно, много воды утекло. Теперь-то подобная связь даже незаконной не считается. Ну вот как это может быть? Неужели правила настолько переменились? А если правила и впрямь переменились, как же теперь быть людям, которые за свои гомосексуальные наклонности были отправлены прямиком в ад? Получат ли эти люди полное отпущение всех грехов и свободу? Или так и будут вечно страдать в аду?
Сегодня во время перерыва на обед мы втроем снова поднялись в класс мистера Кларка. Мистер Кларк – Гарри! – проверял тетради. Он на большой перемене как раз обычно этим и занимается. А ребята из его класса либо ходят обедать в столовую, либо играют в футбол на школьном дворе, а некоторые предпочитают сидеть в гостиной – у старшеклассников есть своя гостиная. Те же несколько человек, что остаются в классе, жуют сэндвичи и слушают музыку. Иногда Гарри сам ставит какую-нибудь пластинку, а иногда позволяет ребятам выбирать.
Я сразу сказал, что хотел бы послушать «Animals». Голди промолчал – он уже развернул свой завтрак. Пудель тоже ничего не говорил и только смотрел на Гарри, как верный пес, ожидающий, что хозяин бросит ему печеньице.
Гарри быстро на меня глянул и вытащил из коробки какую-то большую пластинку в конверте.
– Сегодня я хочу поставить вам одну вещь, которую уже почти можно было бы назвать классикой. И, по-моему, это вам непременно понравится.
Это был альбом Дэвида Боуи «Взлет и падение Зигги Стардаста и марсианские пауки»[44]. О самом Дэвиде Боуи я мало что знал, хотя его фотографии в журналах, конечно, видел. Таких певцов, как он, мой отец особенно сильно презирает, а мистер Спейт и вовсе считает воплощением дьявола, потому что волосы у Боуи длинные, как у женщины, да и лицо тоже какое-то женское. Зато глаза горят, как у демона. Для моего отца каждое слово мистера Спейта свято, особенно когда речь заходит о демонах. Он считает, что мистер Спейт обладает особым нюхом, как собака-ищейка, и сразу способен учуять любое зло. Отец, во всяком случае, совершенно в этом уверен. Эх, если б он знал, какие демоны скрываются у нас дома, у него буквально под самым носом!
Мне хотелось получше рассмотреть фотографию на конверте, но Гарри отложил конверт в сторону, а пластинку протер мягкой тряпочкой и поставил на диск, а потом, как всегда, проверил проигрыватель – стоит ли нужная скорость и нет ли на игле пыли. Он вообще со своими пластинками очень осторожно обращается.
Я устроился возле учительского стола. Голди и Пудель тоже подошли ко мне и уселись рядом. А остальные ребята открыли свои коробки с завтраком и занялись едой. Я еще в самом начале перемены успел поменять один из своих сэндвичей на шоколадное печенье из коробки Голди, а шоколадку «Вэгон Уил» – на пирог со свининой, который притащил Пудель. Но есть я не стал: мне казалось неправильным что-то жевать, когда звучит музыка, которую для нас выбрал сам Гарри. Я чувствовал, что эту пластинку он поставил специально для меня, и понимал, что должен прослушать ее очень внимательно. А уж когда заиграла музыка, я и вовсе почти забыл о еде. У меня и мысли все словно разбежались. Мне казалось, что эта волшебная музыка смыкается вокруг меня, точно сжатые в кулак пальцы, и проникает мне прямо в сердце.
Я не очень-то хорошо разбираюсь в инструментовке, но все же сумел расслышать саксофон, гитары и несколько клавишных, а еще – несколько голосов (или, может, какой-то один голос, точнее, голос одного и того же человека?), рассказывавших некую историю, которую я уже откуда-то знал или просто видел во сне. Это было нечто удивительное, потрясающее. Поистине огромное. Более сильного впечатления я никогда не испытывал. Я сидел, совершенно потрясенный, забыв, что все еще держу в руках шоколадное печенье, и внимал этой музыке, едва осмеливаясь дышать. А Голди преспокойно жевал свои сэндвичи. И Пудель, как всегда, что-то рисовал на полях школьного дневника. Но никто из них, похоже, не ощутил того благоговейного ужаса, который внушала услышанная нами музыка. Для них это была просто музыка. А для меня она была словно распахнутая дверь, открывшая моей душе дорогу в иной мир.
– Можно еще раз это поставить, сэр?
Гарри по-прежнему проверял тетради, но, услышав мой вопрос, внимательно посмотрел на меня и улыбнулся.
– Неужели вы никогда раньше этого не слышали?
– Мой отец не любит рок-музыку.
– Это не просто музыка. Это вибрация души. Такое произведение не забудут и через пятьдесят лет.
И после этих слов я наконец сумел рассмотреть, что было изображено на конверте: Зигги Стардаст со своей гитарой, стоящий на каком-то ночном перекрестке под знаком, на котором написано «K. WEST». Оказалось, что это не фотография, а настоящий рисунок; художник очень тщательно прорисовал каждый кирпич в стене дома и блестящие дождевые лужи на асфальте. На переднем плане виднелась груда мусора и старые картонные коробки, а все вместе это создавало какую-то тревожную атмосферу грязных улиц, нездорового возбуждения и опасности. И хотя сам Зигги явно был звездой шоу, но на этом рисунке он казался маленьким и одиноким; он стоял под дождем у запертой двери дома, все окна которого приветливо светились желтым светом, но Зигги, никому не нужный, промокший насквозь, продолжал торчать снаружи, словно не желал, черт побери, обращать внимание на такую ерунду, как дождь.
И тут я вдруг с изумлением заметил, что Гарри немного похож на этого Зигги. Только Гарри был, конечно, постарше и в очках. Этакий повзрослевший, набравшийся опыта Зигги.
Я и через пятьдесят лет этого не забуду.
Через пятьдесят лет мне будет шестьдесят четыре. А потом еще каких-то шесть лет – и конец: семьдесят. Странно, отчего это у меня в душе каждый раз, даже в самые лучшие моменты жизни, возникают мысли о смерти? Эти мысли – точно привязчивая собака, которая тащится за тобой и никак не хочет отстать. И все же я понимал, что Гарри прав: эти мгновения я буду помнить до самой смерти.
– Мне бы очень хотелось, сэр, чтобы наша жизнь была как эта пластинка. Чтобы можно было взять и все начать сначала.
Он перестал проверять тетради и отложил ручку.
– Почему?
– Видите ли, сэр, – сказал я, – мне кажется, что все слишком быстро проходит. Проходит мимо. И не хватает времени, чтобы правильно понять происходящее. Словно за нас все уже решено и мы ничего не можем сделать, чтобы это изменить.
И тут я вдруг смутился. Надеюсь все же, что я не показался Гарри ни кривлякой, ни фриком. (Пожалуй, мои слова и впрямь прозвучали как-то чересчур претенциозно.)
Но Гарри и не думал надо мной смеяться.
– Понимаете, – сказал он, – жизнь – это дар Вселенной. И мы, все мы, вольны делать то, чего хочется нам самим. И все мы можем быть именно такими, какими захотим сами. Все мы можем меняться, если этого захотим. Для этого требуется всего лишь немного мужества.
– Мужества… – повторил я.
– Да, именно мужества. – И Гарри снова улыбнулся этой своей улыбкой. Когда он улыбается, то щурит глаза и становится похож на китайца. – Немного мужества – и все получится. И можно будет чувствовать себя совершенно свободным.
– Неужели вы действительно в это верите, сэр?
– Конечно, верю, – сказал он. – А вы разве нет?
Глава восьмая
7 сентября 2005
Пока что все в учительской согласны с тем, что наш новый директор – человек вполне здравомыслящий. Впрочем, доктору Дивайну чувство собственного достоинства не позволило поделиться своим мнением с нами, обычными преподавателями. А Эрик и вовсе залег на дно. Он даже меня избегает после своих позорных льстивых аплодисментов, которыми так старательно сопровождал каждое слово нового начальства. Зато все остальные уже высказали вслух уверенность, что Харрингтон для нашей школы будет очень даже кстати, – и наш капеллан доктор Бёрк, и Боб Стрейндж, и Робби Роач, наш подающий надежды историк, который, правда, так и не пришел в себя, узнав, что в ближайшее время в нашей школе появятся девочки из «Малберри Хаус»; это сообщение привело его в крайнее возбуждение, и он все никак не мог успокоиться. Роач, конечно, – полный идиот; Стрейндж – подхалим; ну а наш капеллан вообще существует в своем собственном мире, редко имеющем соприкосновение с реальной действительностью. Но мне казалось, что уж Эрик-то мог бы проявить по отношению ко мне хоть немного лояльности.
Я в последний раз налил себе чаю и приготовился возвращаться к себе на колокольню. Я вдруг почувствовал, что столь светло начавшийся осенний триместр не будет таким уж многообещающим. Проходя мимо кабинета Боба Стрейнджа, я услышал чьи-то громкие голоса и, заглянув в приоткрытую дверь, увидел, что перед письменным столом Стрейнджа стоит доктор Дивайн.
Он стоял вполоборота к двери, и нос его порозовел от избытка чувств, а голос звучал чрезвычайно возбужденно, когда он сказал:
– Рой Стрейтли знает…
Тут он заметил меня и умолк. На мгновение наши взгляды пересеклись. Он дважды раздраженно дернул носом и прямо у меня перед носом захлопнул дверь кабинета. Оставшись в коридоре, я тщетно пытался понять, что же такое я успел услышать.
Рой Стрейтли знает… Что я знаю? Что латынь может быть вообще исключена из государственного списка школьных предметов? Что мне не следует лакомиться лакричными леденцами? Что мои дни сочтены?
Добравшись до своего класса № 59, я обнаружил там молодого мужчину в комбинезоне, который, стоя на парте, протирал верхнюю часть дверной рамы. На вид ему было лет тридцать; стройный; острые черты лица; одет в голубую блузу с капюшоном и голубой комбинезон. Один из новых уборщиков, несомненно; все это затеи нашего казначея, связанные с экономией средств. Наверняка это он заменил кем-то более дешевым пожилую уборщицу Мэри, нравственные устои которой (вполне, впрочем, разумные) преломлялись в сложном наборе правил, понятных лишь ей одной.
Я протянул ему руку и сказал:
– Доброе утро. Я мистер Стрейтли, в данное время являющийся обитателем класса № 59. А вы кто?
Новый уборщик явно растерялся, поскольку я, пожилой преподаватель, первым обратился к нему.
– Э-э… моя фамилия Уинтер, сэр, – промямлил он. – Вы не возражаете, если я закончу? Мне просто показалось… уж больно здесь пыльно, сэр. Пол я уже вымыл, и все же…
Его речь показалась мне куда более правильной, чем можно было бы ожидать, хотя и несколько неуверенной, как бывает, если человек в детстве сильно заикался.
– Конечно, конечно, продолжайте. Рад был с вами познакомиться, мистер Уинтер.
Это его, похоже, несколько удивило. Наш казначей или Боб Стрейндж всегда обращаются к обслуживающему персоналу по имени. Но мне подобное высокомерие совершенно не свойственно. Пока новый уборщик сам не предложит мне называть его как-то иначе, он для меня будет мистером Уинтером, а я для него – мистером Стрейтли.
– И откуда же вы родом, мистер Уинтер?
– Из Белого Города. С того конца, где банк.
Ну что ж, по крайней мере, он местный. Это уже хорошо. Хотя, конечно, этому парню далеко до нашей Мэри, которая называла нас своими мальчиками; мне она порой приносила куски домашнего пирога, тяжелого, как бетон, и, завернув в салфетку, оставляла в нижнем ящике моего письменного стола, чтобы утром я мог сразу их там найти. Впрочем, новый уборщик, безусловно, лучше любого из нанятых по контракту уборщиков из Шеффилда или из Лидса, готовых работать за минимальную зарплату и в два раза быстрее, чем наша старая команда, зато и убирающих в два раза хуже.
Я сел, допил принесенный из учительской чай, поставил кружку на стол и спросил:
– Лакричный леденец хотите? – Я протянул Уинтеру пакет, и он выбрал голубой, а я взял «сэндвич» – он с одной стороны черный, а с другой желто-розовый. Если с кем-то разделить даже такую «трапезу», то сразу возникнет определенный контакт. Это одинаково для всех – и для моих коллег, и для моих учеников, и даже для Дивайна, который, как ни странно, любит утром выпить вместе со мной чашку кофе. Но, разумеется, доктор Дивайн и ему подобные никогда не станут водить компанию с человеком в спецовке. А я за тридцать четыре года в «Сент-Освальдз» отлично понял: школу поддерживает на плаву именно обслуживающий персонал – привратники, уборщики, секретари. Это, разумеется, секрет Полишинеля, однако он неизвестен таким людям, как мистер Стрейндж, которые слишком сильно заняты собственным статусом, собственным обогащением, государственным списком обязательных школьных предметов и прочими совершенно иррелевантными проблемами.
– Осторожней, мистер Уинтер, – сказал я. – Если можно, постарайтесь не проявлять к здешней пыли излишней жестокости. Мы с ней старые друзья и отлично друг друга понимаем.
Он улыбнулся.
– Я постараюсь, сэр.
Отмыв дверную раму, он принялся за верхние полки книжных шкафов. Сомневаюсь, чтобы их хоть кто-нибудь протирал с тех пор, как от нас ушла Глория, предшественница Мэри, красотка с испанскими очами. Во всяком случае, уборщик он явно старательный, подумал я. Хотя одного старания мало. Было бы неплохо, если б он обладал и еще кое-какими полезными качествами. Например, лояльностью.
Я горестно вздохнул. Слишком уж быстро все меняется на борту нашего дорогого старого фрегата. У руля теперь Джонни Харрингтон. В старших классах появятся девочки из «Малберри». А вместо привычных уборщиц – уборщики. Боже мой! Я поудобней устроился в кресле и вытащил школьный журнал за этот учебный год. По крайней мере, хоть мой-то класс остался прежним. Уже кое-что. Разные преподаватели могут уходить и приходить, сменяя друг друга, но наши мальчики, наши ученики, в целом остаются прежними: трепетными, полными неутолимого любопытства и энтузиазма, способными постоянно напоминать нам о том, что жизнь все-таки продолжается.
Сегодня был какой-то на редкость длинный день, и домой я добрался, когда уже совсем стемнело. Центральное отопление не было включено – я забыл поставить таймер, – так что пришлось поскорее разжечь газовый камин в гостиной и выпить горячего какао. В знакомой обстановке родного дома мне трудно было поверить, что жизнь моя уже пошла наперекосяк. Это-то и есть главная опасность моей профессии. «Сент-Освальдз» как бы втягивает в себя тех, кто там работает, обволакивая их точно коконом иллюзией постоянства и полной безопасности. Именно поэтому история с Гарри Кларком и оказалось тогда для всех нас полной неожиданностью. Даже доктор Дивайн утратил обычное равновесие. Даже наш Шкуродёр Шейкшафт. А я и сейчас еще чувствую отвратительную вонь того гнусного дела – словно где-то в классе за плинтусом сдохла от отравы мышь, но найти ее так и не сумели, и она по-прежнему лежит там, испуская зловоние.
Но, пожалуй, с этой историей я все-таки слишком забегаю вперед. К сожалению, в старости так часто бывает. Старея, человек начинает невольно перескакивать с одной мысли на другую, теряя нить повествования и забывая о времени. А то, что случилось давным-давно, вдруг становится в его восприятии ближе вчерашних событий. И мысли о давно, казалось бы, позабытых вещах и событиях вдруг снова начинают тебя тревожить, возникая в самое неподходящее время – особенно когда ты уже лег в постель и мечтаешь отключиться и заснуть, но это тебе никак не удается.
Сегодня по телевизору шел старый информационный фильм – такие фильмы раньше часто показывали; я давно их не смотрю, но многие помню вполне отчетливо. Например, некая зловещая личность в плаще с капюшоном наблюдает за группой детей, играющих рядом с затопленным карьером, где раньше добывали гравий; человек в капюшоне словно ждет того момента, когда обвалится край карьера, или сломается ветка дерева, или ушедший под воду заброшенный автомобиль вдруг словно оживет и поглотит свою юную жертву. ОПАСНО! КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО! – на экране то и дело появляется плакат с этой надписью, но играющие у воды дети не обращают на него ни малейшего внимания. И тогда за кадром слышится голос, зловещий, скрипучий, словно бросающий вызов всему живому: Я дух темных пустынных вод…
Почему мне вспомнилось сейчас именно это? Какая мысль пытается всплыть из глубин моего подсознания? От камня, упавшего в темные пустынные воды, до сих пор, даже двадцать четыре года спустя, по поверхности расходятся круги. И откуда-то из тайников моей памяти возникает голос того человека, лицо которого скрыто под капюшоном плаща…
Глава девятая
Осенний триместр, 1981
Дорогой Мышонок!
Голди считает, что Дэвид Боуи – гей. Он так сегодня и заявил, когда мы во время ланча сидели в классе Гарри. Отец Голди иногда читает проповеди у нас в церкви; он, насколько я знаю, абсолютно уверен, что Британии не дают развиваться именно гомосексуалисты, «мертвой хваткой вцепившиеся в науку и искусство».
– Да никакой он не гей, – сказал я.
– И вообще – куда важнее та роль, которую он играет в реальной жизни, – поддержал меня Пудель. – А он в реальной жизни женат и все такое. И вообще, сейчас уже восьмидесятые годы. Так что какая тебе разница? – Голди посмотрел на него с явным отвращением, но Пудель, как ни странно, на этот раз и не подумал заткнуться. – Я знаю, – сказал он, – что гомосексуализм в Библии считается грехом. С другой стороны, там грехом считается и употребление в пищу моллюсков и ракообразных.
Гарри в это время сидел за столом, проверяя тетради, но я был уверен: он к нашему разговору прислушивается. Он даже голову чуточку вбок повернул, словно стараясь ничего не пропустить. И на лице у него было какое-то очень странное выражение – вроде бы и улыбка, но не совсем.
– А вы как считаете, сэр? – напрямик спросил я у него.
Он посмотрел на меня:
– Вы это о чем?
– Вы же слышали: об этом грехе.
Гарри улыбнулся, и я уж решил, что и впрямь зашел слишком далеко. Но он сказал так:
– Я не верю, что на самом деле Богу есть дело до того, чем ты питаешься, как ты одет и кого ты любишь. По-моему, если уж Господь создал звезды, то впереди у Него еще немало иных великих планов и дел.
После этих слов наш разговор как-то сам собой увял. Но мне слова Гарри еще долго не давали покоя. Понимаешь, Мышонок, по-моему, он хотел сказать, что Господь слишком велик, чтобы беспокоиться о том, кто с кем каким сексом занимается. Да и с какой стати, в конце концов, это должно Его заботить? С какой стати Его вообще должны заботить отношения между людьми? И тут я, естественно, вспомнил о Моем Состоянии и стал думать о том, будет ли Богу все равно, если Он узнает, что я не такой, как все…
Разумеется, мои родители считают, что Ему это не безразлично. С другой стороны, мои родители очень религиозны: постоянно посещают церковь и верят во всю эту чушь. А отец иногда даже проповеди читает. После смерти Банни и того, что случилось в «Нетертон Грин», родители и меня стали заставлять ходить в церковь, надеясь, что это поможет мне преодолеть Мое Состояние. Однако Мое Состояние ничуть не изменилось; просто я научился лучше его скрывать. Я догадывался, что Господь либо не слышит меня, либо сам хочет, чтобы я оставался таким, какой я есть. А притворяться я здорово научился: то начинал всякую чепуху нести, то в обморок падал. Именно так и надо вести себя в нашей церкви – если, конечно, знаешь, что от этого тебе будет лучше. Иногда я таким образом даже развлекался. Сразу оказываешься в центре внимания, словно только что выиграл в футбол, и все вокруг орут, все тебя обнимают. Хотя меня обычно никто не обнимает. Меня не очень-то и обнимешь – не люблю я этого.
В «Нетертон Грин» меня считали фриком и странной личностью. А в этой школе, Мышонок, все по-другому. «Сент-Освальдз» вообще оказался местом вполне для меня подходящим. У меня там даже нормальное прозвище появилось. Разве я тебе не говорил? Да, это правда, и теперь меня все называют Зигги. Из-за моего любимого альбома «Ziggy and the Spiders from Mars». Прозвище – это в школе очень важно, особенно когда стараешься быть крутым и со всеми ладить. А такое прозвище, как Зигги, – это по-настоящему круто. Даже мой отец, похоже, так думает.
– Во всяком случае, твои дружки выглядят ребятами неиспорченными, – сказал он вчера вечером за обедом. (Неиспорченные – самая высшая похвала в устах моего папы). Дружки. А это уже смахивает на собачью кличку Дружок. Впрочем, и Голди, и Пуделю это слово очень подходит. Но вслух я, разумеется, ничего такого не сказал. Я уже давно понял, что далеко не все мои шутки папа воспринимает адекватно.
– Ага, они хорошие, – сказал я. – И весьма крутые.
– Не «ага», а «да», – поправила меня мама. – Ты что, американец?
Я только улыбнулся про себя. Для мамы американец – это почти так же плохо, как гей. Хотя есть, конечно, и хорошие (с ее точки зрения) американцы, которые возглавляют разные «харизматичные» церкви и выступают с проповедями против геев, чернокожих и евреев, которые разрушают их страну.
На самом деле их обоих, этих моих «почти-друзей», можно считать какими угодно, но «неиспорченными» они точно не являются. Голди – типичный ханжа, да еще и страшно высокомерный, а Пудель – просто маленький фрик, который занимается всякой ерундой и вечно что-то бессмысленно рисует или чертит. Он говорит, что ничего не может с собой поделать и это просто у него привычка такая. Даже не привычка, а что-то вроде тика. У него и другие привычки такие же; вечно он то пальцами барабанит, то дергается, то рожи корчит. В старое время его бы, наверно, юродивым назвали. Или одержимым. Эти церковники одержимых демонами просто обожают.
Отец мой, будучи прихожанином весьма активным, тоже очень демонами интересуется. Когда он читает проповеди, мать Пуделя на него прямо-таки щенячьими глазами смотрит. Смешно, до чего эти верующие женщины падки на некоторых проповедников. В нашей церкви таких фанатичек полно, поскольку она считается церковью харизматичной, и прихожан там великое множество. Иногда в нашу церковь приходит одна девушка из школы «Малберри Хаус»; она играет на гитаре и поет. Мне она кажется немного похожей на фламинго – наверное, из-за ярко-рыжих волос и длинной шеи. Голосок у нее типично «церковный», то есть чистый и гибкий, но не слишком богатый. Я как-то видел ее возле «Сент-Освальдз». Оказывается, у нее чуть ли не главная роль в совместном школьном спектакле. Видимо, она вообще выступать любит – и в церкви, и на сцене. Я заметил, как на нее смотрят другие мальчишки, особенно Голди и Пудель, но не могу понять, что они в ней такого находят. Вообще-то, она довольно хорошенькая, хотя и не в моем вкусе.
– Если тебе захочется пригласить своих друзей к нам домой, ты вполне можешь это сделать, – сказала мне мама, которая всегда старается помочь мне «поддерживать социальные контакты». Господь свидетель, ей бы радоваться, что у меня вообще появились какие-то друзья! Она всегда так об этом мечтала.
– В следующий четверг Ночь Костров, – продолжала она. – В парке разожгут большой костер. Я тут подумала: может, нам тоже туда сходить? Всем вместе, а? И после этого мы вместе с твоими друзьями могли бы вернуться к нам и выпить чаю. Можно было бы и родителей их пригласить…
Вообще-то, мои родители Ночь Костров не любят. Они считают, что этот праздник – прямой путь к язычеству. Как будто под эгидой церкви людей на костре заживо не сжигали! Однако мне было ясно: мама просто умирает от желания познакомиться с моими новыми замечательными друзьями и их родителями. И именно поэтому нам – Голди, Пуделю и мне – будет позволено праздновать в парке Ночь Костров, в то время как наши родители, устроившись у нас дома, будут пить шерри и обсуждать церковные дела и школу «Сент-Освальдз».
Я понимаю, все это выглядит просто отвратительно. Но пойми, Мышонок, все это части моего плана. Пудель правильно говорит: самое главное – та роль, которую ты играешь в жизни. Выбрав себе правильную роль, я смогу скрывать свое «я» где угодно даже при самом ярком свете. И, пока я буду играть эту роль, я смогу делать все, что мне угодно. Выбрав правильную роль, я и всех прочих смогу заставить делать все, что мне угодно, – и моих родителей, и Пуделя, и Голди, и учителей в школе. Все они будут плясать под мою дудку, как марионетки.
Почему? Да просто потому, что я это могу, вот и все. Почему Господь создал меня таким? Почему Господь забрал Банни? Почему? Потому что Он это мог. Потому что Он – Бог. Он создал нас всех по своему образу и подобию, не так ли? А значит, я – Его маленькая частица. Но наш Бог – не только большой шутник; Он еще и вор, и убийца. Как же Ему мной не гордиться, если я хочу стать таким, как Он?
Глава десятая
Осенний триместр, 1981
Мой разговор с юным Джонни Харрингтоном имел только один положительный результат: жалобы от его отца поступать перестали. Но я отнюдь не чувствовал, что мне удалось существенно продвинуться в понимании этого мальчика.
Я слово в слово помню его характеристику, полученную из прежней школы; она была написана от руки на предпоследней странице его личного дела в голубой обложке. «Харрингтон – ученик способный, хорошо себя ведет, пунктуален» – такой краткой отпиской учитель обычно отделывается в том случае, когда ему больше нечего сказать. А разве я сам сумел бы выразить словами то зыбкое ощущение, что с Харрингтоном что-то не в порядке, что ему словно чего-то не хватает? Ведь он не совершал никаких дурных или неправильных поступков. Его имя всего раз или два мельком упоминалось в связи тем, что кто-то другой затеял в классе небольшую драку, кто-то другой вслух выразил свое недовольство неудовлетворительным уровнем преподавания одного из предметов, кто-то другой оставил неуместное граффити на старой, покрытой рубцами дубовой стене школьной столовой. Впрочем, во всех этих случаях Харрингтон – как и двое его друзей – был объявлен невиновным. Каким-то он, пожалуй, выглядел слишком невинным для четырнадцатилетнего мальчишки; на мой взгляд, просто ненормально, если у подростка столь мало очевидных пороков.
«Однако, – говорилось далее в характеристике Харрингтона, – его оценки по английской литературе свидетельствуют, к сожалению, о недостаточно серьезном отношении и к данному предмету в целом, и к тому списку литературы, который рекомендован для самостоятельного чтения. Остается надеяться, что в следующем учебном году он проявит большее прилежание и поднимет свои оценки по английскому языку до того уровня, которого уже достиг по другим предметам».
Черт побери! Я начинал нервничать, потому что это было уж совсем неестественно. И дело вовсе не в том, что я предпочитаю бунтарей и хулиганов; но этих-то я, по крайней мере, способен понять. Я ведь и сам в четырнадцать лет отнюдь не был воплощением добродетели, благодаря чему и стал в итоге настоящим учителем, способным живо реагировать на любые поступки и переживания своих учеников. Однако я не находил абсолютно ничего, что можно было бы вменить в вину Харрингтону, Наттеру или Спайкли; они не совершали никаких проступков и ничем не нарушали нормы поведения, но мне не давала покоя их отчужденность, даже, пожалуй, некоторая надменность в отношениях с остальными.
Конечно, потом я об этом еще обязательно расскажу. Но даже и без этого ретроспективного взгляда, без этого безупречного «заднего окошка», через которое мы оглядываемся на последствия автокатастрофы, мимо которой только что проехали, я готов поклясться: я уже тогда почувствовал в «троице Харрингтона» что-то не совсем нормальное. Почувствовал, если угодно, на уровне чистой интуиции. Во всяком случае, с ними явно что-то было не так, и это вызывало во мне ощущение приближающейся беды.
Вторая половина осеннего триместра была, как обычно, отмечена празднованием Ночи Костров и моего дня рождения, а двумя неделями позже природа преподнесла нам неожиданный и довольно двусмысленный подарок – чрезвычайно ранний, внезапно выпавший снег, который мальчишки восприняли с безудержным восторгом в отличие от преподавателей, понимавших, сколь вреден может быть подобный «снежный» энтузиазм для нормального усвоения учебного материала.
Наш старый директор даже провел общее собрание, на котором применил самые разнообразные угрозы – по большей части неосуществимые, – обвиняя учеников в таких опасных забавах, как забрасывание друг друга снежками, а также в том, что они регулярно забывают вытирать ноги о коврик, входя в здание школы. Все его угрозы, разумеется, были проигнорированы. На мои уроки латыни мальчишки являлись в мокрых рубашках и носках, а насквозь пропитавшиеся водой башмаки оставляли в коридоре на радиаторах; в результате за три дня весь Средний коридор буквально провонял мальчишечьим потом и мокрой обувью.
Три вечера в начале декабря всегда полагалось отводить для встреч с родителями – с ними следовало обсуждать работу детей в классе, результаты экзаменов или еще какие-то вопросы, вызывавшие озабоченность той или другой стороны; впрочем, от родителей Харрингтона я особо серьезных претензий не ожидал. Да и юный Харрингтон после той нашей беседы возле школьных шкафчиков больше ни слова мне не сказал, а на вопросы в классе отвечал так холодно и снисходительно, словно оказывал мне этим большую услугу.
Впрочем, забот у меня хватало и без Харрингтона, и эти заботы отнимали немало времени. Один из моих учеников, например, завалил экзамен по латыни, и я был вынужден заниматься с ним дополнительно; у другого родители пребывали в состоянии развода, и он очень болезненно это переживал; кроме того, четверо моих учеников пятого года обучения были заняты в спектакле «Антигона» по пьесе Софокла, который ставили девочки из «Малберри Хаус», и в результате двое мальчишек влюбились в одну и ту же особу, исполнявшую главную роль, – довольно привлекательную рыжеволосую девицу, которой судьба явно сулила славный путь актрисы. Эта драматическая полудетская любовная история случилась в самое неподходящее время и вполне могла стоить всем троим как минимум снижения оценки на экзамене.
А потому вы должны понять, что Харрингтон застал меня врасплох, когда пришел ко мне сильно встревоженный и сказал, что ему необходимо серьезно со мной поговорить. Я заволновался. Во-первых, потому, что он обратил внимание на данную проблему раньше, чем это успел сделать я сам; а во-вторых, потому, что он, четырнадцатилетний мальчик, оказался на редкость проницательным. В итоге я был вынужден не только переоценить душевные способности Джонни, но и поставить под вопрос надежность моих собственных инстинктов.
Это случилось в последнюю неделю ноября, в пятницу. После обычной утренней Ассамблеи мальчики отправились в часовню, а я остался в своей классной комнате № 59, чтобы просмотреть кое-какие документы, касавшиеся группы четвертого года обучения. В восемь сорок пять небо все еще оставалось темным, но на нем уже появился какой-то болезненный оранжевый отблеск, не суливший ничего хорошего.
И тут в класс вошел Харрингтон; он был один; одежда, как всегда, тщательно отглажена; лицо сияет, точно сама весна.
– Простите, сэр, нельзя ли мне с вами переговорить?
Я поспешно отложил ручку и сказал:
– Конечно. А что случилось?
Он, похоже, некоторое время обдумывал мой вопрос, потом сказал:
– Возможно, что и случится.
– Ну ладно, – сказал я, – садитесь. И спокойно рассказывайте.
Признаюсь, сердце у меня ёкнуло. После того скандала с «mensa – merda» и последовавшего за этим потока жалоб от родителей Харрингтона я был почти уверен, что теперь не за горами обвинение меня, классного наставника, в богохульстве – скажем, из-за «Кентерберийских рассказов» Чосера, – или в нарушении моральных норм на уроках географии; хотя с тех пор, как я столь неудачно попытался побеседовать с Джонни возле школьных шкафчиков, возмущенных писем от Харрингтона-старшего больше не приходило. Их поток прекратился столь же внезапно, как и начался.
Джонни сел за одну из ближайших к моему столу парт. Мне всегда представлялось, что в облике классной комнаты № 59 есть нечто от морского судна; два двойных ряда деревянных парт, повернутых лицом к моей кафедре, напоминали скамьи гребцов на галере, а я, возвышаясь на кафедре, чувствовал себя капитаном на мостике пиратского корабля, взирающим на сидящих внизу рабов, прикованных к веслам. Но сейчас я чувствовал себя не капитаном, а Верховным судьей, выслушивающим жалобщика. Впрочем, Харрингтон говорил все тем же бесцветным голосом, что и всегда, но, как мне показалось, на этот раз голос его все же чуточку дрожал – возможно, то был отголосок неких тщательно скрываемых эмоций.
– Речь пойдет об одном моем друге, сэр, – сказал он. – Мне кажется, ему грозит беда.
Когда используется выражение «один мой друг», это обычно связано с проблемой весьма деликатного свойства. Интересно, думал я, почему с данной проблемой Харрингтон вздумал прийти именно ко мне, а, скажем, не к нашему капеллану, который в школе считается официальным советчиком по всем вопросам, касающимся души и сердца.
– Нет, сэр, это не я, – вновь проявил проницательность Харрингтон. – Это действительно один мой друг.
Что ж, у этого мальчика не так уж много друзей. Если он говорит не о себе, это могут быть только Наттер или Спайкли, остальные две трети неразлучной троицы. Дэвид Спайкли – это, на мой взгляд, самый обычный средний мальчик из самой обычной средней семьи, разве что, пожалуй, успехи у него так себе, особенно по французскому; но в целом вряд ли есть основания предполагать, что проблемы могли возникнуть именно у него. А Чарли Наттер – экземпляр и вовсе, по-моему, неинтересный; бледный худенький мальчик со следами экземы на руках; в классе вечно молчит; внимания к себе старается не привлекать.
А вот отец Чарли, Стивен Наттер, один из местных ЧП[45], похожий на резинового бульдога, всегда славился своими откровенными высказываниями. Он, как мне казалось, вполне мог быть разочарован тем, что у него такой заурядный сынок, – некоторые люди, особенно мужчины, испытывают острую потребность самоутвердиться еще и за счет своих отпрысков, и, насколько я мог это себе представить, Наттер-старший, готовясь стать отцом, безусловно, мечтал об ином сыне, куда более мужественном и успешном. Но его сын оказался удивительно похожим на мать; миссис Наттер, дама аристократически-бледная и вежливо-вкрадчивая, была такой же худенькой, хрупкой и остролицей, как Чарли. Она весьма активно занималась благотворительностью и часто выступала на страницах местной газеты «Молбри Икземинер» то с одной, то с другой доброй инициативой. Весьма сомнительно, что при таких родителях у Чарли Наттера было достаточно возможностей угодить в сколько-нибудь неприятную переделку.
– А ваш… друг… знает, что вы со мной разговариваете?
Джонни Харрингтон молча покачал головой. Мне с моего «капитанского мостика» был хорошо виден его идеальный, как по линейке, пробор.
– Но что заставляет вас думать, что он попал в беду? – спросил я. – Он сам вам так сказал?
– Нет, сэр.
– Что же тогда?
Признаюсь, то, что Харрингтон пришел за советом именно ко мне, вызвало в моей душе какие-то странные чувства. Отцовские, пожалуй. Возможно, мои суждения об этом мальчике оказались слишком поспешными, думал я; в конце концов, он ведь у нас новичок – хотя по возрасту он в любой средней школе оказался бы новичком, – и у него, скорее всего, имеются определенные трудности с привыканием к новым условиям и новому коллективу. Впервые мне подумалось, что мой в целом здравый, хотя, может, и грубоватый, подход к пастырским заботам в случае с Джонни Харрингтоном мог оказаться не самым лучшим.
И я сказал:
– Даже если мы с вами и несколько не совпадаем во взглядах на особенности английской литературы, вы, как я все же надеюсь, понимаете: что бы вы мне сейчас ни сказали, все это останется строго между нами. Я не бегаю с докладом к директору, если кто-то из моих учеников обратился ко мне за помощью. Итак, в чем, по-вашему, заключается проблема вашего друга?
Впервые мне показалось, что Харрингтон с трудом подбирает слова, не зная, как начать.
– Сэр, – начал он, – я не… то есть я хочу сказать…
– Не волнуйтесь, – подбодрил я его. – И не торопитесь.
Он на минуту отвел глаза, но руки его продолжали спокойно лежать на коленях. Затем он снова посмотрел прямо на меня и спросил:
– Сэр, вы верите в одержимость?
Часть вторая
O mihi praeteritos referat si Juppiter annos!
Vergilius[46]
Глава первая
8 сентября 2005
Официально восьмое сентября – первый день триместра. В этот день орды мальчишек вновь вторгаются на территорию школы. Насколько эффективней шла бы работа, если бы этого не происходило, но – насколько скучней.
– Доброе утро, сэр! – Это Аллен-Джонс. Он всегда ухитряется даже в первое утро нового триместра выглядеть так, словно спал одетым. На воротнике у него уже красовалось чернильное пятно, галстук был распущен, зато на лице сияла неизменная улыбка во весь рот – немного нахальная, но удивительно приятная.
– Доброе утро, мистер Аллен-Джонс. Судя по вашему чрезвычайно аккуратному внешнему виду, вы, как мне кажется, провели летние каникулы в полезных трудах, медитации и размышлениях о природе аблативных конструкций?
– Именно так, сэр! – заорал он, швыряя на парту школьную сумку. Прошлогоднюю, со словами «Привет, Киска!», он сменил на другую, еще более не подходящую для школы, и теперь нам предстояло любоваться персонажем комиксов – Чудо-Женщиной[47]. Это, разумеется, нарушение школьных правил, согласно которым учащимся запрещено украшать школьные сумки рисунками или стикерами; разрешается только школьный герб, и его Аллен-Джонс – в виде стикера – провокационно приляпал точнехонько в ложбинку между пышными грудями Чудо-Женщины. Подобные мелкие нарушения, как я знал по опыту, всегда имеют только одну цель: произвести впечатление. Но на эту наживку я, разумеется, не клюнул и – к некоторому разочарованию Аллен-Джонса – сделал вид, что не заметил ни его новой сумки, ни Чудо-Женщины, и принялся изучать новый классный журнал в девственно чистой бумажной обертке, который мне только что принесли из канцелярии.
Я сохранил руководство прошлогодним классом 3S. Правда, теперь он стал уже 4S – то есть был совершен еще один шаг, даже в наши переменчивые времена дающий ощущение надежности и непрерывности процесса. Когда же я наконец поднял голову и оглядел своих учеников, то в очередной раз испытал легкую тревогу – я, разумеется, знаю, что мальчикам в определенном возрасте свойственно очень быстро меняться, но даже после стольких лет работы учителем я никак не могу привыкнуть к тому, насколько они успевают вырасти за летние каникулы. Всего лишь в прошлом триместре они выглядели совсем детьми, а теперь внезапно возмужали, стали значительно шире в плечах и выше ростом, устремляясь ввысь, точно молодые деревца, решительно расталкивающие вокруг себя всю прочую растительность, дабы обрести необходимый простор для своих ветвей.
Все мои шуты гороховые, мои «Броди Бойз», на месте: Аллен-Джонс, Сатклифф, Макнайр. Здесь и Андертон-Пуллитт, немного странный маленький мальчик, в котором уже сейчас заметны черты будущего странного маленького мужчины. А вот и Джексон, большой любитель устраивать драки на школьном дворе; рядом с ним Пинк, наш философ, и Брейзноуз, толстый мальчик, которого мать явно перекармливает. Чуть дальше Ниу, японец, который вопреки всем культурным стереотипам обожает английскую литературу и ненавидит математику и естественные науки.
Ощущается, правда, и чье-то заметное отсутствие. Колин Найт – это имя я вычеркнул из журнала еще в ноябре прошлого года – по-прежнему где-то здесь и безмолвно участвует в общем сборе все с тем же сердитым выражением лица, словно на кого-то дуется. Этот мальчик единственный из всех не стал шире в плечах, ни капли не подрос, и растительности на лице у него не появилось, а голос так и не сломался. Не то чтобы я так уж часто мысленно с ним беседовал, но порой, в самых мрачных снах, он все же ко мне приходит. После его смерти некоторым моим ученикам понадобилась помощь психолога; вряд ли у Найта в школе было много друзей, но смерть ближнего, тем более одноклассника, – это поистине ошеломительный удар для тех, кто считает себя бессмертным.
Сегодня место Колина Найта опять осталось незанятым – это последняя парта в левом углу класса; хотя, по-моему, никто из мальчишек даже не задумался, почему никто из них туда не сел. Понимает это, наверное, только сама бывшая парта Найта, старый боевой конь, который, увы, помнит гораздо больше, чем ему хотелось бы.
Итак, передо мной новенький классный журнал, без единого пятнышка, каждая фамилия аккуратно впечатана, не оставлено никаких пропусков, и все же я невольно замираю, переходя от Джерома Б. к Ноктону Дж. и мысленно пропуская Найта К. – этой крошечной, едва заметной паузы мне вполне достаточно, чтобы можно было перевести дыхание и откашляться; и тут же я словно слышу, как с задней парты доносится это вечное «Сэр!», которое мальчик с сердитым выражением лица произносил, впрочем, с ледяной вежливостью.
Теперь мне иногда приходит в голову, что Колин Найт, пожалуй, хотел бы стать таким, каким был Джонни Харрингтон в юности – холодным, самоуверенным, даже чуточку нагловатым; во всяком случае, уж точно не испытывающим ни малейшего страха перед начальством. Не по этой ли причине я и Колина Найта недолюбливал? Не потому ли, что он чем-то напоминал мне юного Джонни Харрингтона?
– Я слышал, сэр, что с этого года у нас и девочки будут учиться? – Это сказал, разумеется, Тайлер; оба его родителя являются членами правления школы, так что все новости он узнает раньше меня.
– Это правда? – спросил Аллен-Джонс.
– Нас что, сливают с «Малберри Хаус»? – спросил Макнайр.
– Ну, технически это не совсем слияние… – поправил его Андертон-Пуллитт своим тягучим голосом. – По словам доктора Харрингтона, это связано с консолидацией ресурсов…
Похоже, мой Андертон-Пуллитт уже заинтересовался деятельностью антикризисной команды. Возможно, из-за прошлогодних трагических событий – ведь тогда он невольно оказался свидетелем тех ужасных обстоятельств, из-за которых Колин Найт и лишился жизни. Или, может, из-за того, что в этом году Андертон-Пуллитту поставили некий диагноз, требующий «особого обращения» и, как заверила меня его мать, полностью объясняющий некоторые весьма эксцентрические выходки этого ученика.
Я всегда считал, что особого обращения требует каждый ребенок, что это справедливо для всех моих мальчиков; но в наши дни, похоже, одни дети «равнее» других[48], так что я был вынужден проинформировать миссис Андертон-Пуллитт, что если ее сын будет выполнять все мои особые требования – например, вовремя сдавать домашние задания и внимательно слушать объяснения на уроке, – то и я буду обращаться с ним особым образом.
Впрочем, я не слишком на это надеюсь. Андертон-Пуллитт привык, что ему всегда слишком многое прощается, что, по-моему, для него отнюдь не полезно, а теперь эта привычка сочетается у него с самым настоящим нервным синдромом, и я совершенно уверен, что он не замедлит всем этим воспользоваться. В связи с этим, чувствую я, мне в ближайшем будущем предстоит немало встреч с миссис Андертон-Пуллитт; она наверняка попытается убедить меня, что ее сыну необходимо на экзаменах дополнительное время, что его следует освободить от спортивных занятий (спорт он терпеть не может), что я должен разрешить ему не выполнять домашние задания по тем предметам, которые не соответствуют его интересам, и так далее. Вполне вероятно, что вскоре наше с ней противоборство перерастет в постоянную конфронтацию. А если наш новый директор уже успел перейти на сторону Андертон-Пуллиттов…
– Значит, никаких девочек из «Малберри» в школе не будет? – спросил МакНайр.
– В нашем классе – нет! – твердо заявил Аллен-Джонс.
– Такое ощущение, словно тебе это не все равно, – сказал Пинк и усмехнулся.
– Наш класс – зона свободного садоводства, – сказал Аллен-Джонс.
Пинк фыркнул и как-то неприятно заржал. К нему присоединились и остальные мои «Brodie Boys», и мне показалось, что в этом веселье есть некий странный оттенок, не совсем мне знакомый. К тому же я успел заметить, что Аллен-Джонс странно, будто исподтишка, глянул на меня – словно тайком пытаясь определить степень моей заинтересованности.
– А что, девочки из «Малберри» уже фруктами считаются? – спросил Макнайр.
– Только если печешь пирог, – сказал Пинк, и все снова заржали, хотя, вообще-то, мальчишкам достаточно палец показать, и они уже готовы смеяться; эта почти экзистенциальная радость связана у них с прущей изо всех щелей молодостью, с тем чудесным, щекочущим изнутри ощущением, которое, едва возникнув, способно тут же охватить тебя целиком, так, что перехватывает дыхание. Иногда я и сам могу почти в точности вспомнить это ощущение – каким оно было в мои четырнадцать лет, когда казалось, будто внутри, где-то в районе солнечного сплетения, до предела заведена тугая часовая пружина, которая вдруг начинает раскручиваться, запуская в действие весь механизм, что и проявляется снаружи в виде неудержимого смеха. Теперь мой «механизм смеха», конечно, состарился, заржавел, и я крайне редко смеюсь даже просто в полный голос. А когда такое все же случается, то смех мой теперь звучит подобно резкому крику одинокой нескладной птицы.
Что это со мной сегодня такое? Чрезмерная сентиментальность никогда не была мне свойственна. Возможно, я просто вспомнил то старое дело, связанное с Харрингтоном, и теперь это не дает мне покоя. Черт бы побрал этого Харрингтона! Ну с какой стати ему понадобилось являться именно в нашу школу? Наверняка ведь у него имелся выбор – сотня других «неуспешных» школ, которые испытывают потребность в таком супердиректоре. Почему же он выбрал именно «Сент-Освальдз»? Даже если предположить, что он, приближаясь к так называемому среднему возрасту, вдруг испытал некую странную ностальгию, то его воспоминания о «милой старой школе» вряд ли могли быть настолько сладостными.
Прозвучал сигнал к началу уроков. Мальчики мои разбрелись по своим группам, одни поспешно, другие нога за ногу. Андертон-Пуллитт ушел последним и все еще что-то искал у себя в парте, даже когда на урок уже явилась моя новая латинская группа (ребята первого года обучения).
Я с трудом подавил желание сделать парнишке резкое замечание. Андертон-Пуллитт всегда опаздывает, что вызвано его неспособностью вовремя остановиться и перестать перекладывать с места на место свои учебники и тетради. Судя по тому, что написано в его личном деле, это некая навязчивая идея, связанная с его болезненным синдромом и требующая сочувственного и терпеливого отношения. Я, правда, на сей счет придерживаюсь несколько иного мнения, но, учитывая сложившийся в школе климат, мне свое мнение лучше держать при себе. И потом, сегодня меня что-то чересчур активно преследуют призраки моих бывших учеников, которые словно все время что-то нашептывают мне в уши, так что я, стоило мне повернуться к доске, впервые за двадцать четыре года чуть не написал, как когда-то, merda, merdum… и так далее вместо привычного mensa.
А уж неожиданный стук в дверь посреди урока окончательно вывел меня из равновесия. В «Сент-Освальдз» не принято, чтобы преподаватели во время занятий слонялись из класса в класс или директор неожиданно являлся к тебе на урок как раз в тот момент, когда ты, например, пытаешься объяснить двадцати четырем непоседливым первогодкам особенности первого склонения.
– Quid agis, Medice?[49] – сказал я, за шуткой скрывая свое удивление и негодование.
Услышав это, вошедший в класс Харрингтон засиял такой улыбкой, словно включил автомобильные фары.
– Надеюсь, вы не будете возражать, мистер Стрейтли, если я немного посижу у вас на уроке? – сказал он. – Я собираюсь в ближайшие несколько недель постоянно посещать занятия в разных классах, ибо мне, новичку, нужно поскорее ознакомиться с оснасткой и вооружением нашего старого судна. – Последние слова были явно адресованы моим первогодкам, которые послушно заулыбались и зашаркали ногами.
Харрингтон отыскал себе местечко – на последней парте в том самом левом углу, где раньше сидел Колин Найт. Ну, естественно! Этого и следовало ожидать. Впрочем, за тридцать четыре года работы в «Сент-Освальдз» я научился любую бестактность воспринимать с бесстрастным выражением лица. Я даже ухитрился улыбнуться Харрингтону и сказал с напускной строгостью:
– Вот и отлично, молодой человек. У нас сейчас, как вы видите, начальный курс латыни, но не думайте, что вам придется так уж легко. Давайте-ка проверим, что вы еще помните.
Глава вторая
Осенний триместр, 1981
Дорогой Мышонок!
Remember, remember the Fifth of November. Gunpowder, treason and plot[50]. Странно все-таки, что мы празднуем и прославляем смерть. Даже в церкви почти все изображения так или иначе связаны с пытками и страданиями. А ты знаешь, как поступили с Гаем Фоксом? Он спрыгнул с эшафота и сломал себе шею, обманув надежды толпы, собравшейся поглазеть на казнь. Но его все равно сперва повесили, потом четвертовали, а потом надели его отсеченную голову на пику, словно он все еще казался им недостаточно мертвым. Мой папа говорит, что это варварство. Однако и он как ни в чем не бывало ходит вместе со всеми в церковь, где мы постоянно видим Иисуса, гвоздями прибитого к кресту, и святого Стефана, пронзенного множеством стрел. Ну и в чем здесь разница? Мертвый – это мертвый, и мученичество очевидно каждому, кто на это смотрит. Иисус умер, чтобы мы могли жить. Но это звучит куда лучше, чем описание той жертвы, которую он принес. Вообще-то, в целом это похоже на покупку дивана в рассрочку, когда ежемесячно приходится вносить определенную сумму, вот только под конец всех выплат диван успевает здорово износиться.
Я однажды задал мисс Макдональд вопрос: «Почему люди умирают?» И она сказала: «Чтобы освободить место детям, которые еще не родились».
Знаешь, меня это совершенно не убедило. С какой стати нам нужны еще какие-то младенцы? И, если бы новые младенцы на свет не появлялись, я бы жил вечно?
Сегодня в парке Молбри праздновали Ночь Костров. Там еще на прошлой неделе начали к этому готовиться: сложили огромный костер вышиной с дом, навалив целую груду старых соломенных тюфяков вперемешку с дровами, пачками газет и чучелами людей, сделанными из старых половиков и рваной одежды. По сравнению с тем, как пылал этот костер, устроенные неподалеку фейерверки выглядели довольно жалко. Я подошел к огню так близко, как только мог. Сердцевина костра была ярко-оранжевой, а пламя ревело, как разъяренный лев. Я еще подумал, что именно так, наверное, пылает огонь в аду. В награду за смелость я получил глазированное яблоко на палочке. А потом Пуделя стало тошнить от дыма, и нам пришлось отойти от костра подальше.
– И зачем тебе вообще понадобилось так близко к огню подходить? – сердито спросил Голди, сильно раскрасневшись от жара.
– Мне хотелось узнать, каково это – стоять у врат ада, – сказал я, и Голди как-то странно на меня посмотрел, а я прибавил: – Между прочим, когда люди то и дело сжигали на костре ведьм, они считали, что поступают по отношению к ним очень хорошо, проявляя истинное добросердечие и как бы помогая несчастным привыкнуть к тому, что ждет их впереди. Получалось что-то вроде тренировки на выносливость.
– Гадость какая! – возмутился Пудель.
– Не знаю, не знаю… – покачал головой я. – По-моему, это круто.
В том-то и дело, что Голди и Пудель далеко не всегда меня понимают. Да и в целом у нас не так уж много общего. Если, конечно, не считать того, что все мы новички. И каждый – единственный ребенок в семье, ни у кого из нас нет ни сестер, ни братьев. А кроме того, неплохо иной раз хоть с кем-нибудь в церкви словом перекинуться, или сесть рядом на занятиях в школе, или хотя бы просто вместе посмеяться. Наверное, это означает, что я все-таки сумел влиться в коллектив. Внимания к себе я не привлекаю, а потому и со стороны моего отца у меня никаких неприятностей не возникает – и это для всех желанная перемена по сравнению с тем временем, когда я учился в «Нетертон Грин».
Когда мы вернулись из парка домой, там нас ждали и паркины[51], и имбирное печенье, и сэндвичи, а также мистер и миссис Пудель и мистер и миссис Голди. Все взрослые вырядились, как в церковь, и сидели у нас на лужайке, обсуждая школу «Сент-Освальдз». Мистер Пудель говорил о том, что поступление в эту школу – самое лучшее событие в жизни его сына за последние несколько лет, а все остальные только кивали как заведенные.
– Не уверен, впрочем, насчет их классного наставника, – продолжал мистер Пудель. – Мне он не кажется достаточно здравомыслящим.
Здравомыслящим! Ох, Мышонок. Опять это слово!
– Зато капеллан у них, безусловно, человек здравомыслящий, – сказал папаша Голди. – А также, разумеется, Джон Спейт. Вот уж кто человек действительно разумный! Если вам когда-нибудь понадобится с кем-то спокойно посоветоваться…
Мой отец быстро на меня глянул и сказал:
– Да, Джон Спейт просто замечательно умеет с мальчишками обращаться. Жаль, что не он у нас классный наставник. А кстати, кто еще ведет классы в школе второй ступени?
– Ну, мистер Стрейтли, мистер Скунс и еще… – Гарри, чуть не вырвалось у меня, – мистер Кларк. – Я взял кусок паркина и, заметив, что Пудель как-то искоса на меня поглядывает, тут же изобразил улыбку. А потом как ни в чем не бывало продолжил: – Но мистер Спейт и правда крутой. Мне лично хотелось бы, чтобы он у нас был классным наставником.
Я заметил, что папе мои слова пришлись по душе.
– С другой стороны, не могут же все школьные преподаватели нам нравиться, – примирительным тоном сказал он. – Школа для того и существует, чтобы вы могли научиться общению и с теми, кто ваши взгляды вовсе не разделяет.
Господи, если б он знал! Я украдкой подмигнул Пуделю. Ему, бедняге, похоже, все еще было не по себе. У него даже глаз начал немного дергаться.
– Да нет, наш мистер Стрейтли тоже вполне ничего, – бодро сказал я. – Особенно если ты – один из его любимчиков. А их у нас в классе несколько. Они даже во время обеденного перерыва с ним в классе остаются.
Папа нахмурился.
– Боюсь, я подобного поведения совсем не одобряю, – сказал он. – Мне всегда казалось, что преподавателям не следует брататься с учащимися.
– Ой, да нас-то он в эту компанию и не приглашает, – поспешил я его успокоить. – Ведь, с его точки зрения, мы ничего особенного собой не представляем.
Больше мне говорить ничего уже не требовалось; и так было совершенно ясно, что брошенное мной семя упало в благодатную почву. Точнее, несколько семян, причем все довольно ядовитые. И в случае удачи все они вполне могут прорасти. В конце концов, юность – лучшие годы нашей жизни. Когда и веселиться, как не в юности, верно? Вот мы и развлечемся немного. Не так уж у меня в жизни много веселья – не считая, конечно, тех счастливых мгновений, которые мне удается провести в обществе Гарри. Но все еще может измениться. И я очень на это надеюсь. Но мистеру Стрейтли лучше все-таки не вставать у меня на пути. Потому что с теми, кто пытается мне помешать, иногда случаются всякие нехорошие вещи. Мистер Стрейтли вполне заслужил небольшой сюрпризик. А я – небольшое развлечение. Ведь во мне, как справедливо сказал Гарри, заключено куда больше, чем может показаться с первого взгляда.
Глава третья
Осенний триместр, 1981
– Что вы имеете в виду? И что, по-вашему, означает слово «одержимость»? – спросил я, хотя, пожалуй, и несколько резковато. – Уж не то ли, что подразумевают под этим девять десятых наших законов?
Он покачал головой.
– Нет, сэр.
– В таком случае что же?






