Завоеватель Иггульден Конн
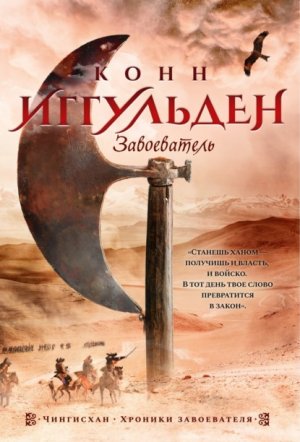
– Это потому, что ты слишком молод, – пожал плечами Субудай и тихо вздохнул. – В этой долине могут лежать кости, останки мужчин и женщин, некогда считавших себя важными особами. Мы о них думаем? Разделяем их мечты и страхи? Конечно, нет. Для живущих они ничто, мы даже имен их не знаем. Одно время я хотел, чтобы меня помнили, чтобы через тысячу лет люди говорили обо мне. Сейчас же мне все равно, ведь от меня останутся только пыль и дух. Может, одна пыль, но я надеюсь, что и дух. С возрастом поймешь: важно одно и только одно – то, что ты жил по совести и чести. Без совести и чести быстрее не умрешь, но станешь ничтожнее пыли на сапогах. Пылью ты станешь в любом случае, но зачем короткую жизнь проживать впустую? У твоего отца ничего не получилось, но он был сильным и искал лучшей доли для своего народа. Он жил не впустую. О большем и мечтать не приходится. – Долгая речь утомила старика. Он откашлялся и плюнул на землю. – Жизнь коротка, Бату. Эти горы будут стоять здесь и после меня, и после тебя.
– Я ведь даже не знал отца, – тихо проговорил Бату после длинной паузы. – Мы с ним никогда не встречались.
– А мы встречались, и я очень об этом сожалею, – сказал Субудай. – Так я понял, что такое честь. Ее ценишь, лишь когда теряешь, когда становится слишком поздно.
– Ты человек чести, Субудай, если я хоть немного в этом разбираюсь.
– Когда-то это так и было, но мне следовало ослушаться приказа твоего деда. Убить его родного сына… Полное безумие, но я был молод и преклонялся перед ним. Надо было развернуться и ехать прочь, а не разыскивать Джучи на русских равнинах. Тебе не понять. Ты когда-нибудь убивал?
– Знаешь ведь, что убивал!
– Не на войне, а так, чтобы в глаза смотреть?
Бату медленно кивнул. Субудай хмыкнул: кивок он едва увидел.
– Ты имел на это право? Отнять годы, которые мог прожить убитый?
– В тот момент думал, что имел, – неуверенно ответил Бату.
– Ты слишком молод. Когда-то я тоже верил, что сумею обратить свои ошибки во благо. Что моя вина возвысит меня над остальными. В цвете лет я верил, что ошибки меня многому научат. Как бы то ни было, Бату, ошибку не сотрешь и не исправишь. Грех не искупить. Слышал это слово? Так христиане называют черное пятно на душе. По-моему, очень точно.
– Они же твердят, что то пятно стирается исповедью.
– Неправда! Какой же человек стирает ошибки болтовней? С ошибками нужно жить. Наверное, это и есть наказание. – Субудай усмехнулся, словно вспомнив что-то давнее. – Твой дед забывал неудачные дни, словно их не было. Я очень завидовал его умению. Порой и сейчас завидую. – Субудай перехватил взгляд Бату и вздохнул. – Выполняй обещания, сынок. Ничего другого я тебе не скажу.
Тут старик вздрогнул, будто от сквозняка.
– Чингисхан, если это ты, то мне нет до тебя дела, – пробормотал он так тихо, что Бату едва расслышал. – Твой внук сам о себе позаботится. – Затем Субудай поплотнее запахнулся в дээл. – К своим тебе возвращаться уже поздно, – чуть громче сказал он. – Оставайся, у тебя здесь права гостя, а утром позавтракаешь – и в путь. Пойдем?
Взошла луна, и Субудай, не дожидаясь ответа, побрел к юрте. Бату радовался, что приехал сюда, и почти решил, как быть дальше.
Ям в безлюдной степи – зрелище удивительное. В трехстах милях к северу от Каракорума он служил одной-единственной цели – помогать гонцам, странствующим на восток до империи Цзинь, на запад до Руси и на юг до Кабула. Снедь и утварь привозили на подводах теми же дорогами. Когда-то здесь стояла юрта с парой свежих лошадей, а сейчас Бату смотрел на строение из серого камня с красной черепичной крышей. К нему жались юрты – вероятно, для семей ямских гонцов и нескольких покалеченных воинов, которые здесь осели. Бату лениво подумал, что когда-нибудь тут появится деревня. Ямские служители, в отличие от их предков, за теплом следовать не могут.
По пути из своих новых земель Бату держался подальше от почтовых станций. Приметят его тумен – и помчится гонец к следующему яму. На пересеченной местности гонцов не обогнать, и вести о перемещении Бату попадут в Каракорум задолго до него самого. Отправляя послание, свою свиту он оставил в лесу среди сосен и берез – там их не увидят, – а сам поехал дальше с двумя разведчиками. На склоне холма он привязал коня и выслал разведчиков вперед.
Теперь Бату лежал на животе, нежился в лучах солнца и наблюдал за своими дозорными. Над ямом курился дымок; издалека были видны фигурки лошадей, щиплющих траву. Едва разведчики вошли в ям, Бату перевернулся на спину и уставился в небо.
Одно время он сам хотел быть ханом. Появись шанс в ту пору, рискнул бы без долгих раздумий. Тогда жизнь была проще: они с Субудаем продвигались на запад. Смерть Угэдэя не просто остановила Большой поход. Хан старался вытащить Бату из бедности, жаловал ему повышение за повышением, пока не доверил командование туменом. Пожалуй, не следовало удивляться, что Угэдэй упомянул его в завещании, но Бату удивился: он не ждал ничего. Объезжая свои новые земли, он нашел следы монгольского лагеря – обвалившиеся юрты, грубые деревянные строения. Он обыскал их все и в одной нашел гнилое седло с клеймом отцовских туменов. Угэдэй даровал ему те земли, куда Джучи сбежал от Чингисхана. Тогда Бату прижимал к себе седло и оплакивал отца, которого не знал. С тех пор в нем что-то изменилось. Сейчас он смотрел в безоблачное небо и спрашивал себя: «Где честолюбивые желания? Где амбиции?» Ни того ни другого Бату не чувствовал. Не быть ему ханом. Пусть народом правит самый достойный из них.
Он провел ладонью по земле и вырвал пучок травы с корнем. Греясь на мирном ласковом солнце, размял землю: теперь ветерок ее развеет.
Высоко в небе кружил ястреб: вероятно, его заинтересовал человек, неподвижно лежащий в траве. Бату поднял руку; он знал, что даже с головокружительной высоты птице видна любая деталь.
К возвращению разведчиков солнце уже поменяло свое положение на небе. Вышколенные, они сделали вид, что не заметили Бату, и, пока были видны с яма, поднимались по склону. Он двинулся следом, то и дело оглядываясь. Спрашивать, передано ли послание, не имело смысла. На почтовых станциях все отлажено. Гонец наверняка уже скакал к следующему яму, милях в двадцати пяти от Каракорума. Через три дня его запечатанное послание попадет в руки Дорегене.
Бату шагал по высокой зеленой траве, глубоко задумавшись. Неудачный курултай опозорит Гуюка. Одновременно с ним другое послание получит Байдар, и, если воспользуется обещанием поддержки, многое изменится. Байдар станет лучшим ханом, чем Гуюк, в этом Бату не сомневался. На миг ему послышался шепот: какой-то старческий голос уверял, что из него самого выйдет хороший хан. Бату решительно покачал головой, отгоняя наваждение. Его отец хотел идти своей дорогой, прочь от ханов, прочь от стад. Разговор с Субудаем помог иначе взглянуть на время: десятилетия, даже целые века Бату увидел глазами старика. Не потерять бы это ощущение!
Он попробовал представить себе все возможные варианты будущего, потом бросил. Все просчитать нельзя. Неужели его конь скачет по костям мертвецов? Бату содрогнулся даже под теплыми солнечными лучами.
Глава 3
Давно Каракорум не видывал такого множества людей. Насколько хватало глаз, землю покрывали юрты. Целые семьи приехали увидеть, как народ принесет клятву верности новому хану. Байдар привел с запада два тумена, двадцать тысяч воинов, которые разбили лагерь у реки Орхон и теперь охраняли его. Рядом устроили лагерь четверо сыновей Сорхатани, приведшие тридцать тысяч семей. Гости заняли всю равнину; прибывшие позднее, не найдя лучшего места, ставили юрты на холмах.
При таком количестве народа тишина невозможна. Вокруг города перемещались огромные стада блеющих овец, коз, верблюдов и яков: каждое утро их гнали на пастбища, где хватало травы и воды. За несколько недель берега реки превратились в коричневую грязь. Уже случались и драки, и даже убийства. Как собрать в одном месте столько людей и чтобы никто не схватился за меч? Тем не менее дни проходили сравнительно спокойно; люди ждали, понимая, что многие вынуждены проделать долгий путь. Высокие гости ехали из Корё, что на востоке цзиньской территории, другие спешили в Каракорум из новых поселений в Персии. Чтобы собрать курултай, ушло три месяца. До дня принесения клятвы народ был готов питаться тем, что посылают из города.
Дорегене не помнила, когда спала в последний раз. Вчера выкроила пару часов… или это было позавчера? Мысли текли вяло, все суставы болели. Она понимала: нужно поспать, и чем скорее, тем лучше, не то толку от нее не будет. Порой она держалась на одном возбуждении. На организацию курултая ушли годы работы, и сейчас дел было невпроворот. Провизии заготовлено много, но, чтобы накормить гостей, требовалась целая армия слуг. Зерно и сушеное мясо выдавалось каждому тайджи, главе каждого рода, коих набралось больше четырехсот.
Дорегене вытерла лоб ладонью и с любовью глянула на Гуюка, который стоял у открытого окна. Городские стены стали выше, чем прежде, но наследник видел целое море юрт, тянущихся за горизонт.
– Их так много, – пробормотал он.
Дорегене кивнула.
– Почти все прибыли. Ждем только Чулгатая, ему ведь дольше всех добираться. И Бату наверняка вот-вот объявится. Сюда спешат еще десяток не столь могущественных военачальников, сын мой. Я отправила гонцов, чтобы поторопили их.
– Порой я не верил, что все получится, – проговорил Гуюк. – Напрасно я в тебе сомневался.
Дорегене улыбнулась нежно и снисходительно.
– Зато ты научился терпению. Для хана это ценное качество.
У нее закружилась голова. Она вспомнила, что не ела целый день, и велела слугам чего-нибудь принести.
– Главное – Байдар, – проговорил Гуюк. – Уверен, его присутствие заставило и Бату изменить решение. Скажешь теперь, что посулила моим любимым двоюродным братцам?
Дорегене на миг задумалась и кивнула.
– Когда станешь ханом, должен будешь знать все, – сказала она. – Я посулила Байдару десять тысяч слитков серебра.
Гуюк изумленно вытаращился на нее. Столько серебра добывают на всех известных им приисках и, возможно, не за один год.
– А мне ты что-нибудь оставила? – осведомился он.
– Какая разница? – пожала плечами Дорегене. – Серебро на приисках не кончится. Какой резон держать слитки в тайниках под дворцом?
– Но десять тысяч слитков… Я не знал, что на свете столько есть!
– Когда Байдар станет приносить клятву, будь вежлив, – с усталой улыбкой проговорила Дорегене. – Он богаче тебя.
– А как же Бату? Раз тайники опустеют, что он пожелает в обмен на свою драгоценную клятву?
Регентша прочла усмешку в лице сына и нахмурилась.
– С ним ты тоже будешь держаться достойно. По твоим глазам, сынок, он не должен прочесть ничего. Хан не показывает людишкам, что они для него пустое место.
Гуюк не сводил с нее взгляд, и Дорегене вздохнула.
– Мы обменивались письмами через ямских гонцов. Я сообщила, что Байдар обещал принести тебе клятву, и Бату не смог отказать. Представь, я ничего ему не посулила. Я лишь сберегла его гордость.
– Гордости у него предостаточно, только это не важно. С удовольствием унижу его перед всем народом.
Разом потеряв терпение, Дорегене закатила глаза. Ну сколько раз ей нужно объяснять, чтобы сын понял?
– Если так поступишь, наживешь врага. – Дорегене положила руку сыну на плечо, не позволяя отвернуться. – Ты должен понимать это, если не думаешь, что я правила Каракорумом, полагаясь на одну удачу. Когда станешь ханом, обязательно будешь привечать тех, за кем сила. Если сломишь Бату и оставишь его в живых, он будет ненавидеть тебя до самой смерти. Если унизишь его, он не упустит шанса отомстить.
– Чингисхан в такие тонкости не вдавался, – заявил Гуюк.
– Зато вдавался твой отец. Он куда лучше Чингисхана понимал, как управлять народом. Чингис только и умел, что воевать. Держава под его рукой не знала бы мира. А под моей рукой знает. Не отмахивайся от моих советов, Гуюк.
Сын удивленно на нее взглянул. Дорегене правила народом уже более пяти лет, с тех пор как умер Угэдэй-хан. Из них два года она фактически продержалась одна с Сорхатани: войско было далеко на чужбине. О ее трудностях Гуюк прежде едва задумывался.
– Я не отмахиваюсь, – проговорил он. – Думаю, ты подтвердила, что я признаю право Бату на дарованные ему земли. Или ты предложила ему стать орлоком моего войска?
– И то и другое. Второе предложение Бату отверг. Сынок, он не из тщеславных, и это нам на руку. В трусости дело или в слабости – не важно. Как принесет клятву, отправишь его домой с богатыми дарами. Больше мы о нем не услышим.
– Боюсь я только его, – сказал Гуюк, точно самому себе. В кои веки он не лукавил, и мать стиснула ему плечо.
– Бату – прямой наследник Чингисхана, старший сын его старшего сына. Ты не зря его боишься, но больше бояться не надо. Вот соберутся все, ты созовешь тайджи и полководцев, в том числе и Бату, к себе в шатер на равнине. Ты примешь их клятвы, а в следующие недели объедешь все тумены – пусть преклоняют пред тобою колени. Так тебя увидят полмиллиона человек – в городе столько не собрать. Вот как я тебе помогла, сын мой. Вот что ты заслужил своим терпением.
Сорхатани осторожно спешилась вслед за своим старшим сыном, Мунке. Тот протянул руку, чтобы помочь ей, и она улыбнулась. Как хорошо, что они снова в Каракоруме! Центр власти далеко от ее родного Алтая, но это не значит, что она не следила за мудреными политическими играми Дорегене и Гуюка. Сорхатани глянула на своего старшего и пожалела, что он поспешил с обещанием, только это теперь дело прошлое. На глазах Мунке его отец, Толуй, сдержал слово ценой собственной жизни. Разве его сын станет клятвопреступником? Нет, этому не бывать. Спешился он с достоинством; настоящий монгольский воин буквально во всем, даже во внешности – лицо круглое, плечи широкие. Носил Мунке самые простые доспехи и слыл ярым ненавистником цзиньских изысков. «Не видать нам сегодня дорогих кушаний», – с досадой подумала Сорхатани. Мунке ратовал за скромность, видя в ней непонятное благородство. По горькой иронии, многие возжелали бы именно такого хана, особенно старые военачальники. Иные шептали, что Гуюк ведет себя не по-мужски, мол, в отцовском дворце он превратился в женщину. Иные возмущались, что по примеру отца он окружил себя надушенными цзиньскими учеными с их мудреными письменами. По первому зову Мунке добрая половина монголов встала бы под его знамена, прежде чем Гуюк почуял бы опасность. Только слово Мунке – железо, дал он его давно и на эту тему даже говорить с матерью отказывался.
Сорхатани услышала радостные крики и раскрыла объятия: навстречу ей ехали другие ее сыновья. Первым подоспел Хубилай, соскочил с коня, обнял мать и закружил ее. Странно видеть сыновей взрослыми, хотя Хулагу и Ариг-Буга еще очень молоды.
От Хубилая пахло яблоками. Вот он опустил мать наземь, чтобы обняла других сыновей. Тонкий аромат – еще один признак влияния цзиньской культуры, еще одно отличие от Мунке. Хубилай был высоким и худощавым, хотя с тех пор, как Сорхатани видела его в последний раз, сильно раздался в плечах. Волосы он убирал на цзиньский манер: гладко зачесывал назад и заплетал в тугую косу, которая раскачивалась в такт его движениям, словно хвост раздраженного кота. На нем был простой дээл; тем не менее, глядя на Хубилая и Мунке, никто не принял бы их за братьев.
Сорхатани отступила на шаг, любуясь четырьмя молодыми мужчинами, каждого из которых любила по-своему. Она заметила, что Хубилай кивнул Мунке, а тот едва ответил на приветствие. Мунке не одобрял манер брата, хотя, наверное, у братьев-погодков такое не редкость. Хубилая возмущало, что Мунке на правах старшего командует остальными. Сорхатани вздохнула: хорошего настроения как не бывало.
– Мама, юрта для тебя готова, – объявил Мунке, протягивая руку, чтобы отвести ее.
– Чуть позже, сынок. Я долго ехала сюда, но совсем не устала, – с улыбкой проговорила Сорхатани. – Расскажите, как дела в лагерях.
Мунке задумался, тщательно подбирая слова, и паузой воспользовался Хубилай:
– Байдар весь какой-то скованный. И чопорный. Поговаривают, что он даст клятву Гуюку. Большинство тайджи помалкивают о своих намерениях, но, по-моему, Дорегене с сыном своего добьются. Вот приедет Бату, и у нас будет новый хан.
Мунке свирепо глянул на брата, посмевшего заговорить первым, но тот ничуть не смутился.
– А ты, Хубилай, принесешь клятву верности Гуюку? – спросила мать.
– Поступлю так, как ты велела, мама. – Тот раздраженно поджал губы. – Не потому, что считаю это правильным, а потому, что не хочу противостоять ему в одиночку. Я сделаю так, как ты хочешь.
– Непременно, – коротко проговорила Сорхатани напряженным голосом. – Хан никогда не забудет, кто выступил за него, а кто – против. Твой брат уже присягнул ему. Если Гуюку поклонятся Бату и Байдар, я сама дам ему клятву как властительница земель твоего отца. В одиночку протестовать нельзя. Это… опасно. Если все пойдет так, как ты говоришь, то серьезного противостояния не будет. Народ объединит отсутствие выбора.
– Напрасно Мунке поклялся ему во время Большого похода, – заявил Хубилай, посмотрев на старшего брата. – Это была первая капля, с которой начался ливень. – Он перехватил недовольный взгляд Мунке. – Ладно тебе, братец! Не верю, что ты доволен Гуюком! Ты поспешил, поклялся ему, едва услышав о смерти старого хана. Мы все это понимаем. Скажи честно: будь у тебя руки развязаны, ты выбрал бы Гуюка?
– Он сын хана, – ответил Мунке и резко отвернулся, точно разговор закончился.
– Хана, который даже не упомянул сына в завещании, – мгновенно парировал Хубилай. – По-моему, это само по себе примечательно. Мунке, сегодня мы здесь по твоей милости. Ты дал клятву опрометчиво, когда мы знать ничего не знали. Благодаря этому Гуюк сразу получил преимущество. Надеюсь, ты доволен. Все, что натворит Гуюк-хан, будет на твоей совести.
Мунке пытался сохранить достоинство и решал, стоит ли сейчас ввязываться в спор. Хубилаю всегда удавалось его распалить.
– Братец, если бы тебе доводилось командовать войском в настоящей битве, ты понимал бы важность званий и чинов. Гуюк – старший сын Угэдэя. Он наследник ханского престола, мне это ясно и без твоих цзиньских свитков.
Затронули больную тему, и Мунке завелся. Пока он сражался бок о бок с Субудаем, Бату, Гуюком и остальными, Хубилай изучал в городе дипломатию и языки. Братья были очень разными, и Мунке презирал ученость своего брата.
– А отец Гуюка тоже был старшим сыном, раз уж это так важно? – поинтересовался Хубилай. – Нет, Мунке, он был третьим в очереди. Ты решил поклясться человеку, которого мы трое не признаем. Это потому, что ты старший? Думаешь, это превращает тебя в нашего отца?
– Да, если понадобится, – ответил Мунке, вспыхнув. – Когда наш отец расстался с жизнью, тебя рядом не было.
– Наш отец велел тебе возглавить нашу маленькую семью, да, Мунке? Разве он сказал: «Приструни своих братьев, сын мой»? Прежде ты об этом не упоминал.
– Он отдал мне своих жен, – холодно ответил Мунке. – Разве не ясно, что…
– Нет, глупец, не ясно! – рявкнул Хубилай. – Не все на свете так примитивно, как ты сам.
Мунке потянулся к мечу, висевшему на поясе, и брат замер, вызывающе на него глядя. Мальчишками они дрались тысячи раз, но годы сильно изменили обоих. Если бы снова дошло до обмена ударами, остались бы не только синяки.
– Прекратите немедленно! – потребовала Сорхатани. – Решили драться на глазах у всего народа? Решили опозорить своего отца и свою семью? Угомонитесь, оба!
На миг они замерли, потом Мунке бросился к Хубилаю, подняв руку, чтобы сбить его с ног. Тот примерился и со всей силы пнул старшего брата в промежность. Это место доспехи не закрывают, и Мунке беззвучно рухнул наземь. Воцарилась тишина. Разгневанная Сорхатани повернулась к Хубилаю: у того глаза округлились. Мунке заворчал и стал подниматься. Боль была неимоверная, гнев – еще сильнее. Ноги дрожали, но Мунке резко выпрямился и шагнул к брату, стиснув рукоять меча. Хубилай нервно сглотнул.
Сорхатани встала между ними, голыми руками упершись в доспехи на груди Мунке. Он чуть не отпихнул ее. Огромная ручища стиснула ворот Сорхатани, но оттолкнуть женщину не смогла. Налитые кровью глаза Мунке отчаянно слезились. Тяжело дыша, он зыркнул поверх материнской головы на Хубилая.
– Я сказала: прекратите! – тихо напомнила Сорхатани. – Ты собьешь меня с ног, чтобы протиснуться к брату? Ты больше не слушаешь свою мать?
Мунке переводил взгляд с матери на Хубилая, который приготовился обороняться. Старший презрительно скривился, узнав китайскую боевую стойку, которой учил мальчиков советник прежнего хана. Сорхатани коснулась щеки Мунке, требуя внимания, и тот отпустил ее.
– Нет, Мунке, ты драться не будешь. Вы оба мои сыновья. Какой пример вы подаете Хулагу и Ариг-Буге? Они же смотрят на вас!
Взгляд Мунке скользнул к младшим братьям: те стояли разинув рты. Он снова заворчал, но взял себя в руки и произнес:
– Гуюк будет ханом. – Голос его стал хриплым, но не сорвался. – Его отец правил достойно, а мать не дала державе распасться. Ты дурак, Хубилай, если хочешь другого правителя.
Тот не ответил. Старший брат силен, как разъяренный бык. Зачем злить его? Хубилай пожал плечами и ушел прочь. Когда он скрылся из вида, Мунке ссутулился и едва не упал. Он пытался стоять прямо, но волны боли катились от промежности к груди, вызывая тошноту. Если бы не мать, он по-детски согнулся бы пополам.
– Порой я отчаиваюсь, – грустно проговорила Сорхатани. – По-твоему, я буду жить вечно? Наступит день, когда у тебя останутся только братья. Лишь им ты сможешь безоговорочно доверять.
– Хубилай одевается и ведет себя как цзиньская шлюха, – изрыгнул Мунке. – Разве я могу доверять такому?
– Хубилай – твой брат, твоя кровь. Твой отец живет в нем так же, как в тебе, Мунке.
– Он не упускает возможности меня поддразнить. Я не глупец, мама, хоть и не обучен двадцати семи шагам бессмысленных цзиньских ритуалов.
– Разумеется, ты не глупец! Просто вы слишком хорошо знаете друг друга и можете сделать больно. Сегодня вечером вы разделите трапезу. Ради своей матери вы снова станете друзьями.
Мунке поморщился, но не ответил, и Сорхатани продолжила:
– Больно смотреть, что мои сыновья злятся друг на друга. Получается, я никудышная мать. Помирись с братом, Мунке, если хоть немного меня любишь.
– Конечно люблю. – Он прекрасно понимал, что мать им манипулирует, но все равно сдался. – Ладно, только скажи ему…
– Никаких угроз, Мунке, никакого обмана! Если любишь меня, просто помирись с братом. Через несколько дней или недель ты получишь угодного тебе хана, а Хубилаю придется смириться. Будь великодушным победителем.
Мунке обдумал ее слова и заметно смягчился. Он умел быть великодушным.
– Брат винит меня в успехе Гуюка, – пробормотал он.
– А другие похвалят. Гуюк, когда станет ханом, наверняка вознаградит тебя за то, что ты первым встал под его знамена.
Мунке улыбнулся, чуть заметно поморщившись: боль в промежности сменилась тупым нытьем.
– Хорошо, мама. Ты, как всегда, добилась своего.
– Отлично. А теперь покажи мне юрту. Я все-таки устала.
Ямской гонец был весь в пыли. Он следовал за слугой по коридорам и чувствовал вес пыли в каждой складке одежды, в каждом шве и даже на коже. Он свернул за угол и споткнулся: усталость давала о себе знать. Он скакал целый день, вот поясница и ныла. Гонец гадал, не позволят ли ему вымыться в дворцовой купальне. Он мечтал о горячей воде и молодых служанках, вытирающих его насухо. Только мечты мечтами и останутся. Ямские гонцы вхожи всюду. Скажет, что у него личное послание для хана, и его пропустят к нему даже в разгар битвы. А вот мыться наверняка придется в реке. Потом он разведет костерок. Сунет руки в широкие рукава дээла, ляжет на спину и будет смотреть на звезды. Другие гонцы пугали, что лет через двадцать в сырую погоду начнут ныть суставы. Он надеялся, что эта участь его минует. Он ведь здоров как бык и очень молод, вся жизнь впереди. Пока странствовал, он немало повидал и понял, что нужно людям. Через пару лет накопит достаточно, чтобы купить товары и отправить караван в Бухару. И суставы напрягать не понадобится: зарабатывать он будет иначе.
Гонец глянул на сводчатый потолок и содрогнулся. Дворцом владеть он не мечтал. Хватит дома в городе, жены, чтобы еду готовила, пары детишек и добрых коней, чтобы сыновья научились ездить верхом и стали ямскими гонцами. Чем плоха такая жизнь?
Гонец остановился у сверкающих медных дверей. Караулили их два дневных стражника из отряда старого хана, бесстрастные, похожие в черно-красных доспехах на пестрых жуков.
– Послание для регента, – объявил гонец.
Один из кешиктенов изменил своей абсолютной неподвижности и уставился на молодого гонца, от которого разило лошадьми и потом. Наскоро обыскав его, стражники забрали огниво и маленький нож. Хотели забрать и бумаги, но он вырвал их, негромко выругавшись. Послание не для глаз охраны.
– Все свое я заберу, когда выйду, – предупредил он.
Стражник лишь глянул на гонца, убирая подальше его вещи, а гонец постучался и распахнул дверь так, чтобы свет залил мрачный коридор.
За дверями скрывались комнаты, одна за другой. Во дворце гонец уже бывал, но так далеко – ни разу. Каждую из комнат караулили стражники, один из которых поднимался, чтобы провести его дальше. Вскоре ямщик увидел дородную женщину, окруженную советниками и писцами, записывающими каждое ее слово. Женщина глянула на вошедшего гонца, и тот, оставив стражников позади, отвесил глубокий поклон. Поразительно, но он узнал некоторых присутствующих, гонцов, как и он сам. Поймав его взгляд, они коротко ему кивнули.
Слуга потянулся, чтобы взять бумаги.
– Послание я отдам регенту лично в руки.
Слуга поджал губы, точно проглотив что-то горькое, но отступил. Остановить ямского гонца не смел никто.
Дорегене вернулась к прерванной беседе, но, услышав его слова, осеклась и взяла пакет, совсем тонкий, обтянутый кожей. Быстро развязала его и вытащила один-единственный листок. Гонец следил за ее взглядом, бегающим туда-сюда. Ему бы уже уйти, но любопытство не давало. Вот он, горький удел ямских гонцов, – приносишь интересные вести, а сам их знать не знаешь.
Дорегене побледнела как полотно, подняла голову и недовольно глянула на юношу, который стоял, словно в надежде услышать новости.
– На сегодня хватит, – объявила она свите. – Оставьте меня и вызовите сюда моего сына. Если понадобится, разбудите его.
Затем постучала пальцами одной руки по другой и смяла послание.
Глава 4
В ночном небе ни облачка, луна озаряла огромное сборище перед Каракорумом. В юртах уже шептались, переговаривались, сплетничали; негромкие голоса напоминали шелест ветра. Городские ворота распахнулись, и скрытый мраком отряд всадников быстро поскакал по западной дороге. В руках всадники держали факелы, поэтому и ехали в островке мерцающего света, в котором мелькали тысячи любопытных лиц и грязных юрт. В центре отряда скакал Гуюк, облаченный в богатые доспехи – эдакий сияющий Багатур. На поясе у него висел меч с рукоятью в виде волчьей головы. Еще удивительнее для зевак было видеть рядом с ним Дорегене. Она сидела в седле как мужчина – спина прямая, длинные волосы собраны в толстый хвост. Высвеченный факелами отряд галопом проскакал милю, прежде чем Дорегене дала стражникам знак. Всадники свернули с основной дороги и поскакали по травянистой равнине меж юрт. По ночам верхом ездить опасно. Овцы в панике разбегались, не одну блеющую тварь всадники сбили с ног или раздавили. По равнине растекались крики и огоньки факелов – все больше гостей вставали с постелей и брались за мечи.
Гуюк свистнул, жестом показав на окутанный темнотой участок, над которым развевались знамена Сорхатани и ее сыновей. Три ночных стражника развернули коней и поскакали в том направлении. Остальные следовали дальше – петляли меж юрт и людей по тропкам, которые начисто исключали задуманный им маневр. На равнине среди юрт прямых дорог нет. Гуюк старательно высматривал нужные ему знамена. Вообще-то, он знал, кто где стоит, только разве во мраке разберешь?
Всадники выругались, попав на открытое пространство, которое никто не узнал, но тут один из стражников окликнул остальных. Все развернулись и придержали коней у лагеря Байдара. Озаренные факелами, его стяги полоскались на ветру. Гуюк помог матери спешиться, оглянулся и увидел, сколько народу собралось посмотреть, в чем дело. Шеренга за шеренгой, мужчины стояли с мечами наголо. Вспомнилось, как в такую же ночь Чагатай, отец Байдара, пытался напасть на Каракорум. Кто-кто, а его сын бдительность не утратит.
Гуюк некогда считал этого человека другом, но политика и убийство отца Байдара развели их. Судя по позе, Байдар ждал нападения – обнажил меч и поднял его к плечу. Желтые глаза хозяина юрты холодно блеснули, и Гуюк показал ему пустые руки, хотя меч с волчьей головой он не снимал с пояса ни при каких обстоятельствах. Байдар правил большой территорией к западу от Каракорума, и Гуюк с горечью осознал, что должен заговорить первым, как проситель. Он станет гурханом, то есть подчинит себе все мелкие ханства, но пока это не имело никакого значения. Этой ночью он был лишь наследником.
– Байдар, я без оружия. Я не забыл, что в юности мы дружили.
– Разве мы уже не договорились обо всем? – резко спросил Байдар. – Зачем ты явился? Зачем потревожил мой сон и всполошил моих людей?
Гуюк прищурился, меняя мнение о стоящем перед ним человеке. Хотелось повернуться к матери за подсказкой, но так он распишется в собственной беспомощности. В последний раз Гуюк видел Байдара, когда тот уезжал домой со своим туменом, а Чагатай считался предателем. Было время, когда Байдар мог стать правителем Каракорума, пожелай небесный владыка изменить судьбу его семьи. Вместо этого он унаследовал западное ханство и тихо там жил. Гуюк не считал его угрозой. Но власть изменила Байдара. Теперь он казался человеком, жестко принуждавшим остальных к беспрекословному послушанию. «А я таким кажусь?» – подумал Гуюк и скривился: уверенности у него не было.
– Я пригласил сюда Мунке… господин мой хан, – поговорил Гуюк, кусая губы.
Байдар эту заминку заметил. А ведь они стояли перед Каракорумом! До чего досадно называть чьи-то титулы, когда у самого ни одного нет… Гуюк почувствовал, как мать переступила с ноги на ногу, и припомнил ее наказ. Он пока не гурхан. Пока его удел – смирение.
Байдар не ответил Гуюку – он тоже отреагировал на движение Дорегене и низко ей поклонился.
– Прошу прощения, госпожа! Не ожидал увидеть тебя среди всадников: ночь же на дворе. Добро пожаловать к моему очагу! Чай уже остыл, но я велю заварить свежий.
Гуюк кипел от злобы. Почтение, с каким встретили его мать, лишь подчеркивало, как мало уважают его самого. Интересно, Байдар нарочно его проигнорировал или и впрямь уважает регентшу? Вслед за матерью наследник двинулся к юрте Байдара и с раздражением подметил, как та наклоняет голову и входит внутрь. Воины Байдара не сводили с него глаз. Нет, не с него, а с меча у него на поясе. Гуюк ощетинился: они что, запугать его решили? Неужели он сглупит и вытащит меч после того, как в юрту вошла его родная мать?
К его вящему удивлению, один из стражников Байдара приблизился и отвесил глубокий поклон. Стража Гуюка плотнее обступила своего господина, но тот лишь отмахнулся и по-прежнему раздраженно спросил:
– В чем дело?
– Господин, позволь мне прикоснуться к вашему мечу, только к рукояти. Потом буду детям об этом рассказывать.
Гуюк неожиданно понял, почему воины Байдара не сводят с него глаз, и покровительственно улыбнулся. Меч с волчьей головой на рукояти носил его отец Угэдэй, а до него – Чингисхан. Но чтобы меч лапали незнакомые стражники… От одной мысли Гуюк содрогнулся.
– Нам с твоим господином нужно многое обсудить, – начал он.
Как назло, стражник потянулся к мечу, завороженно глядя на рукоять, словно это была христианская реликвия. Гуюк отсек бы наглецу руку, если бы не чувствовал на себе взгляды воинов, большинство которых были преданы не ему, а Байдару.
– В другой раз! – рявкнул Гуюк и, чтобы избавиться от назойливого стражника, нырнул в юрту.
В юрте Дорегене сидела рядом с Байдаром. Давненько Гуюк не бывал в жилище из жердей и войлока и с новой остротой прочувствовал, как тесно в юрте, как воняет овцами и сырыми шерстяными одеялами. В центре на огне шипел старый чайник, у которого хлопотала молодая служанка. От волнения она суетилась – чашки так и звенели. В юрте мало места для символов богатства и власти. По-простому жить куда легче, чем на каждом шагу спотыкаться о дорогой китайский фарфор. Какой-то миг Гуюк боролся с собой. Садиться рядом с Байдаром казалось нарушением приличий, а сесть рядом с матерью значило оказаться в подчиненном положении. Нехотя Гуюк опустился на постель возле Дорегене.
– Это ничего не меняет, – негромко проговорила та. – В Каракоруме собрался весь народ, все облеченные властью мужчины и женщины, кроме одного. Для клятвоприношения этого достаточно.
– В таком случае вы рискуете, Дорегене, – отозвался Байдар. – Я хорошо знаю Бату. Не стоит отсекать его от народа.
Лицо его казалось задумчивым и встревоженным. Гуюк присмотрелся, но ни злорадства, ни вероломства не увидел.
Раздался стук копыт: к юрте Байдара прискакал всадник. Байдар поднялся и посмотрел на закипающий чайник.
– Подождите меня здесь. Эрден, подай гостям соленый чай.
Байдар оставил гостей. Но осторожный Гуюк не верил, что их невозможно подслушать. Чай девушка подала, как рабыня: руки высоко подняты, голова опущена. Гуюк хотел взять пиалу, но потом сообразил, что она предназначается его матери. Он стиснул зубы в ожидании своей порции. Иерархия, снова иерархия… Впрочем, скоро он все изменит. Какие бы козни ни строились, он не позволит Бату лишить его шанса стать ханом.
Байдар вернулся в юрту с Мунке, и Гуюк встал, чтобы их поприветствовать. Дорегене невозмутимо потягивала свой чай. В юрте и так было тесно, а в присутствии Мунке стало не продохнуть. Широкоплечий сын Толуя успел надеть доспехи. «Может, он спит в них?» – гадал Гуюк. Нынешней ночью его ничего не удивило бы.
Первой Мунке поприветствовал Дорегене, потом поклонился Гуюку, низко, как давший клятву кланяется господину. Байдар этот поклон заметил, и у Гуюка сразу улучшилось настроение. Он уже раскрыл рот, чтобы заговорить, но, к его досаде, мать заговорила первой.
– Мунке, Бату на сход не явится, – объявила она. – Я получила от него послание.
– Чем он это объясняет? – осведомился Байдар; потрясенный Мунке промолчал.
– Какая разница? Бату пишет, что был ранен на охоте и приехать не может. Но это ничего не меняет.
– Это меняет все, – тихо и рассудительно возразил Мунке. Гуюк невольно подался вперед, чтобы не пропустить ни слова. – Курултай окончен. А как же иначе? Бату не глава захудалого племени, а голос нашего народа, хотя власть свою не использует. Если Гуюк станет ханом в его отсутствие, в будущем может разгореться междоусобная война. Войны никто из нас не хочет. Я вернусь к своим туменам, к своим семьям и скажу, что в этом году нового хана не будет. – Мунке повернулся к Гуюку. – Я дал тебе клятву, господин, и изменять ей не намерен. Просто тебе нужно чуть больше времени, чтобы привести на сход Бату.
– Не нужно мне времени! – рявкнул Гуюк. – Спешу напомнить: вы все обещали присягнуть мне. Исполните обещание, а с Бату я разберусь потом. Нельзя, чтобы один человек поверг державу в хаос, кто бы он ни был.
Еще немного, и Гуюк прикажет им подчиниться – Дорегене почувствовала это и поспешила вмешаться, пока он не оскорбил своих облеченных властью гостей:
– Все мы очень старались, чтобы курултай прошел спокойно, хотели выбрать хана без лишних раздоров. Теперь это невозможно. Но, думаю, Гуюк прав. Народ заждался нового хана. Муж мой умер почти пять лет назад. Много ли земель покорено с тех пор? Мы не захватили ничего и начинаем терять власть и авторитет. Принесение клятвы должно состояться даже в отсутствие одного из приглашенных. Мы выберем нового хана, а Бату сможет дать клятву отдельно, когда его призовет властитель всего народа.
Мунке медленно кивнул, а Байдар отвернулся и поскреб вспотевшую подмышку. Никто из присутствующих не знал, что гонец доставил ему личное послание. Если рассказать, что Бату обещал свою поддержку ему, он, Байдар, почти наверняка подпишет смертный приговор старому приятелю. Если, конечно, самому не ввязаться в борьбу. Этой ночью Гуюк, Дорегене и Мунке в его власти, в окружении его воинов. Можно одним махом расчистить себе дорогу, на что Бату наверняка рассчитывал.
На миг Байдар сжал кулаки, но потом бессильно опустил руки. Чагатай, его отец, не колебался бы. Кровь Чингисхана в каждом из них. Но Байдар видел слишком много боли и крови, пролитой ради амбиций. Он покачал головой: решение принято.
– Хорошо! Пусть все принесут клятву в новолуние, оно через четыре дня. Новый хан нужен народу как воздух, а я сдержу слово.
Напряжение в тесной юрте достигло апогея, и Гуюк повернулся к Мунке. Здоровяк потупился и кивнул.
Гуюк не мог не улыбнуться. Помимо присутствующих и Бату, серьезных соперников у него нет. Сколько лет он ждал – и вот наконец замаячил шанс получить отцовское наследство. Гуюк едва слышал, как мать обещает, что после принесения клятвы Бату призовут в столицу. Неужели они верят, что он примет сына Джучи как друга? Может, мать рассчитывает, что он уподобится великому правителю и проявит великодушие по отношению к тому, кто пытался, но не сумел сорвать его планы?
Смех снял напряжение. Байдар принес бурдюк с араком и чашки. Мунке похлопал Гуюка по спине – поздравляю, мол, – и тот хмыкнул, довольный неожиданным поворотом событий. Затем поднял свою чашу, сдвинул ее с другими и насладился холодным напитком. С Бату он посчитается, мысленно пообещал себе Гуюк.
К рассвету народ был готов. Долгие недели шли приготовления к принесению клятвы: в огромном количестве запасалась провизия, чистились, чинились, натирались до блеска оружие и доспехи. Воины выстроились правильными квадратами и теперь молча ждали, когда ворота Каракорума отворятся. Суета и паника прошлых дней исчезли без следа. За ворота выехали всадники во главе с Гуюком. Он сидел в седле с достоинством, облаченный в серо-синий дээл, который выбрал намеренно: сегодня ничего чужеземного и вычурного – все должно быть очень просто.
После первого курултая, созванного Чингисханом, их было так мало, что почти никаких традиций не сложилось. У городских ворот разбили большой шатер; там и спешился Гуюк, едва солнце поднялось над восточными горами, и передал вожжи слуге. Когда он занял место у шелкового шатра, приблизилась первая группа. Если не лопнет мочевой пузырь, в шатер он не войдет и не присядет, как бы нещадно ни палило солнце. Народ собрался посмотреть, как он станет ханом.
В первой группе внимание привлекали Байдар, Мунке, а еще Сорхатани с Хубилаем и другими сыновьями. Здесь было почти четыреста человек, главы знатнейших семейств, в кои веки разлученные с помощниками, слугами и рабами. Кто-то нарядился в яркие шелка, кто-то облачился в простые доспехи, в зависимости от того, что считали более сообразным случаю. Никаких родовых знамен – человек смиренно приближается к Гуюку, преклоняет колени и клянется.
Даже в той группе существовала иерархия: первой подошла Дорегене, за ней – Сорхатани. Эти женщины правили державой в одиночку, сохранили ее после смерти Угэдэй-хана. В глазах матери, преклонившей колени, Гуюк увидел лишь удовлетворение. Он едва позволил Дорегене опуститься на землю – тотчас поднял и прижал к себе.
Сорхатани так легко не отделалась. Клятва – гарантия ее верности, но Гуюк не одобрял женщин-правительниц. Он решил со временем передать ее полномочия Мунке, отец поступил бы именно так. Сорхатани уцелела – значит удачлива; но женщины слишком переменчивы, слишком склонны к досадным ошибкам. А вот Мунке в опрометчивости не заподозришь. Гуюк полюбовался своим боевым товарищем: тот приблизился вслед за Сорхатани и повторил клятву, которую уже давал в далекой земле. Так зародился поток, воды которого принесли их сюда.
Следующим подошел Хубилай, и Гуюк отметил ум, светившийся в глазах молодого человека, который говорил о юртах, конях, соли и крови. Со временем и Хубилаю нужно пожаловать какой-нибудь высокий чин. Гуюк упивался своими планами: наконец он может думать как хан, а не просто мечтать.
На смену утру пришел день, а Гуюку уже казалось, что все гости на одно лицо. Главы семей, правители далеких стран, к шатру они подходили тысячами. У иных уже просматривались иноземные черты: так, старшие дети Чулгатая смахивали на корейцев. «Надо приказать им, чтобы заключали достойные браки, не то кровь покоренных народов захлестнет монгольскую», – подумал Гуюк. От возможности отдавать такие приказы голова кружилась, точно от арака, сердце бешено стучало. Уже завтра его слово станет законом для его миллионного народа и еще миллионов тех, кто ему подвластен. Государство-то разрослось до пределов, о которых Чингисхан и не мечтал.
С наступлением вечера Гуюк объехал большие лагеря. Став ханом, он не тратил времени на ликование. Вместо этого заглядывал то в один лагерь, то в другой, чтобы люди преклоняли колени и клялись ему в верности. Гуюка сопровождали стражники, готовые обрушиться на любого, кто откажется, но опасения оказались напрасны. Сгустились сумерки, зажглись фонари. Гуюк поел и вернулся во дворец переодеться и справить нужду. Еще до рассвета он снова пустился в путь – отправился к самым бедным и простым своим подданным, к иноземным работникам. Те рыдали от восторга, получив единственный неповторимый шанс увидеть лик хана, силились навсегда запомнить его черты, озаренные солнцем. Гуюк грелся и нежился в его лучах. Он теперь хан, подданные уже готовятся к многодневному пиршеству. Не слишком огорчали даже мысли о Бату, окопавшемся в покоренных русских землях. Сегодня день его, Гуюка, – он наконец властитель. Грядущее празднование радовало его все больше. Дворец станет центром красоты и молодости – центром нового поколения, которое развеет прах прошлого.
Глава 5
Дорегене опустилась на скамью в садовой беседке, чувствуя возле себя дух мужа. Лето задержалось, и город раскалился. Грозы то и дело бушевали среди редкой для этих мест, державшейся уже несколько месяцев жары, которая на пару дней сменялась дождевой прохладой, потом все начиналось снова. Воздух в эту пору был тяжелым, напоенным влагой предстоящих ливней. Собаки, тяжело дыша, валялись на углах улиц; каждое утро начиналось с уборки одного или двух трупов и с женского плача. У Дорегене уже не было власти. Пока Гуюк не стал ханом, она могла послать дневную стражу, чтобы выбить признания из десятка свидетелей или вышвырнуть из города воровскую шайку. За одну ночь она потеряла возможность командовать и теперь могла лишь обращаться к сыну, словно обычная просительница.
Сейчас Дорегене сидела среди вороха листьев, ища умиротворения, но не могла обрести его даже в обществе Сорхатани.
– Только не говори, что рада отъезду из города, – сказала вдова Толуя.
Дорегене похлопала по скамье рядом с собой, но невестка садиться не хотела.
– Мать не должна следить за каждым шагом, каждой ошибкой молодого хана. Старости следует уступить место молодости. – Дорегене говорила неохотно, фактически повторяя высокопарную речь, которую Гуюк произнес тем самым утром. – Угэдэй оставил мне прекрасный дворец, так что мне будет удобно. Да я и впрямь стара. Порой с ног валюсь от усталости.
– Он от тебя избавляется, – проговорила Сорхатани и подняла с дорожки тонкую ветку. Наверняка та упала утром, не то цзиньские садовники уже убрали бы ее. У Сорхатани в руках ветка гнулась не хуже хлыста. – Сыну следует уважать твои заслуги – именно ты спасла ханство, оказавшееся на грани раскола.
– Даже если и так, Гуюк – хан. Я годами этого добивалась – и добилась. Мне ли теперь жаловаться? Не глупо ли это с моей стороны?
– Не глупо, а по-матерински, – поправила Сорхатани. – С родными сыновьями мы все глупы. Моем их, кормим грудью, а в ответ ждем благодарности до скончания их дней. – Сорхатани хмыкнула: настроение вмиг изменилось. Дорегене тоже улыбнулась, хотя в действительности приказы сына ее обидели.
– Тебя, Сорхатани, он из города не высылал, – заметила она.
– Не высылал, потому что возвысил Мунке. Орлок ханского войска – о таком мой сын не помышлял. Никогда.
– Знаю. В кои веки Гуюк внял моему совету. Мунке – потомок Чингисхана. Тумены за ним пойдут. Мой сын полностью ему доверяет, Сорхатани. Это важно.
Вдова Толуя промолчала. Как она и предсказывала, начало правления Гуюка принесло Мунке много пользы. А вот Хубилай командовать войском Гуюка не стал бы никогда. Почему-то и он, и новый хан сразу почувствовали друг к другу неприязнь. Уже дважды Сорхатани усылала Хубилая из города якобы по поручению, чтобы сын в присутствии Гуюка не наделал чудовищных ошибок. Они злились друг на друга, как коты, чему ни Хубилай, ни сама Сорхатани не могли найти разумного объяснения. Порою ей хотелось, чтобы Гуюк отправил ее на родину, подальше от городской жары, вони и толчеи, подальше от политики, которая не дает спокойно прожить и дня. Но ее не отсылали, и даже это вызывало подозрения. Вряд ли Гуюк ценил ее как советчицу, а воспоминание об одном разговоре с его отцом до сих пор тревожило Сорхатани. Много лет назад Угэдэй предложил ей выйти замуж за его сына. При мысли об этом она до сих пор содрогалась. Угэдэй не стал ее неволить, а Гуюк вовсе не так щепетилен, как его отец. При нынешнем раскладе после ее смерти земли, где родился Чингисхан, унаследует Мунке или другой из ее сыновей, если она напишет завещание и если ее волю выполнят. Сорхатани оставалось лишь надеяться, что Гуюк согласится править двумя отдельными ханствами, только вряд ли у него были такие планы. Наоборот, Сорхатани он казался жадным глупцом, который думает лишь о том, как бы побольше урвать. Досадно, что у молодого красивого мужчины столько внутренних изъянов. Некоторых людей власть раскрывает с лучшей стороны, но у Гуюка подобных изменений не наблюдалось.
Существовала еще одна проблема, которую нельзя обсуждать с Дорегене. Сорхатани не вправе указывать ей на недостатки Гуюка. Неделю назад тот отказался встречаться с корейскими вельможами, вместо этого ускакав со свитой на охоту. Сорхатани невольно поморщилась, вспомнив напряженную встречу с гостями. Словами и дарами пыталась она сгладить оскорбительное отсутствие хана, но заметила и злость, и безмолвные взгляды, которыми обменивались корейцы. Гуюк вернулся через несколько дней и отправил Яо Шу, своего советника, выслушать их просьбы. Сорхатани могла сделать это и сама, надели ее Гуюк соответствующими полномочиями.
Воспоминания о том происшествии заставили женщину покраснеть от злости. Тогда она в кои веки пробилась к Гуюку, вопреки яростному протесту его слуг. Хотелось внушить ему, что жизнь – не бесконечные пирушки и охота с друзьями. Хан должен править каждый день, принимая решения, которые другим не под силу.
Но ее слова не нашли отклика. Какое там – Гуюк рассмеялся и отослал ее прочь, фактически прогнал. Об этом с Дорегене говорить тоже нельзя – только не в тот момент, когда она собралась уезжать, завершив труд своей жизни. Сорхатани чувствовала, что будет скучать по невестке, хотя полной откровенности между ними не было никогда.
Если бы не Хубилай, Сорхатани потеряла бы рассудок среди лжи, глупости и круговой поруки. Сын хотя бы слушал ее. И поражал своей проницательностью. Казалось, он знает все, что творится в городе, хотя, наверное, тут помогали соглядатаи, не менее ловкие, чем у Сорхатани. В последние дни тревожился даже Хубилай. Гуюк что-то затевал, постоянно посылая своим туменам новые приказы. Каждый день его воины упражнялись на равнинах с пушками, и город провонял порохом. Среди ямских гонцов у Сорхатани имелся шпион. Вот только ханские послания зачастую пересылались запечатанными, и вскрыть ханскую печать значило рискнуть жизнью гонца, а Сорхатани им дорожила. Примечательна была сама секретность. Сорхатани чувствовала, что бродит в тумане. Может, Хубилай что-то выяснил или до чего-то додумался? Вечером нужно будет с ним потолковать…
Женщины подняли головы, заслышав шаги дневных стражников Гуюка. Дорегене со вздохом встала и посмотрела вдаль, словно надеясь запечатлеть этот город в памяти. Под бесстрастными взглядами кешиктенов подруги обнялись. Груженые подводы и слуги уже ждали, чтобы отвезти Дорегене в далекий дворец на реке Орхон. Лето уходило, и Сорхатани не верила, что невестке позволят вернуться. Гуюк открыто упивался властью, хотя и облекал приказы в красивые слова и комплименты.
– Я навещу тебя, – проговорила Сорхатани, борясь с нахлынувшими чувствами.
Она не могла пообещать, что станет держать Дорегене в курсе дел, – только не при стражниках, которые передадут все услышанное Гуюку. Бывшая регентша кивнула, хотя в глазах у нее блестели слезы. Она посадила сына на ханский престол, а тот отплатил ей ссылкой, хотя, конечно, выразился иначе. Ложь и заговоры – казалось, ничего иного безжизненным камням города и не породить.
Стражники повели Дорегене прочь; на фоне их молодости и силы она казалась хрупкой и сгорбленной. На миг Сорхатани даже испугалась: ее лишили покровительницы. Несмотря на кутежи и охоту, Гуюк планомерно укреплял свою власть. Отныне Сорхатани не могла спокойно смотреть в будущее. Без разрешения Гуюка она даже домой вернуться не может. Она словно попала в клетку к голодному тигру и не знала, когда он вскочит и разорвет ее на части.
Вдали раздался пушечный залп, и Сорхатани вздрогнула. Мунке там, командует военными учениями. Женщина беззвучно взмолилась, чтобы ее сыновья не пострадали при новом хане.
Гуюк расхаживал по пустым коридорам. Недавно своим указом он запретил слугам попадаться ему на глаза, вот они теперь и прячутся. Несколько дней назад хан налетел на девушку, не успевшую отступить в сторону. Гуюк, не задумываясь, велел ее наказать. Во дворце слишком привыкли к размеренности. К неспешной поступи стариков, особенно его отца. Новые порядки Гуюк собирался вводить ненадолго – пусть при виде его научатся шевелиться, – но ему очень понравилось смотреть, как при встрече с ним мужчины и женщины бросаются врассыпную, боясь просто попасться ему на глаза.
Гуюк зашагал быстрее, с ухмылкой наблюдая, как слуги разбегаются по смежным комнатам. Молва летела впереди него: хан выискивает новую жертву. Не останавливаясь, он толкнул медные двери и вошел в зал для приемов.
Там он увидел Сорхатани и Яо Шу, бывшего советника отца. Своей очереди ждали еще десятки человек, старавшиеся не показывать, что томятся в зале уже полдня. Гуюк, не обращая на них внимания, прошагал по каменному полу к золоченому трону, инкрустированному лазуритом, поблескивающим в льющемся из окна свете. По крайней мере, сюда долетал свежий ветерок с улицы. Гуюк усвоил цзиньский обычай часто мыться, и от вони грязных тел в тесных комнатах его начинало тошнить.
Сорхатани внимательно следила за реакцией окружающих на появление хана, тщательно скрывая свои эмоции. Она могла бы заговорить первой, но за часы ожидания они с Яо Шу согласовали порядок действий. Очередное оскорбление – потеря многих часов, пока Гуюк играет в игры со слугами. Досаду и раздражение нельзя показывать. Нужно помнить, что слово хана – закон, а малейшие признаки недовольства будут стоить ей земли, а то и жизни. Так что начинать лучше Яо Шу. Старик – само самообладание, волю эмоциям никогда не дает.
– Господин мой, – начал цзинец, приближаясь к Гуюку с глубоким поклоном; в руках он держал пергаментные свитки, на которые правитель неодобрительно посматривал. – Возникло множество вопросов, и решить их под силу только хану. – Гуюк хотел что-то сказать, но Яо Шу его опередил: – Правитель Корё просит выслать тумен для защиты от разбойников, бесчинствующих на побережье. Посланников в Каракорум он шлет уже в третий раз…






