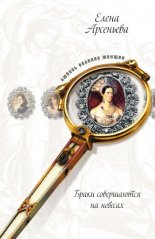Роман в стихах и письмах о невозможном счастье (Мария Протасова – Василий Жуковский) Арсеньева Елена

От автора
Их глаза глядят со страниц романов, их смех звенит в строках стихов… Они вдохновляли поэтов и романистов. Их любили или ненавидели (такое тоже бывало!) до такой степени, что эту любовь или ненависть просто невозможно было удержать в сердце, ее непременно нужно было сделать общим достоянием. Благодаря им болезнь любви или ненависти заражала читателей. Их мало волновало, конечно, чьи коварные очи презираемы Лермонтовым, кого ревнует Пушкин, чьими страстями упивается Достоевский, чьим первым поцелуем украдкой любуется Толстой, кого всю жизнь нежно обожает Тютчев и к чьим ногам слагают сердца герои Тургенева… Главное – глубина чувств, тайна, а не праздное любопытство!
Ну что ж, а мы – мы полюбопытствуем и заглянем в эту глубину, приподнимем покров этой тайны: любви или ненависти творцов к своим музам.
* * *
– Это жестоко, сестра! Маша и я… мы предназначены друг для друга!
– Даже говорить такое – кощунство! Как это – предназначены? Вы родня. Ты дядя, она племянница. Это кровосмешение! Это грех, грех! Маша должна выйти замуж за Мойера, а ты, Василий, иди своей дорогой, не смущай ее сердца. Не впервые тебе это говорю, и еще хоть сто раз повторю – оставь мою дочь в покое!
– Катя, сестра, ты губишь две жизни, и мою, и Машину. Упрямства твоего не постигаю! Ты словно не слышишь меня! Патриарх, сам патриарх Филарет убежден, что в нашем браке не будет греха. Мало, что мы с тобой сводные брат и сестра по отцу лишь, а не по матери, так ведь я даже имя другое ношу. Ты – Бунина урожденная, я – Жуковский, ты – Афанасьевна, я – Андреевич. Люди и знать не знают, что мы с тобой от одного отца рождены.
– Патриарх? Что мне патриарх! Он на твоей стороне? Я стыжусь за него! Люди? Да что мне люди! Довольно того, что я знаю: мы с тобой одного семени. Довольно этого! И поди прочь, Василий Андреевич, не надрывай мне душу. Это не я тебя не слышу – ты сам не слышишь доводов разума, пристойности и веры. Маша не выйдет за тебя – вот мое последнее слово!
Жуковский, сверкнув исподлобья черными глазами, вышел вон, тяжело хлопнув дверью. Катерина Афанасьевна так же исподлобья, мрачно, глядела ему вслед. Вот теперь точно было видно, что они брат и сестра, потому что именно так смотрел, бывало, озлясь, помещик Афанасий Бунин, их отец.
Ишь, разошелся, яростно подумала Катерина Афанасьевна. Да пусть спасибо скажет, что она жалеет его, не приводит еще одного, самого весомого довода в противность этого брака! Василий, конечно, сделался человеком образованным, тонким, даже прославился своими поэтическими способностями, ему пророчат блестящее будущее, а все едино: нанять его учителем к своим дочерям Катерина Афанасьевна считала возможным и приличным, но выдать Машу за родственника, да вдобавок незаконнорожденного … за выблядка, по-русски говоря… Да никогда в жизни!
Ни-ког-да!
В 1770–1771 годах русские ходили против турок, и ходили весьма успешно. Мещане города Белева, что в Тульской губернии, и крестьяне окрестных сел ездили за нашей армией маркитантами. Один из мужиков села Мищенского начал просить своего барина, Афанасия Ивановича Бунина, также отпустить его в маркитанты.
– Ну иди, бог с тобой, – сказал барин, который как раз пребывал в благодушном настроении. – А с войны привези мне какую ни на есть пригоженькую турчанку. Моя старуха мне уже опостылела, да и сварлива стала – спасу нет!
Упомянутая «старуха» к тому времени уже успела родить своему господину и повелителю одиннадцать деток, из которых лишь один был мальчик. Девочки не больно-то заживались на свете, и у помещика Бунина и его жены Марьи Григорьевны, урожденной Безобразовой, вскоре осталось в живых только четыре дочери и сын. Небось начнешь сварливиться от таких житейских передряг, небось постареешь! Однако сам Афанасий Иванович стареть нипочем не желал, а оттого появление в своем доме двух турчанок (исполнил, исполнил свое обещание признательный маркитант!) воспринял с превеликим интересом.
Обе смуглянки попали в плен при взятии Бендер. Были они родные сестры, звались Фатима и Сальха. Маркитант прихватил сразу двоих просто на всякий случай, от житейской практичности: рассудил, что при суровой русской зиме эти нежные цветы могут быстро померзнуть. И как в воду глядел: Фатима вскоре умерла, ну а Сальха была взята в барские покои. Ежели кто ждал, что она руки на себя наложит при поругании своей девичьей чести, то ждал он сего напрасно: у восточной женщины свои резоны. Сальха, несмотря на свои всего лишь пятнадцать лет, уже была не девица, а женщина замужняя, и муж ее погиб. Разумеется, она была счастлива попасть под крылышко новому покровителю, да еще такому доброму и заботливому, как Бунин. А то, что он неверный… знать, такова воля Аллаха всемилостивейшего! И вместо того чтобы коснеть в своем природном магометанстве, Сальха, не чинясь, приняла православную веру и отныне стала зваться Елизаветой Дементьевной.
Вздорный, скорый на расправу Бунин не зря казался ей добрым и заботливым. Когда в его постель попала эта юная и обворожительная черноглазая красавица, он словно переродился. И вместо того чтобы злословить о «распутной басурманке», дворня только благодарила ее за то, что она преобразила барина к лучшему.
Разумеется, в этих восхвалениях ни барыня Марья Григорьевна, ни ее ближние горничные участия не принимали. Бунинский дом как бы разделился на две половины, и когда дочери Сальхи (сиречь Елизаветы Дементьевны) одна за другой начали помирать во младенчестве, в барыниных покоях не то чтобы злорадствовали (все же грех это – смерти детей радоваться!), но полагали, что Господь начал вершить справедливую месть. Однако вскоре, а именно в январе 1783 года, Сальха родила сына. Бунин не мог усыновить его, не мог жениться на Сальхе (при живой-то жене!), а оттого домашний бунинский приживал, обедневший дворянин Андрей Григорьевич Жуковский крестил мальчика и дал ему свою фамилию. Назвали же ребенка Василием. И предписано было Буниным ни в чем, никогда и никому не делать различия между ним и родными барскими дочерьми.
Марья Григорьевна, конечно, восприняла бы появление в доме черноглазого младенца в страшные штыки, но два года назад умер ее взрослый, любимый сын, студент Лейпцигского университета. Эта страшная беда научила ее смирению, она разрешила дочери своей Варваре крестить маленького «басурманчика», позволила принести его на свою, прежде строго отделенную, половину дома – и словно бы усыновила его в сердце своем. Теперь в доме Буниных полновластно царствовал этот веселый мальчишка, ну а Сальха, Елизавета Дементьевна, тоже сделалась ближайшей подругой и верной наперсницей барыни. Отныне они обе махнули рукой на общего мужа (дело свое он сделал, а больше на что надобен?) и жили душа в душу, старшая жена и младшая жена, согласно воспитывая Василия. Одним словом, в конце концов законы гарема восторжествовали в этом патриархальном доме – ко всеобщему благополучию, кстати сказать.
Рос и воспитывался Василий преимущественно в обществе женском. Его окружали вновь народившиеся племянницы, внучки Марьи Григорьевны, все его обожали и баловали, и первым серьезным столкновением с несовершенствами мира было для него появление немца-гувернера. Как и большинство иноземных воспитателей, которые в те времена со страшной силой плодились и размножались в русских помещичьих домах (мода на «маркизов» достигла к концу XVIII века апогея!), ни о воспитании, ни о педагогике он не имел никакого представления. Да и маркизом он не был, а всего лишь портным. При попытке высечь воспитанника за какую-то провинность Яким Иванович (так звали немца) был немедленно спроважен восвояси. Однако избалованный Васенька все ж не вырос неучем. Его забрала к себе крестная мать и сводная сестра Варвара Афанасьевна Юшкова, муж которой служил в Туле. Здесь тоже общество было преимущественно дамское (пятнадцать девиц всех возрастов и только один мальчик!), но уж вовсе не провинциально-убогое. В доме Юшковых собирались все обыватели Тулы и окрестностей, имевшие притязания на высшую образованность. Сама Варвара Афанасьевна была женщина по природе очень изящная, с необыкновенным дарованием к музыке. Она устраивала у себя литературные вечера, где читались и обсуждались новейшие произведения школы Карамзина и Дмитриева. С восторгом пели романсы Нелединского. Музыкальные вечера у Юшковых превращались в концерты. Варвара Афанасьевна занималась даже управлением тульского театра.
Такая обстановка рано заставила Василия Жуковского осознать себя литератором, ну а недолгая служба в гусарском полку, куда он был записан чуть не с рождения, а потом и обучение в пансионах прошло как бы мимо него. Правда, Московский благородный пансион подружил его с братьями Александром и Андреем Тургеневыми и усугубил его влечение к литературе. Уже служа в Соляной конторе, он жил только литературными интересами, и друзья его были – литераторы: Кайсаровы, Мерзляков, Родзянко, Соковнин, Воейков… Этот последний вскоре сыграет роковую роль в жизни Жуковского, но пока они были друзья, и дружба их была вполне безоблачна.
Воспитанный в женском обществе, Василий Андреевич имел нежную, чувствительную душу и был, разумеется, влюбчив. До такой степени, что первую любовь свою отдал враз двум женщинам! Одна из них была племянница Жуковского, дочь его сводной сестры Натальи Вельяминовой. Сей предмет обожания Жуковского звался Марией и был замужем за неким Свечиным. Вторая дама сердца звалась Анна Соковнина и была сестрой приятеля Василия Андреевича по «Дружескому литературному обществу». Романы Василия были теснейшим образом связаны с романами его друзей Тургеневых: Александр был тоже влюблен в Анну Соковнину, Андрей же – в ее сестру Екатерину. Впрочем, все увлечения носили характер платонически-сентиментальный и давали себе выход не столько в редких встречах, сколько в пылких посланиях. Честно говоря, женское, восторженное, возвышенное общество, в коем Василий Жуковский произрастал, сыграло с ним дурную шутку: он привык к роли баловня судьбы и женщин, а между тем судьба готовила ему пресерьезный удар.
В 1805 году его сводная сестра Катерина, бывшая замужем за отъявленным картежником Андреем Протасовым, овдовела, с великим трудом выплатила долги мужа – и поняла, что не может дать двум своим дочерям, Маше и Саше, приличное образование. Василий Андреевич, которому отчаянно наскучила и служба в Соляной конторе, и затянувшиеся романы, предложил свои услуги в качестве домашнего учителя и вскоре приехал в Белев.
Вообще страсть к наставничеству была в Жуковском сильно развита. Он был прирожденный учитель, а эти милые, доверчивые девочки (Маше двенадцать, Саше десять лет) как нельзя лучше подходили для того, чтобы сеять в них разумное, доброе, вечное… а также нежное.
Любопытная все-таки штука: детские впечатления! Доселе Жуковский был этакой мягкой игрушкой в руках девочек, девушек и женщин, пусть ненамного, но все же старше его, а значит, вполне сформировавшихся. И каждая хотела изменить «Васеньку» по своему образу и подобию. При встрече с Машей Протасовой Василий Андреевич вдруг понял, что видит ее не такой, какая она есть, а какой она будет, какой может стать: пришла пора ему самому воспитать для себя идеальную подругу, «вылепить» себе жену, создать ее, как Пигмалион создал Галатею… Можно сколько угодно продолжать нанизывать метафоры, но факт останется фактом: Маша Протасова оставалась еще сущим ребенком, когда Жуковский, бывший на десять лет старше племянницы, влюбился в нее и втихомолку решил жениться на ней.
«Я не требую слишком многого, – запишет он в дневнике в июне 1805 года, только приехав в Белев и поселившись в доме Протасовых. – Хочу спокойной, невинной жизни. Желаю не нуждаться. Желаю, чтобы я и матушка были не несчастны, имели все нужное. Хочу иметь некоторые удовольствия, возможные всякому человеку, бедному и богатому, удовольствия от занятий, от умеренной, но постоянной деятельности, наконец, от спокойной, порядочной семейственной жизни. И – если бы дал бог! – общество верного друга или верной жены будет моим отдохновением. Избави меня боже от больших несчастий, и я не буду искать большого счастья!»
Маша была не столь ослепительно красива, как младшая сестра, однако даже и это влекло к ней Жуковского. Она была именно такова, как нужно, – как нужно Василию Андреевичу для одушевления всех тайных и явных его идеалов, которые вдруг нашли свое воплощение в милых чертах Машиного лица, в ее мягком голосе, в ее неярком очаровании, в самоотверженном и пылком нраве… так в капле воды вдруг отражается все, вообще все солнце.
«Я был бы с нею счастлив, конечно! – напишет Жуковский на другой странице дневника. – Она умна, чувствительна, она узнала бы цену семейственного счастья и не захотела бы светской рассеянности».
Писал он не только в дневнике – писал он и стихи. С каждым годом все больше стихов. И в них начинали все четче обрисовываться его идеалы, его мечтания, навеянные любовью к Маше:
- Младенцем быть душой;
- Счастливо созревать;
- Не тела красотой,
- Любезностью пленять…
- Быть в дружбе неизменной;
- Любя, душой любить;
- Супруги сан священный,
- Как дар небес, хранить…
Любовь воодушевила его. Он пишет много, возникает новое для него желание: не от случая к случаю, а постоянно жить в состоянии творческом, поэтическом, смотреть на это не только как на высшее удовольствие, но и как на средство потешить свое тщеславие (ну кто из людей без греха?!), а также получить нечаянные деньги (которых, как известно, никогда не бывает достаточно). Он стал редактором журнала «Вестник Европы», который уже начал было терять значение, кое приобрел некогда при Карамзине, и теперь интерес к изданию вспыхнул в обществе с новой силой. Немалую роль сыграли здесь и стихи самого Жуковского, на которые читатели просто-таки набросились с жадным интересом, разглядев в их авторе новое явление в русской поэзии. Написаны «Стихи, сочиненные для альбома», «Песня», «К Нине», «К Филалету» и другие, сделаны многочисленные переводы, в том числе из Шиллера и Гёте, появилась на свет знаменитая «Людмила», аллегорические повести «Три сестры», «Видение Минваны»… Печатает Василий Андреевич и множество критических и полемических статей, среди которых наиболее интересна статья «Кто истинно добрый и счастливый человек?». То, что милый женский образ возникает в каждой его поэтической строке, – понятно, объяснимо. Но его любовь к Маше Протасовой, его желание счастья с ней видны и в этой серьезной статье (ведь она – панегирик семейной жизни: «Кто истинно добрый и счастливый человек? Один тот, кто способен наслаждаться семейственной жизнью!»), и прежде всего в «Песне»:
- Мой друг, хранитель-ангел мой,
- О ты, с которой нет сравненья,
- Люблю тебя, дышу тобой;
- Но где для страсти выраженья?
- Во всех природы красотах
- Твой образ милый я встречаю;
- Прелестных вижу – в их чертах
- Одну тебя воображаю.
- Беру перо – им начертать
- Могу лишь имя незабвенной;
- Одну тебя лишь прославлять
- Могу на лире восхищенной:
- С тобой, один, вблизи, вдали.
- Тебя любить одна мне радость;
- Ты мне все блага на земли,
- Ты сердцу жизнь, ты жизни сладость…
Психологом Василий Андреевич оказался замечательным – он верно угадал натуру Маши Протасовой. Юная девушка была чиста, благородна. Она пылко влюбилась в своего наставника и не мечтала ни о чем другом, как о замужестве с ним. Казалось бы, вот она, полная гармония душ и сердец! Но боги ревнивы к такой гармонии и очень любят выставлять на пути влюбленных множество препятствий. Порою неодолимых… Жестокость небес состоит в том, что человек до последней минуты не осознает, что может хоть голову разбить, хоть сердце из груди вырвать, а неумолимых богов ему не умилосердить и воли судеб не изменить. Странно, что еще в 1808 году, когда мечты о счастье были совершенно безоблачны, он уже провидел печальное будущее и в стихотворении «К Нине» (так он называл Машу, еще пытаясь скрыть свое юношеское чувство к ней) пророчил полное крушение всех своих надежд.
- …Сей пламень любви
- Ужели с последним дыханьем угаснет?
- Душа, отлетая в незнаемый край,
- Ужели во мраке то чувство покинет,
- Которым равнялась богам на земле?
- Пророчил – ну и напророчил…
В 1811 году Жуковский первый раз посватался к Маше, и Катерина Афанасьевна Протасова дала решительный отказ. В письмах к близким и друзьям она, женщина неглупая и не чуждая известной светскости, пыталась писать об этом с юмором: «Тут Василий Андреевич сделался поэтом, уже несколько известным в свете. Надобно было ему влюбиться, чтобы было кого воспевать в своих стихотворениях. Жребий пал на мою бедную Машу».
Однако в жизни было не до смеха ни Катерине Афанасьевне, ни бедным влюбленным. Она была если и не фанатична, то все равно – очень религиозна, церковные уставы были для нее святы и неоспоримы. Брак между родственниками невозможен! Все доводы и мольбы Жуковского разбивались о неколебимую стену ее запретов. Она не только отказала наотрез, но и запретила брату даже думать о любви к Маше, запретила надеяться на счастье.