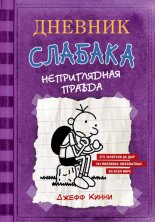След черного волка Дворецкая Елизавета

© Дворецкая Е., 2017
© ООО «Издательство «Э», 2017
Глава 1
Верховья Десны, Бранемеров век
На следующий день после солоноворота Добровед пришел в подземное обиталище богини Лады поздно. Народ едва угомонился и наконец разошелся спать после шумного разгула, на дворе уже рассвело, но здесь, в избе, опущенной в землю на три локтя, было совсем темно. Волхва еще пошатывало после утомительной ночи, обрядов, игрищ и пира, поспать удалось совсем немного, голова болела от медовухи. По лестнице он спускался, придерживаясь за стену и осторожно нашаривая ногой каждую ступеньку. Но в эту избу он приходил каждое зимнее утро уже лет двадцать и в освещении не нуждался. На ощупь пробравшись к печке, Добровед свалил охапку поленьев, принесенную за спиной, нашел в золе тлеющие угольки, запалил две лучины, вставил в светец. Оглянулся.
Угрянская княжна Лютава, в эту зиму разделявшая заточение богини Лады, спала на своей лежанке. Обычно она просыпалась при появлении волхва, но сегодня даже не пошевелилась.
Волхв подошел поближе. Даже с похмелья он чувствовал: с девушкой что-то не так. Священная пленница лежала на спине, вытянув одну руку вдоль тела, а вторую положив на грудь. И на этой руке что-то мерцало, будто уголек. Поначалу Добровед испугался, что и правда уголь вылетел из печи, и поспешно наклонился.
Это оказалось кольцо – по виду бронзовое, отлитое таким образом, что выглядело сплетенным из тонких корней. И оно испускало мягкий дымчатый свет, будто солнце, глубоко запрятанное в зимнюю тучу. Ничего подобного Добровед раньше не видел и замер в растерянности. И чем дольше он смотрел на девушку, тем более призрачной ему казалась она сама, как будто перед ним лежало лишь отражение в воде, а не человек.
Пересилив себя, Добровед осторожно прикоснулся к ее руке. Точнее, пытался прикоснуться. Его пальцы насквозь прошли через тело спящей, не встречая сопротивления, и уткнулись в медвежью шкуру, которой была покрыта лежанка. Потрясенный волхв отдернул руку, будто обжегся. Огляделся, пощупал самого себя, пощупал лавку – все было как обычно. И только она, Лютава-Лада, стала чем-то иным: блазнем, призраком.
Ничего подобного Добровед не видел за все двадцать лет и даже не слышал ни о чем подобном. От отца – тоже волхва и младшего брата прежнего дешнянского князя Божемога – он знал, что иной раз девушки, помещенные в Велесово подземелье, обнаруживались мертвыми: призванные богами, не могли выбраться духом обратно в белый свет. Это случалось очень редко, даже дед Доброведа видел такое лишь один раз, а уж он повидал десятки этих девушек. Но никто из волхвов Ладиной горы не сталкивался с таким, чтобы девушка-Лада была и здесь, и где-то совсем в другом месте одновременно. Ушла в Навь, оставив в Яви лишь свой облик. И это мерцающее, будто солнце полуночи, кольцо, которого Добровед еще вчера у нее не видел… Солоноворот-Корочун! Этой священной ночью княжна Лютава пережила нечто такое, о чем не знают даже волхвы. Или не пережила…
По привычке тщательно растопив печь, Добровед еще раз оглянулся на лежащую и тихонько вышел. Его брату Яроведу, старшему из дешнянских волхвов, нужно было это увидеть. А всем остальным, пожалуй, пока незачем знать…
Средняя Угра, Вершиславов век, месяц просинец
Спускалась зимняя ночь, все затихло в Ратиславле, и только в избе хвалиски Замили, младшей жены князя Вершины, за плотно задвинутыми заволоками не гасили лучин. Спать хозяйка не собиралась: сидела на увязанной укладке, рядом лежала ее лисья шуба и большой платок из белой шерсти. Прежде богато убранная, сейчас изба выглядела почти голой: хорошая посуда, шелковые занавеси и покрывала, литые светильники исчезли с глаз. Зато посреди пола громоздились три укладки и пяток мешков. Дочь Замили, Амира, – невысокая смуглая девушка, широколицая и не слишком красивая, – устроилась возле двери, прислушиваясь к звукам снаружи и тоже держа кожух наготове. Челядь младшей князевой жены – баба Новица и отрок Найден – сидели по лавкам, оба с таким видом, будто собрались в дорогу.
Вот Замиля встала, огляделась, подошла к простой холщовой занавеске, сменившей прежнюю, из хвалисского шелка с цветами и птицами, и отодвинула край. Князь Вершина спал на лежанке, которую Замиля делила с ним предыдущие двадцать лет. Лица его она почти не видела в густой полутьме, но слышала, как он быстро беспокойно дышит, как ворочается, постанывает. Видеть его она и не хотела: теперь у него почти постоянно было очень странное выражение лица. Совершенно нечеловеческое: тупое, бессмысленное и в то же время как-то по-нехорошему целеустремленное. Та тварь, которая поселилась в его душе, знала свое дело и потихоньку поедала новую жертву изнутри.
Замиля плохо представляла себе эту тварь, но решительно не желала узнать поближе. Раньше она целиком полагалась на Галицу, которая обещала, что подчинит Вершину воле жены. Но бывшая челядинка давно не подавала о себе вестей, и Замиля день ото дня тревожилась все больше. Муж, которого чародейка обещала сделать послушным, почти перестал узнавать Замилю – как и прочих родичей. С тех пор как прямо за обильным столом Корочуна с ним приключился припадок, он так и не пришел в себя. Князь был довольно крепок телом, но разум, казалось, покинул его. Вершина ни на что не жаловался и вообще едва говорил: просил есть, да и только. Зато просил очень часто и ел много. При виде еды его глаза, обычно равнодушные, радостно вспыхивали, и он набрасывался на хлеб и мясо с такой жадностью, будто месяц голодал. Сметал все подряд – что ни дай. Родичи боялись к нему подходить, не шутя опасаясь, что он и их тоже однажды сожрет.
От соседей недуг Вершины скрывали, но ясно было, что так продолжаться не может. Старшие родичи что ни день собирались в избе Богорада, толковали на все лады. Можно ли исцелить князя? Кому его заменить – на срок или навсегда? Пора в гощенье идти – кому? В прежние годы Вершина иной раз сам ходил в гощенье, иной раз посылал Лютомера, как старшего сына и наследника. В этом качестве его знали все старейшины в подчиненных Угре волостях. Но где он теперь, Лютомер? Придумали послать людей за ним на Десну, но скоро ждать его назад не приходилось.
Бабы тоже собирались каждый вечер в беседе, но не столько пряли, сколько совещались все о том же. Замиля не ходила туда: в последние полгода отчуждение между ней и прочими Ратиславичами заметно выросло. Она давно сбежала бы, чтобы не ночевать в одной избе с помешанным, но никто не изъявлял готовности ее приютить. Благо было уже то, что ей вообще позволили оставаться в живых. Наутро после Корочуна Богорад и Толига едва вырвали ее из рук разъяренных баб: те вопили, что хвалиска сглазила князя. Но подкрепить обвинение было нечем: никто не видел, чтобы Замиля творила ворожбу, у Вершины не нашли никаких наузов или корешков, которые могли быть наговорены на зло. Больше ее не трогали. За это Замиле следовало бы благодарить Темяну, но, приказав бабам оставить хвалиску в покое, Вершинина старая мать руководствовалась вовсе не добротой. «Не от Замильки порча пришла, – сказала Темяна на собрании старейшин. – Убить ее – горю не поможет. Сама она со своей заморокой эту кашу заварила – пусть сама и сидит с ним. Если опять начнет… – она тяжко вздохнула, – на людей кидаться… вот и узнаем. Не своих же к нему посылать!»
Закончились Велесовы дни, потянулся месяц просинец. Замиля и ее дочь постоянно дрожали за свою жизнь. Князь, который двадцать лет любил Замилю и оберегал от неприязни родичей, больше не мог ее защитить и сам внушал ужас, будто дикий зверь. От Хвалиса не было вестей уже полгода, и Замиля, лишившись мужа и сына, чувствовала, что жизнь ее не крепче яичка лесной птицы.
Вот Амира вскочила и замахала матери рукой: кто-то идет. Замиля метнулась к двери, остановилась на полпути. Двое челядинов тоже встали.
В дверь легонько постучали. Амира выскочила наружу: заранее смазанная дверь не скрипнула. Почти сразу же девушка вернулась и подала знак: пора.
Тихая изба пришла в движение: хозяйка схватила шубу и платок, челядины – укладки и мешки. Вдвоем поволокли наружу. Замиля торопливо одевалась. Когда вся поклажа была вынесена, она тоже вышла к саням. Невысокая ростом и дородная телом, в теплой одежде и пышной шубе, крытой синей шерстью, она напоминала нарядно одетый стог. Под белой тканью платка резко выделялись густые черные брови и лихорадочно блестели большие темные глаза.
Возле саней стояли Толига и все трое его сыновей. Он один знал, куда увез летом Хвалиса, и теперь собирался переправить туда и его мать.
– Эти бабы разорвут и меня, и мою дочь! – твердила ему Замиля, понимая, что он единственный из Ратиславичей немного ее жалеет. – Они считают, что это я виновата! А я не умею творить заклятий! Если бы умела, я… Как мне быть? Мой муж болен, мой сын далеко! Я погибла, погибла!
Но не только разгневанных ратиславльских баб она боялась. Ночью она едва решалась сомкнуть глаза. С тех пор как Вершина захворал, Замиля не спала с ним, а перебралась на лавку, но во сне и наяву ей мерещилось, как муж встает и с тем же пустым взором бредет к ней через темную избу, чтобы вцепиться зубами в горло… Она отгоняла мысли о том, что и правда виновата в его нынешнем состоянии. Разве она хотела этого ужаса? Она хотела всего лишь счастья своему сыну, который имеет точно такое же право на наследство отца, как эти… оборотни, дети Велезоры. Откуда ей знать, чего там накудесила эта подлюка Галица! Накудесила, а сама сбежала, змеища, и горя ей мало!
Целыми днями Замиля ломала не привыкшую думать голову: как обезопасить себя? И не могла придумать другого способа, кроме как убраться подальше от Вершины, отыскать Хвалиса и возложить на него обязанность заботиться о матери. Ведь все это было затеяно ради него!
Когда все вышли из Замилиной избы, Толига, горестно вздохнув, взял из поленницы полено покрупнее и прочно подпер дверь. Вершина оставался там один, и, пусть из Замили сторож не слишком надежный, все же страшно было оставить больного до утра совсем без присмотра. Завтра, когда бегство обнаружится, Богоня приищет ему новых нянек, а пока у Толиги будет спокойнее на сердце, если хворый князь не сможет выбраться. Жилье и так было все увешано пучками сухой полыни и дедовника, окружено полосой наговоренного Темяной угля, черневшего на снегу и подновляемого после каждого снегопада.
«До чего докатились! – мысленно восклицал Толига. – От собственного князя уберегаемся, будто от упыря лихого!»
И невольно вспомнил Лютомера. Если кто и сумеет вернуть князя Вершину в разум, то разве что его старший сын-оборотень…
Все было обговорено заранее, а к тому же Замиля обмирала от ужаса, что кто-то заметит ее бегство, поднимет переполох и все рухнет: ее водворят назад в избу с мужем-упырем и запрут там до самой смерти. Поэтому, трепеща как лист, она удержалась и не произнесла ни единого слова. Толига махнул рукой, его сыновья взяли под уздцы запряженных в сани лошадей, и маленький обоз тронулся прочь из городца. Скрипел снег под полозьями, позвякивала упряжь. И больше ничего – ни прощальных криков, ни пожеланий удачной дороги…
Отойдя шагов на двадцать, Замиля обернулась. Располневшая с возрастом, истомленная волнением, она уже устала и с нетерпением ждала, когда можно будет сесть в сани.
Окруженная защитными чарами, изба, в которой она прожила двадцать лет и родила пятерых детей, выглядела жутко – будто островок Нави среди мира живых. Даже тишина ее казалась угрожающей: будто некое зло приглядывается, выбирая удобный миг для нападения.
И Замиля внезапно поймала себя на желании увидеть, как пламя вдруг взовьется над кровлей избы и мигом охватит ее всю, уничтожая ту жуть, что затаилась внутри…
Низовье Рессы, месяц просинец
Под толстым слоем снега было непонятно, где кончается лед Рессы и начинается пологий берег, но Милята уверял, что костер разложил уже на берегу, и ему поверили. Дружине Лютомера требовался привал.
Худота и Извек волокли из леса старое бревно, поваленное бурей, и ругались, что им никто не помогает. Холод был не сильный, как обычно в пасмурные дни, но от долгого пребывания под открытым небом все порядком продрогли. А лес с обеих сторон стеной стоял над узкой рекой, глухой и заснеженный, похожий на неприступную стену – границу иного, нечеловеческого мира. Кое-где виднелись крестики и галочки птичьих следов или заячьи петли, но никаких признаков близости жилья. Эти места были малонаселены, и только Лютомер, с его чутьем оборотня, еще мог как-то найти теплый ночлег.
Лютава сидела возле огня на краю саней и с наслаждением грела озябшие руки. Уже десятый или одиннадцатый день – она, кажется, все-таки сбилась со счета – Лютомер со своей дружиной и сестрой ехали обратно домой, в Ратиславль на средней Угре, из Витимерова на верхней Десне. Их родичи думали, что Лютава уже стала женой дешнянского князя Бранемера, сам Бранемер думал, что его угрянская невеста коротает зиму в священном заточении под Ладиной горой, а на самом деле она покинула подземелье в ночь Корочуна, среди буйства ряженых. Теперь у нее имелось средство вернуть здоровье отцу, избавив его от духа-подсадки.
Во время бегства с Ладиной горы Лютаве было некогда раздумывать, но на первом же ночлеге она засомневалась.
– Зачем нам сейчас ехать в Ратиславль? – приставала она к брату, усталая и замерзшая после целодневной езды по снегу и понимающая, что впереди еще не один десяток таких переходов. – Может, попытаемся до подсадки добраться… через Навь? Какая разница, где мы находимся, если воевать нам надо не с телом, а с духом?
Превратности ночи Корочуна не смутили Лютаву, а, наоборот, наполнили ратным духом: она чувствовала, что многому научилась, и теперь жаждала опробовать свои вновь приобретенные возможности.
– Мы можем одолеть подсадку через Навь, – кивнул Лютомер. – Но этого мало. Даже если у нас все получится, отец будет слишком слаб. А рядом с ним – Замиля. Она уговорит его послать за Хвалисом, и он согласится, потому что откуда ему знать, кто наслал на него дух-подсадку, а кто избавил?
– Ты думаешь, Хвалис придет жать нашу ниву?
– Прибежит! За полгода и отец поостыл, и родичи подзабыли, как из-за Хвалиса чуть без хлеба на год не остались. Отец если вдруг возьмет и выздоровеет – на радостях простит сыночка беспутного. Ему тоскливо без родных чад, а мы с тобой невесть где. Вот и получится, что лес валили и жгли мы с тобой, а жать придет Хвалис.
– Отец сам нас отослал! Мог бы и за тобой послать.
– Ему не придется за мной посылать – я сам приеду. Если справимся – он поймет, что чужая злоба едва нас не погубила его руками. А если…
– Если – что?
– А если не справимся, – Лютомер вздохнул, – то мы в Ратиславле будем еще больше нужны.
Никто из них еще не имел опыта борьбы с подсадным духом. Лютомер верил, что справится с ним, но не мог уверенно сказать, переживет ли князь Вершина эту борьбу.
Лютава больше не возражала. Избавление отца было лишь одной заботой из многих. Лютомер не собирался уступать свое наследство сыну хвалиски, бывшей рабыни, а эти права ему нужно было отстаивать в Яви – среди родичей, перед лицом всего угрянского племени.
Уже шел Велесов месяц просинец, а подземный хозяин, хоть и приходился священным отцом Лютомеру, не баловал легкой дорогой. Почти все время валил снег, несколько раз им приходилось сутки и более пережидать где-нибудь в веси, пока прекратится метель и можно будет продолжать путь. У бойников были одни сани с лошадью, чтобы везти наиболее тяжелое из поклажи – котлы, припасы, топоры и прочее снаряжение, – но сами шли на лыжах, подбитых шкуркой с задних ног лося. Более длительную остановку собирались сделать в Чадославле, у боярина Благоты – хоть дня три пожить в тепле, помыться, подлатать одежду и обувь.
Уже осталось позади устье Свотицы, перед ними лежала заснеженная Ресса. Еще переход – и следующую ночь бойники намеревались провести в Чадославле. Лютава уже предвкушала, как удивятся ей Благотины женщины, но и обрадуются, как Милема будет показывать ей своего подросшего первенца, как девки и молодухи будут наперебой расспрашивать про Бранемера… и бросать лукаво-завлекающие взгляды на ее брата.
И, наверное, у Благоты им наконец удастся поесть как следует. В селищах по пути хозяева неохотно продавали съестное – до нового урожая оставалось еще полгода, зерно и прочее берегли, опасаясь голодной весны. Еле-еле удавалось раздобыть сена для лошади – животным ведь не объяснишь, что надо потерпеть до дома! Поэтому лошадь жевала, а люди порой поглядывали на нее с завистью. Дозорные по ночам долбили лед и удили окуней, светя в лунку факелом для приманки. Иногда выпадала удача и к пробуждению остальных уже была горячая похлебка. Но бывало, рыба не шла, и тогда приходилось после рассвета посылать отроков в лес поискать птицы или еще какой дичи. Однажды повезло: отроки нашли место ночлега зарывшихся в снег тетеревов. После легкой оттепели ночью похолодало и корка наста накрыла спящую птицу, не давая выбраться. Тем утром их набрали три десятка, и мяса хватило на несколько дней.
Но так везло редко, и Лютаве уже снились по ночам блины со сметаной. Сегодня снег снова схватило настом, и бойники ждали, полные надежд.
– Стой! – Дедила вдруг махнул рукой на Бережана, который вдвоем с Барсуком рубил мерзлые сучья для дымящего костра. – Тихо!
Все разом замерли и прислушались.
– Да, слышу! – шепнула Лютава. – Это он!
Треск ломаемых веток из глубины леса становился все ближе и отчетливее. Парни побросали топоры и схватились за луки, торопливо готовя их к работе, Требила, никудышный стрелок, взял сулицу и тоже приготовился.
Из леса донесся волчий вой. Это тоже был знак. Они все знали голос этого зверя, но каждый раз, когда они его слышали, мороз продирал по спине. Низкий, гулкий, – это был глубинный голос не просто леса, а Леса на Той Стороне, голос Нави, куда уходят умершие и откуда приходит к человеку столько благ и столько бед…
Кусты затрещали уже возле самой реки, и из леса выломился лось – похоже, трехлеток. В обычное время мощный лесной бык мог мчаться стрелой в снегу по грудь, как по ровному, лишь разбрасывая тучи белой пыли вокруг себя. Но сейчас он на каждом шагу проваливался в наст и выбирался оттуда с усилием.
Увидев перед собой речной лед, лось с новыми силами устремился вперед.
Людей, замерших возле хилого огня, он поначалу не заметил и прыгнул в их сторону. Бойники мгновенно натянули луки, Требила замахнулся сулицей, но лось прыгнул еще раз и оказался так близко, что все невольно дрогнули и подались в стороны. Сулица и две стрелы пролетели мимо.
Лютава закричала – огромный зверь с тяжелыми копытами мчался прямо к ней, а она, засидевшись в санях, даже не смогла вовремя вскочить.
Лось метнулся в сторону, вслед ему полетели еще три стрелы, а Требила, оставшийся без оружия, кинулся к Лютаве, чтобы убрать ее в сторону.
Но уже не было надобности: все три стрелы попали в лося: одна в шею, две прямо под лопатку. С разгону он пробежал еще два десятка шагов, разбрасывая по снегу кровавые пятна, потом наткнулся на дерево, остановился и покачнулся. В бока и в шею ему вонзились еще три стрелы, и лось завалился на спину. Еще несколько мгновений длинные вытянутые ноги судорожно молотили по воздуху, потом тоже упали.
Повисла выжидательная тишина, а затем два десятка голосов радостно закричали. Лютава даже запрыгала, сидя на санях. Теперь стая приедет в Чадославль сытой, мяса в подарок привезет, а может, и на часть дальнейшего пути останется.
Крупный снежно-белый волк с пушистым загривком и серыми подпалинами на боках вышел из леса вслед за лосем и наблюдал со стороны, как его стая убивает загнанную им дичь. Лютава на расстоянии послала ему поцелуй и всем видом изобразила восхищение.
Обрадованные бойники уже бежали к поверженному лосю, вынимать стрелы и разделывать тушу. Белый волк повернулся и неспешно скрылся за елями.
Обратно Лютомер вернулся уже на двух ногах. В человеческом облике он был почти так же хорош, как в волчьем, – высокий, худощавый, но очень сильный, с длинными русыми волосами, в которых люди видели источник его таинственной мощи. У него было продолговатое лицо с русой бородкой, близко посаженные серые глаза под густыми бровями смотрели умно и проницательно, и при всем при этом у него был какой-то диковатый вид, чем-то потусторонним веяло от его лица, даже незнакомые сразу понимали, что перед ними оборотень. Возможно, дело было во взгляде – жестком и хищном, какого не бывает у обычных людей. Только у тех, кто живет вне привычного круга.
Лютава так походила на брата, что их близкое родство всякому было видно сразу: тоже высокая, худощавая. Лицом она была не так чтобы очень красива – близко посаженные, как у Лютомера, серые глаза, черные брови, широкий рот, смугловатая кожа, как будто летний загар приставал к ней крепче, чем к другим. Однако лицо ее дышало умом и задором, которые делали ее очень привлекательной.
– Умаялся! – Лютомер улыбнулся сестре и присел на сани рядом с ней. – Там в лесу наст, он, зверюга, убегать не хотел, все норовил меня поближе подпустить и копытами приласкать. Еле выгнал.
– Зато теперь мы с добычей! – ликовала Лютава.
В путь тронулись только за полдень. Покончив с едой, бойники погасили костер и засыпали снегом угли, убрали котелок, в котором кипятили воду и заваривали сосновую хвою, рассовали по заплечным коробам миски и чарки, а съедобные части туши погрузили на сани. Голову, ноги, шкуру, внутренности, кроме печени, языка и губ, которые съели в первую очередь, оставили на снегу: лесные братья-волки подберут.
Сытые и довольные, отроки бодро двинулись вперед: первым шел Дедила, прокладывая путь, за ним – самые младшие, чтобы не отставали, потом остальные. Лютава ехала на санях в середине строя, а Лютомер шел рядом с ней. На сердце у нее было весело. Наконец-то она была сыта, согрета у костра, но больше всего ее ласкала надежда заснуть сегодня на лежанке, в избе, где вытоплена печь, поев перед этим каши и хлеба. Даже тянуло запеть, но на холоде стоило поберечь горло.
Вдруг впереди раздался свист. Лютомер всегда посылал кого-то из парней, чтобы шел на перестрел впереди всех и следил, безопасна ли дорога. Сейчас Худота поспешно возвращался и знаками показывал: навстречу идет другой отряд.
– Целый обоз! – возбужденно докладывал он Лютомеру и сбившимся в кучу бойникам. – Людей с три десятка да саней столько же!
Три десятка и с обозом – это уже почти войско по здешним пустынным местам. Не за дровами мужики. Лютомер огляделся. Берег Рессы здесь был невысок, и бойники могли на лыжах уйти в заросли, но как быть с лошадью и санями? Лютомер мотнул головой, и двое парней повели лошадь за ивы. Лютава, подобрав повыше подолы, торопилась за ними, стараясь идти по следам саней и все равно проваливаясь. У нее тоже имелись лыжи, но она редко ими пользовалась, и сейчас они лежали в санях среди поклажи.
Стая находилась уже на своей, угрянской земле, и встречный обоз мог не нести никакой опасности, но Лютомер из осторожности не хотел показываться всем подряд. Через пару мгновений стая исчезла, будто растворилась. Среди зимних зарослей их белые кожухи и серые волчьи шкуры не бросались в глаза. Их присутствие могли бы выдать следы, но на несвежем снегу трудно было определить их давность.
Спрятанная за двумя-тремя близко растущими толстыми ивами, Лютава прижималась к лошади, готовая зажать морду, если вздумает ржать. И сама на нее опиралась, поскольку удерживать равновесие в глубоком снегу, перемешанном с ветками и высокой травой, было нелегко. В черевьи набьется, чулки промокнут…
Сквозь ветви ей было плохо видно реку, и она завидовала побратимам, которые сейчас лежат гораздо ближе, держа наготове луки. Лютомер тоже был где-то там, впереди, и она вытягивала шею, безнадежно стараясь рассмотреть его через гущу зарослей.
Было безветренно, и вскоре она сама расслышала приближение чужого обоза: скрип снега, позвякивание упряжи, фырканье лошадей.
И вдруг поблизости кто-то свистнул. На реке послышались возгласы, шум движения. А потом Лютава услышала, как кто-то, не скрываясь, продирается сквозь снег и заросли на лед.
Она отодвинулась от лошади и выглянула из-за ивы. Лютомер, с опущенным луком в руке, уже вышел на открытое пространство и помахал кому-то впереди.
– Здоров же будь, стрый Богорад, вовек живи! – крикнул он.
Услышав это имя, Лютава побежала за братом. И успела встать рядом с ним как раз тогда, когда из-за саней вышел Богорад – двоюродный брат их отца, князя Вершины. Его лицо выражало разом изумление, недоверие и облегчение.
– Услышали, видать, боги вопрошания наши! – воскликнул тот. – А я за тобой посылал!
Бойники дружно выходили на лед из своей засады, спутники Богорада тоже собирались толпой, приветствуя их. Гудели голоса: все это были знакомые лица – Ратиславичи и кое-кто из соседей, составлявших князеву дружину во время зимних обходов.
– Что случилось? – Лютомер подошел к родичу. – Ты чего здесь лазишь, дядька?
– Как – чего? А в гощенье-то кто пойдет – Сивый Дед?
– Гощенье! – Лютомер хлопнул себя по лбу, потом опустил руку и посмотрел на Богорада. – А что, отец… совсем плох?
Богорад только махнул рукой и сел на сани.
– Слушай, что у нас деется…
Лютомер мигнул своим, и отроки, сбросив лыжи, полезли в кусты за хворостом. Развели костер, чтобы не холодно было беседовать, поставили в круг четверо саней. Богорад рассказывал, как с Вершиной во время Корочуна приключился припадок, о том, как тот жил после.
– А хвалиска-то сбежала! – добавил он в конце. – Вот перед тем, как мне в путь снаряжаться, взяла да и исчезла. И девчонку свою увезла, и челядь, и пожитки. Скотину только оставила. Толига с отроками ее увез куда-то. У нас, правда, бабы болтали, будто это… что Вершина ее того… – Он не решился сказать, что князь съел жену, но слухи шли именно об этом. – Но не мог же он за одну ночь пятерых уходить, и чтобы ни косточки не оставить!
– Не мог! – подтвердил Лютомер. – Та тварь, что в нем засела, не кости грызет, а сердце сосет.
– Что же делать? – Опираясь руками о колени, Богорад подался к нему. – Так всего и высосет?
– Нет. У сестры есть средство подсадку выгнать. – Лютомер кивнул на Лютаву. – Мы затем и едем.
– Что за сре… – начал Богорад, поглядев на Лютаву, и вдруг переменился в лице. – Постой, а ты здесь почему?
Он уставился на косу Лютавы, спускавшуюся из-под шерстяного платка на плечо. Было ясно, что княжеская дочь по-прежнему не замужем. И это после того, как ее еще осенью отослали на Десну – выходить за Бранемера! Но Богорад настолько привык видеть детей Велезоры всегда вместе, что сейчас, занятый другими заботами, не сразу сообразил: ее тут быть не должно!
– Ты что же, – нахмурив брови, родич посмотрел на Лютомера, – не довез сестру до жениха? Тебе же отец… – он невольно запнулся, поскольку теперь всегда при воспоминании о родиче-князе испытывал жуть, – ясный приказ отдал: везти ее к Бранемеру! Как ты решился родительский приказ нарушить?
– Не нарушил я родительский приказ. Привез сестру к жениху, как было велено. Только у них обычай такой…
– Такой обычай у дешнян, что всякий год молодая жена или дева княжеского рода в первозимье уходит в подземелье и там живет до Ладиного дня, – подхватила Лютава. – Разделяя самой Лады заточение, что у Велеса в плену томится. И было решено, что в этот год я пойду Ладе служить, а свадьбу до Ладиного дня отложим. И вот… – Она набрала побольше воздуху перед самым сложным, – как вошла я в подземелье, так мне тайное открылось. Узнала я, почему боги Бранемеру уже двенадцать лет детей не посылают. Узнала, что не на жене проклятие лежало, а на нем самом. Сглазила его мачеха, старого князя младшая жена. Хотела, чтобы Бранята бездетным умер, а после него все ее сыну Витиму досталось. Но я… я одолела бабку и сняла сглаз. И жена Бранемерова сразу же и понесла. Теперь я, даже если весной и выйду за него, княгиней уже не буду: Миловзора родом не хуже меня и сына родит первой. К тому же… к весне и дешняне могут проведать, что с нашим батюшкой приключилось. Кто тогда меня возьмет – испорченного отца дочь? Узнает муж об этих делах – домой отошлет с позором. Я позора себе и роду не хочу. Сперва исцелим батюшку, тогда и будем о свадьбах думать.
По лицу Богорада было видно, что в уме его роятся и толкаются многочисленные вопросы. Но он молчал: в делах волшбы и волхвования он ничего не понимал и знал, что в этом племянники куда умудреннее его. А к тому же Лютава сказала нечто, отвечавшее его собственным мыслям. Даже и выйди она за Бранемера еще осенью, это не помогло бы делу в том случае, если на Десне узнают о несчастье с Вершиной. Весьма вероятно, что муж отослал бы ее назад, осрамив весь род Ратиславичей. Богорад и сам день и ночь изводился от беспокойства ради грозящего позора.
– Так что, девка, поедешь домой? – спросил он, помолчав.
– Мы поедем, – уточнил Лютомер.
– Ты со мной в гощенье пойдешь, – возразил Богорад. – Ты – отцу старший сын и наследник, тебе и дело его исправлять.
С этим Лютомер не собирался спорить. Подхватив поводья из слабеющих отцовых рук, он оставлял за собой его место, если Вершине не удастся вернуть разум и здоровье. Отказаться – означало уступить все права кому-нибудь из братьев. Чего доброго, Хвалису!
– Значит, мы пойдем с тобой в гощенье и приедем в Ратиславль вместе, – решил Лютомер.
– А отец… – начал Богорад, снова хмурясь.
Он и сам не знал, как быть: послать девку одну или с двумя-тремя отроками за две реки не поворачивался язык. Но если она повезет свое загадочное средство по пути гощенья, это означает, что в Ратиславле оно будет месяца через два!
– Это не так страшно, – утешил его Лютомер. – Галица мертва. Управлять подсадкой она больше не может, а без хозяйки дух пребывает будто в спячке. Говорят, можно два-три года так жить. Мы успеем вернуться… и все поправить.
Но чело Богорада не разгладилось, в глазах застыло угрюмое сомнение. Он чувствовал себя будто в избе, где проваливается крыша и оседают две-три стены: не знаешь, куда кидаться, что держать, чтобы не дать всему зданию рода Ратиславичей рухнуть на головы детям. Князь – испорчен и безумен, старший сын – бойник и оборотень, второй сын – преступник и беглец… Даже младшая князева жена, по чьей глупости все это заварилось, сбежала, и неизвестно, где она сейчас и что затевает. Слава чурам, если Галица мертва, но ведь с той дуры Замили станется другую замороку найти! Мало ли их Невея наплодила!
– Ну, смотри, – наконец выдохнул Богорад. – Ты – отцу наследник, тебе и решать.
А когда он встал и пошел к своим саням, Лютава вдруг испустила глухой протяжный стон.
– Что? – Лютомер обернулся. – Ногу отсидела?
– Нет!
А Лютава сообразила: стая разворачивает лыжи вслед за Богорадовой дружиной! Они снова едут на полудень, вверх по Рессе, на приток Перекшу, что служит гощенью дорогой на восток. Все ее мечты о ночевке возле теплой печки, о пирогах и блинах со сметаной, о болтовне с Милемой и другими сродницами пошли прахом!
А ведь Чадославль был уже так близок – мало не видать…
За двадцать лет жизни в Ратиславле Замиля ни разу из него не выезжала – было некуда и незачем. Поездка до ближайшего займища уже казалась ей событием, а теперь, пустившись в путь через бескрайние леса, она чувствовала себя оторванной от всего прежнего – не так чтобы любимого, но привычного. Заснеженные чащи, которые ползли навстречу саням, уходили назад, но совершенно не менялись, неожиданно напомнили ей море. Хвалисское море… Нет, Бахр-аль-хазар – Хазарское море, как оно называлось в ее родном Хорезме. Она пересекла его, следуя в свите купца по имени Кабиль ибн Ульфат. И сейчас, двадцать лет спустя, его чернобородое лицо и хрящеватый нос ясно стояли у нее перед глазами. Она помнила даже голос – так ясно врезаются в память впечатления юности, когда жизнь впервые распахивается перед тобой во всю ширь. Но те воспоминания казались очень далекими – будто все это было не с ней, а с какой-то совсем другой девушкой. И даже странно, что ту другую девушку тоже звали Замиля. Видит Аллах, она не желала такой беспокойной жизни. Разве ее вина, что купец Кабиль так влюбился в юную рабыню, что повез ее с собой туда, куда женщин никогда не берут? Уж конечно, жену свою, Раджап-бану, он не стал бы таскать по свету, не заставил бы переживать бесчисленные трудности, опасности и невзгоды!
Впрочем, Аллах не был к нему благосклонен. Любопытство к неведомым землям и торговым путям завело его на гибель. Прознав от вятичей, что у хвалисов с собой немало серебра, молодой угрянский князь Вершина собрал войско и напал на купцов у самых своих рубежей. Нападение случилось на берегу большой реки – Оки, как Замиля потом узнала. Но Кабиль говорил, что это Нахр ас-сакалиба – Река Славян, которая впадает в Хазарское море. Было известно, что этим путем купцы-русы приходят из славянских стран к Румскому морю, а оттуда пробираются к Хазарскому и едут на верблюдах до самого Багдада, но никто на Востоке не мог сказать, что сам побывал у начала этого пути. Одни говорили, что Река Славян течет в Хазарское море из Румского, другие – что выходит из глубины славянских земель и двумя рукавами впадает в два моря.
Кабиль хотел стать первым, кто доберется до самых истоков и выяснит наконец всю правду о Реке Славян. Мечтал, как прояснит это дело, возможно, даже напишет книгу и тем навек прославит свое имя. Со своими людьми – купцами и охраной – он с позволения хазарского кагана вошел в Реку Славян из Хазарского моря и миновал город Хамлидж, лежавший неподалеку от ее устья. Там он встретил купцов ар-рус, которые указали дорогу дальше, но предупредили: там совсем дикие места, где жители недружелюбны к чужакам.
И оказались правы. Чем дальше от моря забирался Кабиль, тем труднее ему было договориться, несмотря на усилия рабов-толмачей. И вот однажды на рассвете, когда отряд собирался в путь, из кустов вдруг полетели стрелы. Замиля успела спрятаться среди поклажи, накрывшись мешком. Ее нашли, только когда все уже было кончено и победители стали делить добычу. Люди Кабиля были перебиты, частью захвачены в плен и проданы проезжим русинам, у которых уже имелись заключенные договора с местными князьями о безопасном проезде. Впоследствии, начав понимать язык сакалиба, Замиля узнала: к мысли об этом набеге Вершину подтолкнули подлецы ар-рус. Им не нужны были соперники на этих торговых путях.
Сам Кабиль погиб. С немногими людьми он пытался уйти на лодье, где лежал один из сундуков с серебром, но получил стрелу в грудь. Из последних сил он раскрыл сундук и опрокинул через борт в реку, а затем и сам бросился туда с саблей в руке. Так и лежат на дне Оки сотни серебряных дирхемов, золоченая сабля и кости отважного, но неудачливого искателя новых путей… И не насмешка ли судьбы – что она, рабыня-наложница, взятая хозяином ради отдыха среди тягот пути, единственная теперь знала то, за что немало мудрецов Хорезма заплатили бы золотыми динарами: что большая река, впадающая в Бахр-аль-хазар, у местных жителей называется сперва Итиль, потом Юл, что в нее впадает Ока, населенная славянами и схожей с ними голядью, а в Оку – Угра, ведущая от вятичей к кривичам и дальше каким-то образом выводящая к землям русов…
Угрянский князь Вершина этих сведений не ценил, зато был охоч до серебра и шелков. Добыча ему досталась немалая – правда, половину он отдал вятичским князьям, своим сватам, за разбой на их земле, – и красавица рабыня Замиля. Двадцать лет она прожила в избе среди этих вечных снегов, родила пятерых детей, двоих похоронила… Привыкла жить среди язычников и делить с ними пищу – не хватило духу отказаться от еды и умереть ради Аллаха. И дети ее выросли язычниками… Но как она могла помешать этому, если их, едва научившихся ходить, брали за руки и уводили в общий круг – плясать перед идолами? Детьми Замили распоряжалась старшая жена – княгиня, и младшая жена подчинялась ей, как дома – Раджап-бану. Доля младшей жены во всех землях одинакова.
Замиля всегда знала, что рано или поздно эти края и эти люди погубят ее. Недаром же ее первые шаги по земле угрян она сделала между пятен крови и мертвых тел. Вершина был добр к ней, но не сумел защитить ее сына от детей Велезоры. А теперь и сам превратился в опасное чудовище, какого-то шайтана! И вот ей, уже совсем не молодой, приходится пускаться в путь через море, не ведая, что на том берегу…
Вперед продвигались не быстро. Зная, что за бабу ему придется везти через три реки, Толига набрал с собой овчин, припасов, так что загрузили целые сани – кроме тех двух, что ушли под пожитки самой Замили. Она увезла из дому все, что смогла, будто не собираясь возвращаться. Толига был хмур и со спутницей почти не разговаривал. Ему пришлось выдержать целый бой с собственной «старухой»: Мирогостевна решительно возражала против того, чтобы муж ввязывался в это дело. Едва отпустила сыновей – только потому, что и сама считала добрым делом избавить Ратиславль от хвалиски.
Ехали по хорошо знакомым местам – вверх по Угре. Толигу, княжьего родича, здесь знали и охотно пускали ночевать. На Замилю смотрели с изумлением: в этих краях не видели таких темноглазых, черноволосых женщин, – потом начинали шептаться. Никому не открывая правды, Толига рассказывал, что младшая княжья жена по повелению самого Вершины едет проведать своего сына. На верхней Угре уже прослышали о событиях минувшего лета, хотя и толковали их вкривь и вкось.
Через три дня вышли в извилистую Жижалу – приток Угры, что вливался в нее с полуночи, как раз там, где сама Угра резко поворачивала на полудень. С запада в нее здесь же впадала Вороновка, и три реки образовывали нечто вроде неровного креста, перекрестка путей на все четыре стороны света.
Теперь до цели оставалось совсем близко, и еще до вечера путники увидели городец Верховражье. Речной мыс отделялся с одной стороны глубоким оврагом, откуда и пошло название – от «верх оврага», а с другой стороны был выкопан ров. Здесь сидел род Радутичей – старинный, знатный и неуступчивый. Когда-то их предки отвоевали эти земли у голяди и не желали признавать над собой власти ни смолянских, ни угрянских князей. Князь Братомер, а потом его сын Вершина немало бились с Радутичами и в конце концов договорились о дружбе, отдав сестру Толиги, Румяну, в жены старшему Дорогуниному сыну, Окладе. Толига был родичем Вершины по Темяне, то есть к княжескому роду не принадлежал, но Оклада сам выбрал Румяну – самую красивую из ратиславльских невест того лета.
Оклада сейчас и был старейшиной Верховражья и называл себя боярином. Дань с Жижалы он собирал сам и две трети отсылал в Ратиславль, но в остальном был здесь полным хозяином: сам судил, сам приносил жертвы за жижальцев у знаменитого Копье-камня, сам созывал вече. Все это немало заботило Вершину, но пришлось кстати, когда понадобилось избавиться от Хвалиса: на Жижалу угрянское гощенье не ходило, и можно было верить, что здесь оплошавшего отпрыска никто не найдет. А Оклада только рад будет приютить того, кого не любят в Ратиславле.
Перед прибытием Замиля велела остановиться и переоделась: вместо дорожной надела самую дорогую свою шубу – на булгарских соболях, крытую синим шелком, – а поверх убруса намотала другой, золотистого шелка. Надела золоченые греческие обручья с самоцветными камнями, перстень, в котором мерцал лиловый камень джамаст с хорезмийской надписью «Ил-ла-лах», который какой-то русин отдал Вершине в уплату за проезд через его земли от Волги к Десне. Все это Вершина надарил ей за двадцать лет. Она не собиралась являться к Окладе беглянкой и просительницей: пусть гордится, что его навестила любимая жена угрянского князя!
У Толиги всю дорогу было сердце не на месте. Полгода назад он отвез сюда своего воспитанника, но с тех пор не имел от него вестей и не знал, как тот здесь прижился.
Однако все оказалось даже лучше, чем Толига ожидал. Судя по веселому виду Хвалиса, у Оклады он пришелся ко двору. Здесь легко было рассказывать, что он был вынужден бежать из дома, чтобы его не погубили оборотни – дети Велезоры, и Оклада охотно поддержал того, в ком видел соперника будущих угрянских князей. За столом Хвалис сидел среди хозяйских сыновей и был одет в такую же, как у них, сорочку, шитую руками боярыни Румяны.
Матери Хвалис очень обрадовался, и она разрыдалась, припав к нему. Потом, проведенная в дом, стала раздавать подарки: посуду хозяйке, полотно дочерям, пояса и рукавицы сыновьям. Хозяину – шелковую шапку на соболе. Семейство было довольно многочисленное: сыновья Живогость, Переслав, Радутец, Румянок, дочери Игрелька и Добруша. Старшая, Толигнева, названная в честь брата матери, уже была замужем. У Оклады имелся младший брат, что изначально тоже звался Радутец, но теперь больше был известен под прозванием Кривец – правый его глаз был стянут старым шрамом. У Замили и для него нашелся тканый пояс и резной гребень. Оклада, довольно хмурый рыжеватый мужик, и правда был горд принять такую гостью, даже расщедрился на пару щербатых улыбок.
– Где вам хлеб, там и нам хлеб! – приговаривал он. – Дайте боги, чтоб вам лиха не было, коли вы наши родичи и сватья!
В городце жил только сам Оклада с ближними родичами, зато на берегу раскинулось довольно обширное селище. По вечерам люди набивались в обчину, где справляли пиры и обсуждали дела, и Толига рассказывал о событиях минувшего года на Угре. Главных было два: отправка Лютавы в дешнянскую землю, замуж за князя Бранемера, и болезнь Вершины. Толига представил все наилучшим образом: Лютомера отец отослал вместе с сестрой и не велел возвращаться, пока сам не покличет – что было чистой правдой, – а значит, его наследником, буде чуры призовут, становится Хвалис. О том, что вину за болезнь князя молва возлагает на Замилю, он, конечно, не упомянул. Зато дал понять, что ради будущего вокняжения Замиля и приехала за любимым сыном.
На самом деле Толига с трудом скрывал беспокойство. Замиля приехала ведь вовсе не затем, чтобы забрать сына, а чтобы с ним остаться.
Самому Хвалису они тайком рассказали всю правду.
– Твоего отца схватил шайтан… ну, тот злобный дух, которого наслала эта змеюка Галица, – шептала ему тайком Замиля. – Сначала все шло хорошо: он отправил Лютаву на Десну, а ее брата отослал с ней и не велел возвращаться. Потом он призвал бы тебя и объявил своим наследником. Так и было бы, но… Я не знаю, что случилось с Галицей, но тот шайтан вдруг взбрыкнул и перестал ей подчиняться. Теперь князь сидит как помешанный и только просит есть! Я каждый день и каждую ночь боялась, что он съест меня или нашу дочь! И я знаю: все эти люди нарочно оставили с ним меня и Амиру, чтобы он, если шайтан захочет кровавой жертвы, бросился на нас! Нам пришлось спасать свою жизнь! И теперь ты должен защитить твою мать – я сделала все, что могла, чтобы защитить тебя. Но теперь ты уже не ребенок, ты мужчина, и теперь я полагаюсь на тебя!
– Я придумаю что-нибудь, не бойся, матушка! – Хвалис обнимал ее, но в лице его и в таких же, как у Замили, темных глазах застыла тревога.
За минувшие полгода он почти забыл прошлые неприятности. Иногда он вспоминал о будущем, но отмахивался от этих мыслей, надеясь, что отец и мать как-нибудь все уладят. И вот эти надежды рухнули. Отец – помешан, мать сама приехала искать защиты у него, сына. Прятаться больше не за кого, пора из отрока делаться мужем…
– Нужно успеть что-то наладить, пока Лютомер не прознал и не вернулся, – говорил ему Толига. – Если он узнает и приедет – Богоня его князем объявит. Тогда пропала твоя голова: всю жизнь здесь сиди.
– Меня здесь любят…
– Любят, пока надеются, что от тебя им толк будет. А коли ты навсегда в бегах останешься, что им толку? Оклада-то станет ли тебя всю жизнь кормить? Родства-то у него с тобой – вашему тыну троюродный плетень. Я вот думаю, мать, – Толига обернулся к Замиле, – не попытаться ли нам женить его тут? У Оклады вон две дочери-девки. Будет ему зять – тогда уж не отступится, что бы там ни оказалось потом.
– Ну, хорошо, поговори с Окладой, – не слишком охотно согласилась Замиля. – Лишь бы у него хватило ума понять, какая для него это честь! Да! – добавила она, видя, как хмурится Толига. – Потому что мой сын – княжеского рода, а эти Радутичи только и знают, что чваниться своим расколотым камнем!
Повесть о расколотом камне Замиле поведали на первом же пиру, который Оклада устроил в обчине в честь ее приезда. Когда-то, говорили старики, на месте Верховражья стояло святилище голядское, и лежал в нем Гром-камень, Перкунасу посвященный, и служила в нем дочь вождя. Звали ее Жежела. Но однажды повстречался ей молодец, удалой Радута, и полюбила она его. Стала ходить с ним гулять в лесочки, свивать веночки. Однажды загулялась на всю ночку летнюю, а тем временем погас священный огонь перед Гром-камнем. Разгневался Перкунас, ударил огненным копьем и разбил камень напополам: половина в реку рухнула, а половина под гору упала. С тех пор покинуло голядь счастье. Приспела осень, посватался Радута к Жежеле, но отказал ему голядин: лучше, мол, я дочь мою в реку брошу, чем за кривсом замужем увижу. Собрал тогда дружину Радута и пошел на голядь войной. Разбил войско голядское, и затворился вождь в городце. Видит – подступает войско, а деться ему уже некуда. Бросил тогда он дочь свою непокорную в волны речные, а сам вышел биться с Радутой и погиб со всем своим родом. А Радутин род с тех пор всем владеет. Остаток же Гром-камня и посейчас под горой лежит и весьма людьми почитаем. Только теперь зовется он Копье-камень, потому что видно на нем след от копья Перунова, а реку так и зовут с тех пор Жижалой…[1]
Однако Хвалис и впрямь мог надеяться на лучшее везенье в сватовстве, чем удалой Радута. Вместе с другими парнями Хвалис ходил на девичьи павечерницы, и его охотно там принимали, а значит, считали вполне пригодным женихом. В чем-то Замиля была права: тот, кто у себя дома звался отродьем иноземной рабыни, здесь оказался княжеским сыном, да еще и вторым по старшинству. А поскольку самый старший, Лютомер, до сих пор оставался в бойниках, то есть как бы и не в людях вовсе, то Хвалис до его возвращения оказывался старшим. Да и вернется ли оборотень хоть когда – один Велес знает!
Не удивительно, что боярыня Румяна улыбалась, глядя, как Хвалис болтает с ее младшими дочерьми. Игрельке было четырнадцать лет, а Добруше – тринадцать; обе уже год-два как впрыгнули в поневу, то есть достигли возраста, когда можно справить обручение, а при надобности – и свадьбу. Младшая, Добруша, лицом пошла в отца и унаследовала его широкий нос и жесткие рыжие волосы. Зато средняя, Игрелька, уродилась в красавицу мать, и на голове ее задорно вились легкие русые кудряшки с небольшим рыжеватым отливом. Чесать их было наказанье – уж сколько гребней переломали, – особенно при том, что девушка была резва и непоседлива. На павечерницах она всегда первая бросала пряжу и выходила плясать, при этом меча на Хвалиса завлекательные взгляды своих ореховых глаз. Другая мать не обрадовалась бы невестке, которая плясать идет охотнее, чем работать. Но Замилю, которая и сама прясть была не охотница, это не смущало. Если девчонка станет княгиней, то сможет хоть вовек веретена в руки не брать!
Вероятно, мать Игрельки думала примерно так же. Уже через несколько дней после приезда Замиля догадалась, что боярыня Румяна не прочь с ней поговорить.
– Какая у вас красивая дочь! – как-то начала хвалиска, когда они с боярыней сидели на павечернице на передней скамье, наблюдая за играми молодежи. – Моя Амируша – послушна и прилежна, но красоты ей боги не послали. А как отрадно для родительского сердца видеть, что дочь так радует глаз!
В середине просторной беседы играли «в зорю»: парни и девки стояли в круг, держа руки за спиной, а «заря» ходила снаружи с платком в руке. Все дружно пели:
- Заря-зареница,
- Красная девица
- По небу ходила,
- Платок обронила…
Сейчас «зарей» была Игрелька: как старшая девушка на выданье старшей семьи Верховражья, она начинала все игры и заводила хороводы. Амиру тоже позвали, и она стояла с привычно смущенным видом, будто стесняясь своей черной жесткой косы и темных, будто ягода черника, глаз.
– Коли девка послушна и прилежна, то и женихи найдутся, – добродушно улыбнулась Румяна. – Что, за вашей Мирушей приданое-то ведь хорошее?
– А как же иначе! Я дам за ней шубу на куницах, два полсорочка бобра, сорочок лисы, три греческих платья из шелка, разные узорочья. А про полотно и рушники даже говорить нечего.
– Ну, а коли девка прилежна, приданое доброе, так и жених у нас найдется под стать. Как тебе мой сынок Переславко? Как раз в пору вошел, думали зимой женить. Присмотрели было и невесту, но раз такое дело… можем и в вашу сторону посмотреть.
- Платок обронила,
- В луже загрязнила,
- На жердочку положила –
- За водой пошла! –
пели в кругу.
Сунув платок в руку одному парню, визжащая «заря» наперегонки с ним бросилась вокруг строя: кто первым добежит до освободившегося места.
А Замиля слегка опешила. С самого рождения Хвалис был ее любимцем, отрадой и надеждой; на Амиру она обращала мало внимания, тем более что той не повезло с наружностью. О пристройстве дочери она даже не думала и в первый миг была разочарована: вовсе не затем она завела этот разговор! – но тут же, к счастью, сообразила, какие выгоды это сулит. Не зря она все лето и осень слушала в Ратиславле толки о похищении Доброславом гостиловским двух Вершининых дочерей, о сватовстве и о том, что два равных рода обмениваются невестами ради чести и дружбы. Дать свою девку, не взяв взамен другую, может только тот, кто признает себя младшим. А это не про нее!
– Ах, я бы принесла в жертву Макоши и Рожаницам лучшую белую овцу, если бы судьба моей дочери устроилась так счастливо! – Замиля прижала руки к груди, заговорила своим низким своеобычным голосом, который так пленял Вершину целых двадцать лет. – Такой у вас хороший род… такой старинный, знатный, годный оберегать свою честь и добро! Ничего лучше и не могло бы ей выпасть на долю! Знать, боги приметили ее доброту и решили вознаградить, хоть и не уделили ей красоты лица! Но ты знай: женщины моей семьи весьма плодовиты. – Она доверительно наклонилась ближе к Румяне. – У моей матери было двенадцать детей.
На самом деле Замиля даже не помнила своей матери и ничего о ней не знала. Двенадцать детей было у матери Раджап-бану, которая любила о них порассказать женской половине Кабилева дома. И если бы Румяна стала расспрашивать, Замиля смогла бы все это пересказать: за время пути давно забытая юность вернулась на память, будто все это было лишь вчера.
– Я родила всего пятерых, и лишь трое из них сумели вырасти, но ты же понимаешь почему… – Замиля расширила свои большие красивые глаза, намекая на нечто загадочное. – Ведь старшей женой моего мужа была знатная умелая колдунья!
– Велезора-то? – с любопытством спросила Румяна.
– Она самая! Она сумела родить только двоих, а сына и вовсе единственного, и уж конечно, она не хотела, чтобы они нашли себе много соперников в моих детях. Ведь она знала, как князь любил меня… с самого первого дня, когда увидел, и всегда будет любить! С этим она ничего не могла поделать, несмотря на всю ее мудрость и хитрость. Я точно знаю: от ее ворожбы умерли маленькими два других моих сына, и счастье, что мне удалось вырастить хотя бы троих! Амируша будет тебе доброй и покорной невесткой и принесет много внуков. Если нам удастся договориться… Ты же понимаешь… и твой муж, я верю, понимает… будущий князь не может дать кому-то в жены свою родную сестру, не получив невесты взамен.
И Замиля снова метнула взгляд на Игрельку: раскрасневшаяся после «зари», с разлохмаченными кудрями, та сидела на лавке и обмахивалась платком.
– Об этом шла речь, когда мой сын летом ездил на Оку и виделся с князьями вятичей, – продолжала Замиля. – Там уже все было уговорено: Хвалису предлагали в жены племянницу Святомера, дочь их старшей жрицы Чернавы, а взамен ее сын должен был взять за себя Молинку, вторую дочь Вершины. Но все погубили оборотни, дети Велезоры! Из зависти, что им никто не дает ни женихов, ни невест, они разрушили все уговоры и обманом, ворожбой увезли Молинку с Оки!
– Это как же?
– Трудно даже вообразить такое коварство! – Замиля заломила руки. – Оборотень наложил чары на обеих девушек, так что они поменялись обликами: Молинка стала выглядеть как Гордяна, а та – как Молинка! Поэтому никто не помешал увезти Молинку – все думали, что угряне увозят Гордяну! Даже мой сын ничего не заподозрил – мы ведь не знаемся с их шайтановым колдовством.
– Каким колдовством?
– Очень дурным! А когда правда открылась, уже было поздно. Но оборотни были наказаны богами за свой обман: тем же летом Молинку унес Летучий Змей! Она слишком тосковала по своему жениху и тем приманила змея. Так все и расстроилось: ведь у Вершины больше не было невесты для вятичей. Впрочем, еще не все пропало. Мы еще сможем породниться с ними будущим летом. Я знаю, если оборотень не помешает, они будут рады предложить невесту моему сыну. Если еще не будет женат…
И она многозначительно посмотрела на Румяну.
– Это мы понимаем… чай, обычаи нам ведомы… – протянула та, очарованная этой смесью правды и вымысла, так похожей на сказание. – Не знаю, как отец рассудит… Это ему решать.
– Князь позволил мне самой устраивать судьбу моих детей, – немного надменно заверила Замиля. – Он понимает: я хочу самого лучшего для них и никогда не уроню чести их рода!
А Игрелька, едва отдышавшись, уже вновь вскочила и затеяла игру в колечко. Схватив Хвалиса за руку, первым потащила его в ряд.
- Покачу я колечко кругом города,
- Покачу, покачу!
- А за тем колечком я сама пойду!
- Я пойду!
- Я сама пойду, мила друга найду!
- Мила друга – себе суженого!
Игрелька была очень близка к тому, чтобы доиграться до звания угрянской княгини, но по ее беззаботному виду никто бы не заподозрил, что мысли об этом хотя бы одним глазом заглядывали в эту кудрявую голову.
И вот, не успел еще закончиться просинец, а дева Перуница – взяться за копье, чтобы дать первый бой еще крепкой старухе зиме, как в обчине Радутичей было объявлено обручение. При всех родичах и старейшинах селища боярин Оклада поднял рог и объявил, что отдает свою дочь Игрельку за Хвалислава, Вершиславова сына, а за сына своего Переслава берет Амиру, Вершиславову дочь. Ту и другую пару поставили перед родовым чуром, обе матери связали руки женихов с руками невест свадебными рушниками и осыпали зерном из ковша. От имени отца Вершиславичей согласие дал Толигнев – шурин самого Оклады, всем известный здесь как родич угрянского князя.
До весны оставалось еще два месяца, но со свадьбами затягивать не стоило. Приданое Игрельки было готово, Амиры – частью лежало в укладках, часть Замиля обещала привезти потом. Оклада разослал отроков по всем родам, живущим на Жижале, приглашая на свадьбу: он желал иметь как можно больше свидетелей своего торжества. Ведь Толига и Хвалис пообещали ему, что когда сын Замили сделается князем угрян, он вовсе не станет брать дани с Жижалы и признает право Оклады называться малым жижальским князем. Тот понимал, что, возможно, за права своего будущего зятя еще придется побороться, но дело явно того стоило.
Сам Хвалис, воодушевленный таким успехом, тоже пустился в дорогу. С горячего одобрения Оклады он отбыл на верхнюю Угру, намереваясь объехать ее ближнее течение и притоки, чтобы пригласить на свадьбу и тамошних старейшин. За этим стояло куда больше, чем желание собрать побольше гостей для веселья. Всякий прибывший на эту свадьбу и выпивший Окладиного пива уж верно поддержит его и зятя в борьбе с оборотнем – сыном Велезоры.
В мечтах Оклада уже видел себя властелином всей верхней Угры, ничем не хуже Ратиславичей. Чтобы все это выглядело внушительнее, он собрал для Хвалиса целую дружину из парней Верховражья во главе с собственными тремя сыновьями. Дома остался только Переслав – жених Амиры. Тот ходил задумчивый, не зная, то ли гордиться скорой женитьбой на княжьей дочери, то ли печалиться, что невеста так нехороша собой. Но спорить с родительской волей по-всякому не приходилось.
А сама Мируша, все не веря, что судьба ее, тихой дурнушки, вдруг устроилась так замечательно, не покладая рук ткала пояса для свадебных подарков всем тем, кого брат сумеет пригласить. И даже не поднимала глаз, когда Добруша, радуясь, что осталась главной невестой в доме, тащила девок играть.
Игрельке же, как обрученной, ходить на посиделки и плясать было больше нельзя. Видя, как она мается дома взаперти, боярыня Румяна придумала сводить ее и Амиру в Макошино святилище неподалеку, где жила тетка Оклады, Крутица. Обе матери надавали девушкам полотна, пряжи, зерна, меда, пирогов – ими принимает жертвы главная хранительница колодца судеб и мать урожая.
Румяна и Амира вернулись в Верховражье на следующий же день и вновь принялись за работу. Игрельки с ними не было: в Макошином они повстречали людей из Занозина селища, выше по Жижале. Те приходились Окладе и Крутице родней, и у них тоже намечалось разом три свадьбы. Любящая тетка позвала Игрельку с собой, и та уехала поплясать на чужой свадьбе, чтобы не так скучно было дожидаться своей.
– Отпустила я ее, отец, – покаянно засмеялась Румяна. – Хоть и не по обычаю, но пусть уж порезвится напоследок…
– Ох, доиграется… – Оклада покачал головой, но скорее насмешливо, чем сердито.
Дочь поступила неразумно: между сговором и свадьбой девушку уж слишком легко сглазить, поэтому во многих местах невесту не выпускают из дому. Но родители опять пожалели балованное дитя – Игрелька всегда была их любимицей.
Глава 2
Сидя в санях, Лютава смотрела по сторонам, поэтому первой заметила то, чего еще не увидели остальные.
– Смотрите! – вдруг закричала она. – Там мужик на дереве сидит!
Бойники и люди Богорадовой дружины принялись вертеть головами. Кто-то схватился за оружие, Лютомер, шедший рядом с санями, тут же пригнул голову сестры и прикрыл собой: «мужик на дереве» вполне мог означать засаду.
Но все было тихо, в дружину не летели чужие стрелы, из-за деревьев не сыпались люди с топорами.
– Правда, вон он! – Чащоба тоже показал куда-то в заросли на берегу и крикнул: – Мужик, ты чего там?
– Где?
– Да вон, иву видишь толстую?
– Ого!
– Он спит, что ли?
– Эй! Мужик! Просыпайся!
Не каждый день увидишь, как человек спит среди бела дня, сидя на толстой ветке ивы на высоте в три человеческих роста над землей. Обоз остановился, бойники подошли на лыжах вплотную к дереву. Лютомер пригляделся к мужику, потом вдруг свистнул и резко махнул рукой: стойте, мол.
Несмотря на шум и крики внизу, тот даже не шелохнулся, не поднял головы в овчинной шапке, прислоненной к стволу. Лица его было не видно. На спине, на плечах, на голове, на руках, обнимающих ствол, лежал снег.
Лютомер осторожно приблизился. Под стволом валялись кое-как брошенные лыжи, полузарытые в снег. На них виднелись следы звериных зубов…
Сбросив рукавицу, Лютомер осторожно разгреб верхний слой снега – от ночного снегопада. Пошарил, ощупал кончиками пальцев невидимые издалека следы. Вынул из снега что-то очень маленькое, поднес к лицу.
– Так чего он – мертвый, да? – окликнул Дедила.
Эта печальная истина была ясна уже всем.
– Снимать будем? – К Лютомеру подошел поближе стрый Богоня и тоже посмотрел на мервеца, придерживая шапку.