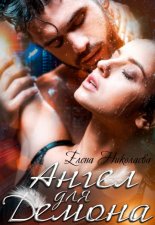Палеонтология антрополога. Том 3. Кайнозой Дробышевский Станислав

Инге, Володе и Маше – моей любимой семье
Мы живём в холодном мире. Причина этого проста – наша Солнечная система дряхлеет. Солнце щурит свои постаревшие протуберанцы, а Земля ёжится, теряя былой задор и покрываясь сединой полярных шапок. Всё глубже железо, всё медленнее вращается в недрах ядро.
Давно минули времена младенческих капризов и непостоянства – метеоритных бомбардировок и бурных извержений докембрия. Забыты невинные детские забавы – строительство кубиков-строматолитов, неумелые каракули на их срезах, и лишь в чулане ради ностальгии пылятся последние замки, на которые иной раз можно взглянуть, с улыбкой поминая, как это было когда-то весело. Брошены бесчисленные беспозвоночные игрушки кембрия, ордовика и силура, яркие фантики девона и карбона, подростковые – «как у взрослых» – увлечения перми – темноспондилы и зверообразные. Миновали кризисы взросления – метания триаса в поисках самоопределения, вымирания в его начале и конце: «Эх, никто меня не понимает, начну всё сначала!» Прошла и зрелость – сто сорок уравновешенных миллионов лет юры и мела, с более чем серьёзными неспешными делами, величественными масштабами, однообразным и повторяющимся, но необходимым бытом, со сложными, но лаконичными и проверенными конструкциями динозавров и птерозавров, наряду с изобретением изощрённых изысков вроде цветковых растений, эусоциальных насекомых и плацентарных млекопитающих.
Настала старость. Альбомы с чёрно-белыми ретушированными фотографиями напоминают о безвозвратно ушедшем, на полочках хранятся осколки прошлого и сувениры из прожитого. На смену лихим авантюрам, смелым экспериментам и безрассудным приключениям приходит мудрость – планета начинает осознавать себя и Вселенную, появляется Человек…
Введение
Книга, в чтение которой Вы, Уважаемый Читатель, уже погрузились, – третий том «Палеонтологии антрополога». Первый был посвящён докембрию и палеозою, второй – мезозою. Нелишним будет в самом начале повторить некоторые существенные моменты.
Автор книги – антрополог, специалист по ископаемым людям. А палеонтология – наука о самых разных живых существах прошлого и, более того, условиях их существования. Значит ли это, что антрополог не может рассуждать о бронтотериях и гиенах, крокодилах и фороракосах? Многим так и кажется. Однако настоящий антрополог как раз обязан попытаться разобраться во всём разнообразии былых экосистем, ведь именно в хитросплетениях отношений водорослей и рачков, магнолий и сумчатых, копытных и грызунов, а всех их вместе взятых – с нашими предками – и формировались наши человеческие качества. Экологические взаимосвязи бывают весьма неожиданными, без их изучения появление новых признаков у предков кажется произвольным и порой даже бессмысленным. Понятно, что многие части биосферы на наше происхождение не особо-то и влияли, но для того, чтобы понять – влияли или нет – с ними тоже надо бы разобраться. Вот и приходится антропологу вникать в сложности жизни планктонных сообществ и влияния климата на облесённость материков.
Ясно, что постичь все тонкости всех частных биологических дисциплин невозможно – слишком обширна современная наука, слишком много данных она накопила. Очевидно, что трудно объять необъятное. Но попробовать-то можно! А Читатель, следя за приключениями предков, возможно, уловит и какие-то новые закономерности, иные взаимосвязи – тех хватит ещё не на одно поколение исследователей.
Понятно, что в формате галопа по миллионам лет неизбежны упрощения и сокращения, не исключены искренние заблуждения и даже ошибки в сложных и спорных вопросах. Невозможно помянуть все точки зрения и все нюансы прошлого. С чем-то некоторые специалисты будут спорить (это проверено на двух предыдущих томах, комментируя которые, разные знатоки выдавали порой диаметрально противоположные претензии) – и более чем обоснованно. Но изложенные в книге данные подкрепляются работой сотен палеонтологов на протяжении пары сотен лет. Часть этих трудов процитирована в конце книги; все перечислить невозможно, иначе число страниц превысило бы все разумные пределы. К тому же, в науке постоянно происходят какие-то удивительные открытия, так что эта книга может служить ориентиром в бесконечном обилии информации, а Читатель при прочтении сможет направить более пристальный взор в заинтересовавшую его сторону.
Во избежание лишних споров в книге по возможности не уточняются ранги больших таксономических групп. Для упрощения текста существа после упоминания латинского названия иногда называются русской транскрипцией. Если в роде один вид, пишется и видовое название, если видов много, указывается только родовое. Живых существ миллионы, ясно, что упомянуты далеко не все, а лишь самые примечательные, больше всех повлиявшие на нашу эволюцию или те, о которых узнал автор.
Прежде чем приступать к истории жизни, хотелось бы выразить глубочайшую признательность и высказать огромнейшее спасибо всем, кто способствовал улучшению данной книги. Мелине Ананян координировала работу над книгой с самой идеи до выхода в свет, а Юлия Лаврова – именно третий том. Александр Борисович Соколов взял на себя тяжкий труд поиска редакторов и уговорил их на подвиг быстрейшего прочтения и комментирования немаленького текста. От всей души благодарю научного редактора – Алексея Анатольевича Бондарева – за огромные усилия и потраченное время, без него многие нюансы я изложил бы ошибочно, искажённо или устарело. И конечно, заранее извиняюсь перед Алексеем Анатольевичем, что, идя на поводу популярной направленности книги, я учёл не все его желания. Многие важные с научной точки зрения моменты были опущены, многие термины, формулировки и сложные моменты заведомо упрощены во имя доступности неподготовленному читателю, так что, если Уважаемый Читатель найдёт ещё какие-то упущения, вся вина лежит исключительно на авторе.
Отдельная благодарность Руслану Зайнуллину и Евсею Рябову, в невообразимых количествах снабжающих меня новостями; многие интересные новые статьи без Руслана и Евсея я бы пропустил.
Третий том «Палеонтологии антрополога» продолжает нашу историю. Тут рассказывается о жизни кайнозоя – нашей эры, на данный момент конечной. Шестьдесят шесть миллионов лет – не так уж много для целой эры, сопоставимо с некоторыми периодами былых времён. Но сколь много значат эти миллионы для нашей эволюции! Если в предыдущие сотни миллионов лет мы раскачались лишь до состояния недоземлеройки, то в эти неполные семь десятков успели вырасти, спуститься на землю, встать на две ноги, по пути пару-тройку раз сменить диету, взять в руки палки и камни, поумнеть, заговорить и даже начать писать и читать книги про то, как мы раскачались, успели, встали, сменили, взяли, поумнели, заговорили и начали… Начали же!
Часть IV. Кайнозой: ещё не вечер?
Палеоген. 66–23,03 миллиона лет назад: от мира карликов до мира гигантов
Международная и российская шкала:
66 млн л. н. – палеоцен: датский век – 61,6 – зеландский век – 59,2 – танетский век – 56 – эоцен: ипрский век – 47,8 – лютетский век – 41,2 – бартонский век – 37,71 – приабонский век – 33,9 – олигоцен: рюпельский век – 27,82 – хаттский век – 23,03
Палеоцен. 66–56 миллионов лет назад: мир карликов
Первый период кайнозойской эры – палеоген, а его первая эпоха – палеоцен. Гигантские ящеры вымерли, а на их место заступили карлики – крошечные наследники мезозоя, сначала робко, но со всё большим энтузиазмом начавшие реставрировать пострадавшую от вымирания биосферу. Среди них совсем немаловажное место занимали наши прямые предки – первые приматоморфы.
Карта начала палеогена похожа и не похожа на современную. Без труда узнаются все континенты и архипелаги, океаны и заливы, но во всём есть какая-то странность. Европа – остров, отделённый от Азии широким морем-проливом, в окружении россыпи мелких островков. Южная Азия – вытянутый по широте архипелаг, на дне проливов которого кроются будущие вершины Гималаев. Индия и вовсе дрейфует посреди будущего Индийского океана. Аравия ещё не отделилась от Африки и никак не соединена с Азией, а поперёк Сахары досыхает огромный залив Средиземного моря. Между зарождающейся Индонезией и Австралией, только что отпочковавшейся от Антарктиды, лежит огромное море – слияние Индийского и Тихого океанов. Атлантический океан почти замкнут на севере и совсем узенький на юге, зато на месте Панамы вольготно и плавно перетекает в Тихий, а поднимающиеся Анды отделены от Амазонии длинным узким заливом Карибского моря.
Весь предыдущий меловой период на дне морей откладывался CaCO3, то есть мел, собственно, и давший последнему периоду мезозоя его название. Но время шло, тектоника неумолимо ворочала литосферные плиты, и местами – в зонах океанических разломов – рано или поздно донные отложения погружались в глубины планеты (для этого есть умный термин «субдукция»). Безграничные толщи мела плавились в магме, отчего CO2 высвобождался и поднимался в атмосферу, вызывая парниковый эффект и приводя к потеплению в общепланетарных масштабах. Так в отдалённой перспективе сработало наследие водорослей кокколитофорид, когда-то снизивших парниковый эффект и тем заморозивших динозавров. Ныне же, когда злые ящеры сгинули, температуры вновь скакнули вверх. Правда, на протяжении палеоцена эта тенденция срабатывала ещё не вполне однозначно, и пару раз даже намечалось похолодание, но в любом случае климат был гораздо теплее большей части и мелового, и юрского, а уж по сравнению с нынешним и подавно – аж на 10 °C курортнее! В целом жизнь однозначно налаживалась!
Местами это восстановление можно проследить очень детально. Пепелища пожаров, вызванных падением метеорита, густо поросли грибами – пресловутый иридиевый слой, отложившийся при оседании пыли от падения астероида, просто перенасыщен грибными спорами (между прочим, подобная же история намного раньше случилась на границе перми и триаса, где грибы тоже первыми встречали первые лучи мезозоя на руинах палеозоя). Кстати, часть спор могут быть и не грибными, а водорослевыми, что тоже логично: симбиоз грибов с водорослями – лишайники – универсальные выживальщики, первыми заселяющие любую пустошь, так как водорослевый фикобионт способен к фотосинтезу, то есть берёт энергию из света, а из воды и углекислого газа синтезирует органику, тогда как грибной микобионт разлагает органику обратно. Никакие консументы – существа, перерабатывающие органику в другую органику, то есть мы, – в таком раскладе вовсе не нужны, они лишни и избыточны. Через некоторое время эти грибные плантации начали снова зарастать лесами.
В колорадском Коррал Блюффс палеонтологи крайне точно датировали подробнейшую последовательность напластований с массой ископаемой флоры и фауны. Оказывается, что непосредственно после мел-палеогеновой катастрофы резко увеличилось количество папоротников, пальм, за следующие сто тысяч лет разнообразие млекопитающих удвоилось, а за триста тысяч лет размеры их тел утроились. Через семьсот тысяч лет после границы колорадщину топтали уже очень приличного размера звери, например полусоткилограммовый Eoconodon coryphaeus, отъедавшийся на свежепоявившихся бобовых. Крокодилы и черепахи дополняли картину тропического болота. Но эти снулые рептилии уже не могли остановить торжества пушистых и теплокровных зверей!
Современные бобовые растения Fabacea – чудесные создания! Во-первых, у них шикарные двусторонне-симметричные цветы с широкими лепестком-парусом сверху, узкими вёслами по бокам и парой соединённых в одну лодочку – снизу. Когда пчёлка или другой какой опылитель ползёт к желанному нектару по такой конструкции, на тельце гарантированно налипает пыльца. Для этого нижние девять тычинок обычно срастаются в желобок и намазывают пыльцу на пузико пчёлке, а одна свободная тычинка аккуратно, но неумолимо шлёпает сверху, прилепляя пыльцу на голову и спину. Опыление при таком раскладе просто неизбежно!
Вторая, куда более важная особенность бобовых – клубеньки на корнях, домики для клубеньковых азотфиксирующих бактерий Rhizobiales. Эти бактерии выбирают из атмосферы несвязанный азот и заключают его в состав органических молекул. А это процесс не такой простой. Азота-то в атмосфере у нас навалом, а вот связывать его умеют немногие, при том, что азот входит в состав кучи необходимых всем органических соединений, включая нуклеиновые кислоты. Наличие бобовых на любом луге несказанно увеличивает плодородие почвы, так как все прочие растения тоже могут получить связанный азот на дармовщинку.
Появление бобовых неизбежно должно было мощно двинуть эволюцию растительных экосистем. Оно и двинуло, планета начала зарастать густыми лесами – нашим домом на долгие последующие миллионы лет.
Морские экосистемы кайнозоя восстанавливались едва ли не быстрее наземных. Сильнее всего поменялись самые нижние и самые верхние экологические уровни – планктон и хищники. Полностью исчезли все хищные морские рептилии – плезиозавры и мозазавры. Шанс на захват океана получили хрящевые рыбы – химеры, акулы и скаты. Любопытно, что в конце мела сгинули лишь две их большие группы – Hybodontida и Synechodontiformes, причём вторые, во-первых, всё же обнаруживаются в палеоцене, а во-вторых, могли даже не вымереть, а стать предками для некоторых современных хрящевых. Однако недостатки их дыхания – отсутствие жаберных крышек – и системы поддержания равновесия – отсутствие плавательного пузыря – видимо, уже были неисправимы. Конечно, и сейчас повстречаться с акулой в открытом море – сомнительная радость (вернее, радость, но только для акулы), а несколько позже – в эоцене и далее – они даже дали новое разнообразие, но свой шанс хрящевые так до конца и не реализовали.
Без особых проблем пережили катаклизм осетры, а вот костные ганоиды сохранились лишь в виде реликтов. Из позднего мела в палеоген и вплоть до современности переходят роды осётров Acipenser и панцирных щук Lepisosteus, с палеоцена известны и амии Amia.
На этом безрыбье костистые рыбы вдруг оказались полновластными царицами морей. Мы ведь сейчас живём на планете рыб – число их видов и жизненных форм намного больше, чем всех прочих позвоночных, вместе взятых.
Конечно, и им позднемеловое вымирание аукнулось более чем основательно. Огромное число линий пресеклось, а после из остатков быстро заново сформировались новые формы. Частично они повторяли то, что уже плавало в мезозое.
Из всего этого великолепия особое внимание обращает на себя Serrasalmimus secans из палеоцена Марокко. Его родичи были весьма колоритны и более разнообразны до вымирания, но и выживший потомок не подвёл: его челюсти были плотно уставлены страшными треугольными зубами, практически как у современных пираний. Скорее всего, сходство это не обусловлено родством, а конвергентное, то есть объясняется приспособлением к одинаковым условиям.
Без особых проблем преодолели вымирание амфибии, черепахи и крокодилы. Те же роды, тот же темп исчезновения и появления новых видов: астрономия и геология, все эти ваши астероиды и вулканы, этих существ явно не волновали.
Хуже пришлось ящерицам и змеям: в фаунах Северной Америки исчезло пять шестых видов; правда, тут же несколько и появилось. Показательно, что пропали самые крупные твари – весом более полукилограмма. Значимое разнообразие чешуйчатые восстановили уже в благословенном эоцене. Впрочем, размеры росли быстрее изменчивости: в конце палеоцена колумбийский гигантский удав Titanoboa cerrejonensis достиг 13 м и веса более тонны. Это круче даже многих мезозойских ящеров. Позвонки современных удавов – отнюдь не маленьких, трёх с половиной метровых – выглядят на фоне позвонков титанобоа просто крошечными. Такие монстры явно должны были и питаться кем-то соответствующим. Сопутствующая фауна включает двоякодышащих и костистых рыб, черепах и специфических крокодилов Dyrosauridae. Последние – Anthracosuchus balrogus, Acherontisuchus guajiraensis и Cerrejonisuchus improcerus, – видимо, были главной добычей титанической змеи. Между прочим, здешняя черепаха Carbonemys cofrinii – тоже рекордсменка: её панцирь был 1,72 м в длину! Что там было подмешано в воду, что их так пёрло?! Весь этот серпентарий бултыхался в жарких тропических болотах Южной Америки под покровом протосельвы – прототипа нынешних джунглей. Млекопитающих там, кстати, не замечено, хотя в принципе на материке они в это время были. Получается, век гигантских рептилий в Южной Америке с концом мезозоя вовсе не закончился! И лишь спустя некоторое время звери и тут взяли своё.
Titanoboa cerrejonensis
Как часто бывает, исчезновение одних привело к появлению других: среди чешуйчатых рептилий возникли амфисбены Amphisbaenia. Древнейшими представителями были Oligodontosaurus wyomingensis, Archaerhineura mephitis и Chthonophis subterraneus из Вайоминга, а также Polyodontobaena belgica и Camptognathosaurus parisiensis из Бельгии и Франции. Их челюсти, плотно усаженные толстыми зубами, очень уж характерны.
Современные амфисбены Amphisbaenia чаще рассматриваются как подотряд чешуйчатых, но иногда предлагается выделить их в самостоятельный отряд, настолько они своеобразны. В отличие от ящериц и змей, тело амфисбен покрыто сплошной роговой оболочкой, подразделённой поперёк и немножко вдоль, отчего внешне амфисбены почти неотличимы от дождевых червей. Кожа слабо соединена с телом, так что легко сдвигается, позволяя амфисбенам двигаться едва ли не перистальтически, причём как вперёд, так и назад, что, во-первых, объясняет альтернативное название «двуходки», а во-вторых, ещё больше делает их похожими на червей.
Но достаточно посмотреть на череп, чтобы стало ясно: амфисбены – вовсе не мирные червячки! Череп амфисбен максимально похож на череп «чужого» из известного фильма: вытянутый, массивный, почти безглазый, со страшными зубастыми челюстями (что довольно странно, учитывая питание термитами, муравьями и дождевыми червями; впрочем, вспоминая кротов и землероек, может, не так уж и странно), а вместе с формой тела – на червей из «Дюны»[1]. Головой амфисбены копают, так что форма заточена под это дело, причём у разных родов и видов реализованы вариации роющих инструментов: под плоскую лопату, под заострённую мотыгу, под кол или отбойный молоток, причём рабочий передний край может быть опущен или курносо поднят. Амфисбены могут ползать и по-змеиному, и изгибаться по вертикали, а также поднимать гибкий хвост, не отличающийся от головы, для отвлечения внимания, что, кстати, даёт их очередное название – «двухголовые змеи».
Почвенный образ жизни диктует и другие особенности. Глазки у амфисбен редуцированы и скрыты под кожей, откуда едва просвечивают. Сохранилось только левое лёгкое, кстати, в отличие от змей и безногих ящериц с их одним правым, что заодно показывает независимость эволюции амфисбен. Ручки и ножки пропали, и только североамериканские Bipes сохранили крошечные передние ручки – трёх- или пятипалые.
Загадочно географическое распространение амфисбен: возникли они в Северной Америке, откуда мигрировали в Европу и Африку, а уже из Африки – сильно позже и причём дважды независимо – обратно через Атлантику – один раз прямо на Карибы и второй – туда же, но транзитом через Южную Америку. Выходит, амфисбены несколько раз успешно преодолели морские просторы, будучи почвенными роющими созданиями! После этого остаётся лишь удивляться, как же малоподвижны были наши предки!
На пернатых катаклизм сказался странно-избирательно: часть линий типа энанциорнисов и конфуциусорнисов исчезла без следа, а веерохвостые птички сдюжили. Как обычно с хрупкими пташками, при изучении древних фаун надо делать основательную скидку на плохую сохранность эфемерных косточек.
Как минимум на границе палеоцена и эоцена уже существовал отряд древненёбных птиц-палеогнат Lithornithiformes. Эти птички, например много видов Lithornis, в наибольшей степени (и внешне, и по сути) напоминали современных южноамериканских тинаму или (не по родству, а чисто внешне) – куропаток. Строение их нёба выдаёт принадлежность к древненёбным птицам, большой киль явно свидетельствует о хороших летательных способностях, а длинные ноги намекают на околоводность. Судя по мозгу Lithornis plebius, эти птицы имели отличное обоняние, хотя и уступающее современным киви, но сопоставимое с тинаму. Благодаря шикарной сохранности черепа Lithornis promiscuus, а также некоторых других родственных птиц, удалось установить, что кончик клюва литорнисов был очень чувствительным, как у современных тинаму, киви и ибисов. Такая вибротактильность, очевидно, нужна птицам, постоянно ковыряющимся в земле, так что легко представить берега североамериканских и европейских болот раннего кайнозоя, по которым среди травы снуют «курочки» и тычут длинными острыми клювиками в тину.
Современные тинаму Tinamiformes – внешне невзрачные, но очень важные для эволюции птички. Они весьма похожи на куропаток, однако родственны южноамериканским страусам нанду, что особенно здорово видно по поведению. У тинаму неплохое по птичьим меркам обоняние; питаются они всем подряд. Тинаму имеют большой киль на грудине, но их грудная мускулатура белая, то есть имеет мало митохондрий и не может обеспечить долгий надёжный полёт. Поэтому тинаму предпочитают прятаться и застывать на месте, лишь в крайнем случае убегая и уж совсем в безнадёжном – взлетая. Но их коротенький хвостик не всегда позволяет лететь куда полагается, так что тинаму могут даже врезаться в коварные деревья, бросающиеся наперерез. Гнёзда у тинаму очень простенькие, а многие виды откладывают яйца просто на землю. Как и у страусов, в одно гнездо откладывают яйца несколько самок, а высиживает самец; он же потом печётся о птенчиках, которые, впрочем, весьма самостоятельны с момента вылупления. Тинаму очень уязвимы, почти все птенцы гибнут, зато и взрослеют меньше чем за месяц. Все эти особенности прямо отсылают к дремучим мезозойским временам. Неспроста тинаму сохранились лишь в Южной Америке, где бодрых плацентарных хищников не так много. Впрочем, там их не так уж мало – с полсотни видов.
Древненёбные птицы с самого начала были склонны к наземной жизни и быстро теряли способность к полёту, а уж с исчезновением хищных динозавров эта тенденция получила отличные возможности для реализации. Тут же появился целый веер нелетающих страусоподобных птиц: например, Remiornis heberti из Франции и Diogenornis fragilis из Бразилии – птицы неясного родства, но, вероятно, близкие страусам-нанду.
Древненёбные птицы, впрочем, не задались. На первое место выпорхнули новонёбные.
Ясно, что наилучшим образом известны околоводные аналоги или даже прямые родственники гусей и уток. Несколько видов Presbyornis на своих колченогих лапах вышагивали по камышам Северной Америки и Центральной Азии, вытягивали длинные шеи и собирали широким вогнутым клювом – прямиком из «Утиных историй» – всяческую тину.
Гусеобразные птицы жили и в Южном полушарии: почти полная внешняя копия пресбиорниса Conflicto antarcticus летала над самой Антарктидой, которая тогда имела вполне умеренный климат и была покрыта лесами, а Australornis isoni из Новой Зеландии был родственен меловым антарктическим Vegavis iaai и Polarornis gregorii.
В той же Новой Зеландии обнаружен и самый примитивный и одновременно самый маленький пелагорнис Protodontopteryx ruthae. Пелагорнисы Pelagornithidae – странная группа птиц, появившаяся в начале кайнозоя и вымершая совсем недавно – когда наши предки уже начинали пользоваться орудиями труда. Две черты пелагорнисов обращают на себя особое внимание. Во-первых, это были похожие на альбатросов планёры от полутора до шести метров в размахе крыльев – одни из самых огромных птиц за всю историю планеты. Во-вторых, их челюсти были какой-то зверской пилой, так как их края покрывали далеко отстоящие, но очень большие зазубрины. Это не были настоящие зубы, а именно выросты челюсти; поэтому альтернативное название пелагорнисов – «псевдозубатые птицы». Вероятно, такими клювами удобно было выхватывать из воды кальмаров и крупных, но не слишком бронированных рыб. Скорее всего, первоначальный успех пелагорнисов был связан с вымиранием гигантских морских птерозавров, а также зубатых птиц ихтиорнисов. Экологическая ниша планеров-рыбоядов пуста не бывает! Видимо, и итоговое вымирание было связано с изменениями в рыболовецкой области, скорее всего – с появлением крутых конкурентов типа современных альбатросов и чаек. Впрочем, довольно долго пелагорнисы сосуществовали с современными птицами-рыбоядами, так что конкурентная гипотеза явно не самодостаточна. Учитывая время исчезновения – 2,5 миллиона лет, то есть время мощных перестроек климата, – причина, скорее всего, хитро-экологическая, но детали процесса пока ускользают. Впрочем, это было сильно позже палеоцена…
Понятно, что рыбу можно ловить по-разному. Исчезли же не только летуны – птерозавры и ихтиорнисы, но и нелетающие гесперорнисы. Экологическую нишу прибрежных ныряльщиков тут же, конечно, заняли пингвины Sphenisciformes. Богатейший палеоценовый пингвинятник открыт в Новой Зеландии: древнейший и примитивнейший Muriwaimanu tuatahi, его чуть более поздняя и продвинутая версия Waimanu manneringi, ещё более прогрессивные Kumimanu biceae и Crossvallia waiparensis, а также иные глупые птицы робко прятали тела жирные в утёсах. Уже муривайману и вайману были размером с императорского пингвина, кроссваллия достигала роста 160 см и веса 70–80 кг, а кумиману – 160–180 см и 90–100 кг! Даже самые ранние пингвины были вполне узнаваемы: мешковидное вертикальное тело на коротких ножках, загребущие крылья-ласты, длинный острый клюв для ловли рыбы. Довольно быстро они распространились по Южному полушарию, где и процветают поныне.
Имелись птицы и попроще. Над мелководными лиманами моря Волгоградской области порхали Volgavis marina, похожие на серебристых чаек, но, возможно, более родственные фрегатам или буревестникам.
Первоначально волгавис был датирован поздним маастрихтом, но после возраст оказался раннепалеоценовым. Кстати, в одной статье с описанием волгависа упоминается плечевая кость птерозавра-аждархида из недалёкого от волгависа местонахождения, найденный в позднепалеоценовом слое и признанный перемытым из маастрихтского. Но, строго говоря, переотложенность исходит скорее из самого факта птерозавровости. А так-то, почему бы отдельным птерозаврам и не пожить чуток в палеоцене?.. Фантазия, конечно, но, возможно, стоило бы обращать на подобные находки особое внимание?
Длинноногая птица Scaniornis lundgreni, вероятно, похожая на фламинго (что, впрочем, весьма спорно, так как остатки крайне фрагментарны), шагала по берегам палеоценовых Швеции и Германии. Целая орнитофауна границы мела и палеоцена обнаружена в формации Хорнестаун в Нью-Джерси: гусь Anatalavis rex, буревестник Tytthostonyx glauconiticus и фаэтон Novacaesareala hungerfordi. Как и в предыдущих случаях, тут найдена околоводная фауна. Что происходило в лесах и горах – большей частью покрыто мраком.
Впрочем, и про это немножко известно благодаря находкам во Франции, в местонахождении Серне-ле-Реймс и некоторых других. Самыми эффектными палеоценовыми лесными птицами были, без сомнения, Gastornis parisiensis и G. russeli – ближайшие родственники кур. Эти двухметровые нелетающие «петушки» имели толстенные трёхпалые ноги и огромадный клюв, похожий на клещи-болторезы для срезания стальных цепей и штырей. Конечно, такой колоритный облик был интерпретирован как хищническая адаптация: якобы гасторнисы были злобными притеснителями несчастных первобытных зверюшек. Образ демонической убер-курицы, терзающей панически разбегающихся протолошадок, прочно вошёл в палеогеновый бестиарий популярных книг о палеонтологии. Однако новейшие исследования показывают, что реальность, видимо, была совсем не такой. Изотопные анализы и изучение следов прикрепления мышц на челюстях показали, что гасторнисы были не плото-, а плодоядными. Получается, самый близкий аналог гасторнисов – дронт! Можно провести аналогию и с туканами или птицами-носорогами, но с поправкой на способности к полёту. Кроме прочего, это значит, что крупнейшими растительноядными существами Европы в палеоцене были птицы, то есть экосистема была во многом похожа на мадагаскарскую до прибытия туда людей. В общем-то, и географически ситуации схожи, ведь Европа была скорее архипелагом, чем материком. Кстати, до Северной Америки в палеоцене гигантские птицы ещё не добрались, так что там звери имели лучшие шансы на развитие своих вегетарианских наклонностей, которые они, собственно, успешно и реализовали. Учитывая ещё и архаичных страусов, тема больших нелетающих птиц была в палеоценовой Европе очень модной.
Если одни пернатые ограничивали наши возможности конкуренцией, другие просто нагло нас жрали! Конец палеоцена ознаменовался появлением сов – Berruornis orbisantiqui во Франции и Ogygoptynx wetmorei в Колорадо. Вот только наши предки избавились от гнёта злых динозавров, не прошло и десятка миллионов лет – как прилетела новая напасть! Думается, именно такие невзгоды были главными движителями нашей ранней эволюции: ночные хищники выдавили нас из ночного образа жизни, придали бодрости-прыгучести и сообразительности. Как знать, кабы не совушки – круглые головушки, может, так бы и до сих пор вместо нас-умничек по ветвям ползали приторможенные плезиадапиформы…
Конечно, главное достижение палеоцена – расцвет млекопитающих. Случился он не сразу, но очень быстро. Первый десяток миллионов лет кайнозоя звери были ещё очень мелкими, довольно однообразными и трудноразличимыми, но прогресс шёл небывалыми темпами. Вымирание коснулось млекопитающих как-то очень избирательно: кто-то исчез, кто-то сократился в числе и разнообразии, а кое-кто и преуспел.
Как ни странно, даже в палеоцене по углам планеты можно было найти остатних реликтов мезозоя и едва ли не палеозоя. Так, в Канаде до конца эпохи дожил Chronoperates paradoxus – симметродонт, примитивный настолько, что поначалу его приняли даже за распоследнего зверозубого-цинодонта! В принципе, современные однопроходные-яйцекладущие тоже ведь являются подобным осколком былого, даже более примитивным, чем симметродонты.
Кстати, палеоценовые однопроходные нам тоже известны, и – неожиданно! – из Аргентины, где жил родственный утконосу Monotrematum sudamericanum. Трудно судить о животном по трём молярам, но в этом случае важнее география: зоогеографически вырисовывается соединение Австралии, Антарктиды и Южной Америки в мелу и, возможно, палеогене.
В отличие от всегда редкостных однопроходных, аллотерии-многобугорчатые Multituberculata в палеоцене продолжали процветать. Вымирание их не просто не особо затронуло: в палеоцене число родов стало даже больше, чем в позднем мелу! С начала кайнозоя и до появления грызунов и нормальных приматов многобугорчатые оставались едва ли не главными растительноядными во многих фаунах. Их универсальная зубная система, отточенная до совершенства ещё с середины мезозоя, гарантировала успех даже с учётом общей примитивности группы. Долотовидные резцы для разгрызания, гребнеподобные премоляры для разрезания и плоские широкие моляры для пережёвывания вместе с мощными короткими и высокими челюстями – идеальная схема, которая неспроста изобреталась много раз параллельно в самых разных группах животных. Имея отличный задел, многобугорчатые эволюционировали в палеоцене едва ли не быстрее прочих млекопитающих. Например, ещё в самом начале палеоцена монтанский Taeniolabis taoensis имел пятнадцатисантиметровый череп и предположительно мог весить от двадцати до аж больше сотни килограмм! Прочие млекопитающие достигли таких показателей сильно позже. Едва ли не лучше прочих изучен Ptilodus: это было древесное существо с цепким хвостом для подвешивания и разворачивающейся назад стопой для лазания по стволам вниз головой. Очевидно, что конкуренция нашим предкам была весьма основательная; возможно, именно благодаря успеху многобугорчатых приматы с самого начала не скатились до специализированной растительноядности, не то эволюции нашего интеллекта мог быстро настать конец.
Ptilodus
Конечно, была от многобугорчатых и другая явная польза: они были не очень быстрыми и притом вкусными. В погадках хищных птиц из палеоценовых отложений Внутренней Монголии найдены кости и шерсть многобугорчатых Lambdopsalis bulla. Стало быть, хищным существам было кого ловить, тогда как более шустрые приматы могли оставаться в относительном покое (правда, именно в этой фауне приматов вовсе не было, но ведь хищники ловили многобугорчатых и в Северной Америке).
Многобугорчатые жили и в Южной Америке, откуда известна их специфическая форма Sudamerica ameghinoi, иногда выделяемая в группу Gondwanatheria. Эти звери развили высокие коронки, приспособленные для жевания травы. В Южной Америке уже были саванны, и многобугорчатые выходили в них? Пока это под вопросом.
Вообще, Южная Америка была заповедником всяких неведомых зверей. Удивительный реликт юрских и меловых времён – аргентинский Peligrotherium tropicalis из группы Dryolestida. Реликт реликтом, а вырос он до размеров собаки, став самым большим представителем дриолестид, причём перешедшим на растительноядность. Потомки его продержались на материке ещё довольно долго.
Сумчатые пережили позднемеловую катастрофу не идеально: огромное число линий прервалось, от былого разнообразия остались ошмётки. Вероятно, это дало отличный шанс плацентарным, которые, при всей своей прогрессивности, в мезозое не особо-то преобладали. Но и для сумчатых нашлось своё уютное местечко – целая Южная Америка, где в отсутствие плацентарных сумчатые развернулись в полную силу – уже в палеоцене они представлены тут несколькими отрядами. Правда, на взгляд обычного человека все южноамериканские опоссумоподобные зверушки выглядят до уныния однообразно и на фоне впечатляющих черепах, змей и крокодилов совершенно теряются, но и среди них можно найти оригиналов.
Самыми перспективными были, вероятно, боливийские Pucadelphys andinus, жившие в самом начале палеоцена. В местонахождении Тиупампа на пятачке менее чем в квадратный метр обнаружены останки 12 опоссумов, а в трёх метрах на таком же маленьком участке – ещё 23 особей, лежащих плотной кучкой! Очевидно, с ними произошло что-то нехорошее (скорее всего, они тихо-мирно сидели в норках на берегу озера, никого не трогали и погибли во время быстрого наводнения), но важно само скопление: очевидно, пукадельфисы были как минимум очень терпимы к присутствию рядом других особей, а как максимум – сколько-нибудь социальны. Косвенно о том же свидетельствует половой диморфизм: самцы пукадельфисов были куда более мордастыми и клыкастыми, чем самки. Обычно такое происходит из-за повышенной конкуренции между самцами за самок или даже гаремности. Из всей толпы определить пол удалось у двенадцати самок и шести самцов: соотношение «один к двум» может тоже говорить о повышенной социальности; как минимум четыре подростка показывают, что в группах уживались особи разного возраста. Судя по находке скопления из шести скелетов других опоссумов Andinodelphys cochabambensis в том же местонахождении, подобный образ жизни не был таким уж исключением. Здорово, что для синхронных приматоморфов и даже более поздних приматов у нас нет никаких доказательств хоть какой-нибудь общественности. Выходит, сумчатые в начале палеоцена даже слегка обогнали наших предков по уровню интеллекта! Если бы не недостатки системы размножения, глядишь, сейчас потомки южноамериканских опоссумов читали бы о вымерших пургаториусах и изучали реликтовых приматов – «живых ископаемых» дремучих палеогеновых времён.
Некоторые опоссумоподобные твари – Allqokirus australis и Mayulestes ferox – в палеоцене ещё не особо выделялись из общей серой массы (хотя в фауне Тиупампы они уже были самыми крупными сумчатыми), но начали претендовать на большее. Ближайшее будущее их было великолепно, ведь они стояли в основании группы Sparassodonta, или Borhyaenoidea, – главных хищников Южной Америки до появления кошек. В окружении крокодилов и при отсутствии плацентарных хищников плотоядные получаются и из сумчатых. Начав с аналога куницы – древесной, с очень подвижными лапками, да ещё и цепкохвостой, спрассодонты в последующие времена достигли размеров и облика тигра!
Среди прочих невзрачных палеоценовых южноамериканских сумчатых зверьков на первый взгляд ничем не выделяется Khasia cordillerensis. На самом же деле, эта скучная «мышка» весьма важна для зоогеографии, так как относится к отряду Microbiotheria. Их потомки – соневидные опоссумы Dromiciops gliroides – и сейчас живут в горных лесах юго-запада Южной Америки. Это единственные южноамериканские сумчатые, близкородственные австралийским сумчатым, отчего даже объединяются с ними в гиперотряд Australidelphia. Так, через древних и современных тварей прослеживаются связи материков.
Плацентарные начала палеоцена многочисленны, но почти всегда фрагментарны и трудноразличимы. Среди самых примитивных – Cimolesta – выделяется универсальностью Cimolestes: мало того, что он без проблем перешёл из мела в палеоцен, так ещё и найден и в Северной Америке, и в Боливии, и в Марокко! Некоторые авторы склонны разделить цимолестов на несколько родов, но разница между ними получается уж очень формальной. Цимолесты настолько усреднённо-примитивны, что просто наверняка являются предками прочих отрядов плацентарных. Правда, в палеоцене потомки уже существовали, так что цимолесты кайнозоя были «живыми ископаемыми». Из современных зверей на цимолестов максимально похожи опоссумы, ласки и землеройки, неспроста, например, цимолест Palaeoryctes считался древнейшим насекомоядным.
Из подобных генерализованных тварей в ускоренном темпе стали возникать самые разные варианты: насекомоядные, апатемииды, пантодонты, тиллодонты, тениодонты, кондиляртры, чуть позже – пантолесты, анагалиды, грызуны, копытные и хищные. Всё это изобилие можно условно разделить на несколько основных стилей жизни: мелкие насекомоядные зверьки, сравнительно крупные наземные растительноядные, мелкие растительноядные и хищники. Каждое из этих направлений реализовалось в нескольких альтернативных версиях.
Более специализированные, чем цимолесты, но тоже очень примитивные зверушки – Leptictida также успешно миновали границу мезозоя и кайнозоя. Состав их разными палеонтологами видится сильно по-разному. Например, монгольский Praolestes рассматривается либо как лептиктид, либо как примитивное насекомоядное.
Насекомоядные неплохо представлены в палеоцене: уже в начале эпохи в Китае появляются землеройкоподобные Carnilestes palaeoasiaticus, C. major и Prosarcodon lonanensis, а позже подобных зверушек становится ещё больше. План строения и образ жизни землероек с тех пор, конечно, тоже поменялись, но на фоне приматов они выглядят так архаично, что на их примере можно наглядно представить облик пушистиков начала кайнозоя. Североамериканские позднепалеоценовые Litolestes ignotus, Leipsanolestes siegfriedti, Cedrocherus aceratus и C. ryani, возможно, уже были первыми ежами.
«Насекомоядные» – не самый удачный термин, так как используется для обозначения как типа питания, так и систематической группы, причём её рамки разными исследователями видятся по-разному. Былой отряд Insectivora ныне не рассматривается как единый: прыгунчики, тенреки и златокроты в современных системах обычно отделяются в Afroinsectivora, а щелезубы, кроты, землеройки и ежи составляют Lipotyphla. С ископаемыми зверьками всё гораздо запутаннее, так как древнейшие представители слишком похожи друг на друга, хотя явно в итоге дали очень различных потомков.
Мелкие насекомоядные зациклились на беспозвоночных – это и плюс, и минус. Хорошая сторона в том, что насекомых и червей обычно мало не бывает, так что даже зимой под снегом землеройки умудряются находить достаточно еды, чтобы не замерзать. Плохая сторона в том, что при мизерных размерах тело моментально остывает, так что даже в тропиках питаться приходится постоянно: как известно, землеройки в день съедают больше, чем весят сами, а если зверушка поголодает пару часиков, то почти гарантированно умрёт. В таком режиме существовать можно, но достичь чего-то большего, нежели ловля червяков и жуков, сложновато. Благо, план строения насекомоядных весьма прост, а стало быть – годен для прогресса и производства более крупных и сложных форм. В принципе, из чего-то очень похожего, только в древолазательной версии, произошли и мы.
Apatemyidae – очень своеобразная североамериканско-европейская группа, иногда выделяемая в отряд Apatotheria, а иногда присоединяемая к другим, в том числе цимолестам или плезиадаписовым приматоморфам, по ряду же признаков чрезвычайно похожая вообще на летучих мышей. Уже палеоценовые апатемииды – например Apatemys kayi, Jepsenella praepropera и Labidolemur soricoides – имели очень специализированное строение: первые нижние резцы стали огромными лежачими, направленными строго вперёд скобелями, а верхние – резко утолщенными вертикальными крючками; боковые резцы и нижние клыки вообще исчезли; передние премоляры превратились в огромные режущие гребни, прямо как у многобугорчатых, а моляры уменьшились. Такой зубной аппарат был заточен под выгрызание насекомых из трухлявых пней, как это делают современные полосатые кускусы Dactylopsila на Новой Гвинее и руконожки Daubentonia madagascariensis на Мадагаскаре (впрочем, бывалых морфологов смущает немалое сходство зубного аппарата лабидолемура с таковым землероек – пинцет из нижнего «бивня» и верхнего «крюка»: землеройки пни не грызут!). В последующем, с появлением дятлов, оборудованных куда более эффективными клювами, апатемииды оказались не у дел и вымерли, а кускусы и руконожки спаслись только исключительно благодаря тому, что коварные дятлы пока ещё не добрались до их отдалённых островов.
В конце эпохи возникла и совсем иная версия цимолестов – Pantolesta, причём сразу в нескольких версиях. Внешне ничем не примечательные Bisonalveus browni и B. holtzmani таки примечательны продольными бороздками на клыках, которые могут быть свидетельством развития ядовитых желёз (такая же бороздка найдена ещё на одном клыке неописанного палеоценового зверька из Альберты). Ядовитость возникала у млекопитающих считаное число раз. Бизоналвеусы были мелкими насекомоядными тварюшками, которым могло быть важно быстро убивать каких-то особо прытких или опасных насекомых; возможно же, бизоналвеусы ядом защищались от врагов. Правда, далеко не каждая бороздка на клыке гарантирует ядовитость. Специализированный вариант пантолестов – выдроподобные Palaeosinopa simpsoni из Северной Америки – успешно перешли в эоцен, на который и пришёлся расцвет этой группы.
Ближайшие родственники и, видимо, потомки цимолестов – Pantodonta. В палеоцене и начале эоцена это были главные растительноядные звери. На их примере здорово видна бурная эволюция при освобождении экологических ниш после вымирания динозавров. Правда, до сих пор загадкой остаётся география пантодонтов: примитивнейший и древнейший раннепалеоценовый представитель найден – неожиданно! – в Южной Америке, в Боливии: Alcidedorbignya inopinata весила полкило и имела довольно-таки генерализованные зубы, что не исключает некоторых специфических специализированных черт. Чуть более поздние пантодонты жили в Северной Америке и Азии, где прослеживается чудесный ряд от Archaeolambda (0,7–1 м, 7–15 кг) через Pantolambda (1,2 м, 45 кг) к Barylambda (2,5 м, 600–650 кг), Coryphodon (2,5 м, 500 кг) и Titanoides (2,2–3 м, 90–200 кг).
Titanoides
Кроме размеров, менялся и внешний облик: археолямбда была похожа скорее на кошку и ещё могла быть всеядно-насекомоядной, пантолямбда напоминала мордастого барсука, барилямбда с её махонькой головёшкой, высокими ногами и толстым, почти кенгурячьим хвостом – гигантского наземного ленивца, более продвинутый корифодон – тапира и даже более – карликового бегемота, а титаноидес – саблезубую помесь бегемота с медведем. У всех них были мощные передние и задние ноги с пятью растопыренными пальцами с округлыми ногтеподобными копытцами, причём от ранних форм к поздним происходил переход от стопо- к пальцехождению. Примитивными чертами было сохранение ключицы и разделённых костей предплечья и голени – наследие древесных предков (ранние виды, вероятно, ещё вполне успешно лазали по деревьям), хотя наземность крупных видов несомненна. Своеобразие пантодонтам придавали тупорылые морды с тяжёлыми челюстями и острыми гребнистыми зубами. Вот в зубах-то и была проблема: продольные гребни верхних входили в бороздки на нижних, так что боковые жевательные движения были практически невозможны, отчего, кстати, и скуловые дуги были довольно узкими. Пантодонты могли здорово стричь растения, но не умели нормально жевать, что в условиях климатического оптимума было не так уж важно, но при сокращении растительных богатств и появлении крутых конкурентов уже в конце эоцена стало фатальным. Другой сложностью были мозги: у пятисоткилограммового корифодона они весили несчастных 90 г. Для сравнения, у лошади того же размера мозг весит с полкило и немножко больше; да даже у овцы его масса – 140 г! Конечно, ранние копытные тоже вряд ли блистали интеллектом, но ведь и корифодон – уже далеко не самый ранний пантодонт!
В некоторых отношениях похожи на пантодонтов были Tillodontia, видимо, в силу родства, хотя по иным чертам они существенно отличались. У них тоже были мощные стопоходящие лапы, но пальцы заканчивались когтями; ключица и несросшиеся кости предплечья и голени по-прежнему отражают архаику. Главное отличие от пантодонтов – челюсти и зубы: боковые жевательные движения преобладали над продольными, отчего скуловые дуги широко расходились; резцы были резко увеличены, а вторые резцы были покрыты эмалью только спереди, не имели корней и постоянно росли, как у грызунов; уменьшенные клыки, как и резцы, имели долотовидную форму, а между ними и премолярами лежала широкая диастема. Такая зубная система имеет очевидную аналогию с грызунячьей, с поправкой на размер: тиллодонты, как и все в палеоцене, начав с маленьких зверушек, быстро доросли до вполне приличных масштабов. Тиллодонты появились в Китае (например, Meiostylodon zaoshiensis и другие мелкие примитивные виды), но довольно быстро оказались и в Северной Америке (например, Azygonyx – размером уже с енота). По-прежнему, проблемой были крошечные мозги; особенно здорово это видно при взгляде на череп сверху.
Ещё более быстроэволюционировавшая североамериканская группа – Taeniodonta; они появились ещё в мезозое; между прочим, опоссумоподобная Schowalteria clemensi была тогда в числе крупнейших млекопитающих. В палеоцене тениодонты начали с роющих всеядных Onychodectes tisonensis – зверя, похожего на крысу с приплюснутой головой и достаточно банальным набором зубов, – и довольно быстро подросли до Wortmania otariidens, у которой морда укоротилась, а нижняя челюсть стала очень тяжёлой, и далее – до Psittacotherium multifragum метровой длины, в полсотни килограмм весом и с совсем уж страшной нижней челюстью. Как и у тиллодонтов, тениодонты изобрели постоянно растущие передние зубы с эмалью лишь на передней стороне, с отличием в том, что главными грызущими зубами стали клыки, а в меньшей степени – боковые резцы. Огромными когтями на мощнейших лапах (опять пятипалых, опять с несросшимися костями предплечья и голени) тениодонты, видимо, выкапывали какие-то корни и клубни.
Таким образом, среди азиатских и североамериканских ранних растительноядных рисуется некоторое разделение труда: пантодонты стригли листья вертикальными движениями челюстей, тиллодонты грызли семена и жевали их поперечно, а тениодонты выкапывали корни, причём специализация во всех трёх группах нарастала скорейшими темпами.
Зубы млекопитающих отлично отражают их питание и образ жизни, недаром сказано: «по зубам их узнаете их». Что здорово, именно зубы-то обычно и сохраняются, так что по ним можно понять не только родство зверей, но и экологическую обстановку. Одонтология – великая сложная наука с массой нюансов; специалисты учатся этой премудрости всю жизнь. Однако некоторые базовые понятия вполне возможно изложить в двух словах. Особенно показательна форма моляров, ведь основная нагрузка приходится обычно именно на них.
Трибосфения – тип зубов с тремя острыми вершинками, расположенными по вершинам треугольника и соединенными гребнями, смыкающимися в замок с преобладанием давящих и ограничением жевательных движений, исходное примитивное состояние; в более продвинутой версии к треугольнику сзади добавляется пятка – талонид на нижних зубах и талон на верхних – для лучшего перетирания (у юрских Shuotheridia пятка добавилась спереди, что оказалось неудачной конструкцией и привело их к вымиранию); типична для опоссумов и землероек.
Секодонтия, или туберкуло-секториальность, – развитие трибосфении с добавлением новых острых вершинок, соединенных острыми гребнями и превращающих зуб в удлинённую режущую пилу; в крайнем случае формируется огромный хищнический зуб, берущий на себя главную нагрузку (он может образовываться и из премоляров, и из моляров; у креодонтов их было даже два); типична для хищных.
Бунодонтия – тип зубов с низкими округлыми бурками для раздавливания мягкой пищи; типична для свиней, похожа форма зубов у ежей. Возникали варианты, в том числе бунолесодонтия (бугорчато-лунчатые зубы), с превращением наружных бугров на верхних, а также внутренних бугров на нижних зубах в полулунные гребни для питания листьями деревьев у антракотериев, зиголофодонтия (она же циголофодонтия) с объединением бугорков в гребни у мастодонов.
Лофодонтия – тип зубов со слившимися в поперечные гребни бугорками для разрезания растительности; в процессе эволюции число гребней обычно растёт; типична для носорогов, лошадей и белок. Возникало много вариантов: от билофодонтии с двумя гребнями у тапиров, сирен, зайцеобразных и мартышек через трилофондонтию, тетралофодонтию и пенталофодонтию до полилофодонтии с множеством пластин у слонов и капибар.
Селенодонтия (лунчатые зубы) – тип зубов с потерей эмали на вершинах бугорков, отчего режущие эмалевые кромки превращаются в полумесяцы, а жевательные движения оказываются поперечными; типична для быков и оленей.
Брахиодонтия – низкокоронковость, исходное примитивное состояние; типична для свиней и белок.
Гипсодонтия – высококоронковость, специализированное состояние, приспособленное для питания большим количеством жёстких растений; типична для парно- и непарнокопытных и большинства грызунов.
Гипселодонтия – крайняя форма гипсодонтии с потерей корней и неограниченным ростом для перетирания большого количества малопитательной травы; типична для резцов и щёчных зубов полёвок и зайцев, клыков свиней, жевательных зубов эласмотериев.
Самой разнородной группой всеядно-растительноядных палеоценовых зверей были Condylarthra. Споры о их сущности не утихают с момента их открытия. Как только не группировали отдельные группы кондиляртр, какие только схемы родства их с иными млекопитающими не предлагали! И ведь, с одной стороны, часть представителей очень уж хорошо различима, но с другой – всегда находятся какие-то невнятные промежуточные формы, стирающие границы. В итоге единство группы находится под основательным сомнением, но и совсем отказаться от использования понятия «кондиляртры» никак не получается. Базовой версией и даже, по мнению некоторых палеонтологов, исходником для всех истинных плацентарных или как минимум копытных, можно считать Protungulatum. Этот североамериканский зверь успешно перешёл мел-палеогеновую границу и дал в палеоцене чудесный веер форм.
Французские Pleuraspidotherium aumonieri и Orthaspidotherium edwardsi с их длинными низкими плоскими головами, небольшими, но острыми клыками, клыкоподобными первыми премолярами и молярами, близкими к молярам копытных, были похожи скорее на пристукнутых сковородкой всеядных виверр. Возможно, их подобие предкам копытных конвергентно, а на самом деле они представляют самостоятельную тупиковую линию с мозаикой примитивных и продвинутых черт.
Сборная группа Hyopsodontidae включает мелких, преимущественно насекомоядных и хорошо лазающих по деревьям зверьков, например Paschatherium и Aletodon. Иные – клыкастые Loxolophus и Chriacus, Ectoconus и Periptychus – экологически были похожи на енотов и вполне могли составлять конкуренцию ранним приматам.
Chriacus
Предками непарнокопытных могли быть представители Phenacodontidae, например Tetraclaenodon и Ectocion, похожие на коротконогих плоскоголовых собачек-вегетарианцев.
Из кондиляртр формировались и необычные слонопотамы: в Китае и Монголии несколько видов Prodinoceras, а в Северной Америке Probathyopsis (в эоцене этот род дошёл и до Китая) представляют первые образцы группы Dinocerata (вообще, как обычно, их корни теряются в изобилии палеоценовых зверей и могут быть связаны как с разными кондиляртрами, в частности с арктоционидами, так и с пантодонтами, анагалидами, ксенунгулятами и много кем ещё). В будущем они станут весьма внушительными аналогами носорогов, а ныне были приземистыми коротконогими тварями невзрачной наружности, хотя могли похвастаться огромными клыками и уже доросли до трёх метров длины. Передние лапы у них были очень мощными пальцеходящими, неплохо приспособленными для копания, а задние – стопоходящими. Удивительно внешнее сходство ранних диноцерат и дицинодонтов – зверообразных рептилий перми и триаса. В отличие от нормальных растительноядных, ранние диноцераты практически не могли жевать ни в передне-заднем, ни в поперечном направлениях, так как верхние и нижние зубы смыкались в плотный замок. При этом жевательная мускулатура была крайне мощной. Получается, диноцераты могли очень сильно кусать, но только по вертикали. Судя по всему, они ещё не были полностью растительноядными и вместе с травой и корнями выкапывали из земли всяческих червей и слизняков.
Каким-то образом кондиляртроподобные твари проникли и в Южную Америку, где в Боливии, Бразилии и Аргентине известно немалое число их видов, причём довольно разнообразных. Из них особенно замечательна Lamegoia conodonta: её зубы внешне удивительно похожи на зубы высших приматов. По крайней мере некоторые из южноамериканских кондиляртр стали предками своеобразных «южноамериканских копытных», развернувшихся в полную силу уже в следующие эпохи.
Впрочем, некоторые уже успели доэволюционировать до более продвинутого состояния: примитивнейшими представителями Notoungulata стали аргентинские Simpsonotus major и S. praecursor – растительноядные зверушки, похожие на собак размером с кошку, чьи третьи верхние резцы превратились в подобие клыков; в группе Litopterna первой отметилась аргентинская Requisia vidmari, а родственный Notonychops powelli иногда выделяется в собственный отряд Notopterna; толстомордый Eoastrapostylops riolorense был первым среди Astrapotheria. Расцвет всех этих групп был ещё впереди.
В ранних южноамериканских кондиляртрах, нотоунгулятах и прочих зверях разобраться весьма сложно: находок-то много, но большинство из них – изолированные зубы, причём между крайними формами имеется масса промежуточных, так что провести границы не только видов, но даже более высоких систематических категорий весьма непросто. Например, среди прочего изобилия аргентинский палеонтолог Флорентино Амегино описал 3 отряда, 4 семейства, 8 родов и 16 видов, которые впоследствии оказались останками одного вида Henricosbornia lophodonta! И ведь невозможно упрекнуть Ф. Амегино в непрофессионализме – для южноамериканской палеонтологии он – альфа и омега. Просто задача действительно очень непростая.
Особняком среди южноамериканских странных животных стоят несколько видов Carodnia, выделяемых в самостоятельный отряд Xenungulata. Внешне и по размеру они были похожи на помесь капибары с тапиром: приземистые, с копытцами на пяти растопыренных пальцах, короткомордые, с колышкообразными резцами, большими клыками и молярами с поперечными гребнями. В своё время это были самые крупные южноамериканские растительноядные звери.
Впрочем, как бы ни были увлекательны южноамериканские звери, к нашей эволюции они имеют весьма косвенное отношение. Гораздо важнее для появления нас были изменения экосистем Африки, ведь именно там в последующее время было суждено сформироваться людям. К сожалению, про Африку-то мы знаем меньше всего: на большей части континента палеоценовых фаун пока вообще не найдено. Но есть одно местечко в Марокко – Улед Абдун, где найдено пусть и не очень много окаменелостей, зато очень показательных. Звездой марокканского палеоцена, без сомнения, является Ocepeia daouiensis: от неё сохранились два черепа, а также обломки челюстей и изолированные зубы. Этот зверёк размером с кошку – около 3,5 кг весом – выглядел по палеоценовой традиции весьма невзрачно и первоначально был зачислен в кашу кондиляртр, но суть, как обычно, в деталях. Оцепейя с её увеличенными пупырчато-гребнистыми молярами явно была листоядной. Её череп укорочен и массивен, с необычно и непонятно зачем развитыми воздушными полостями и широкой носовой полостью. Все эти признаки сыграли свои роли, когда потомки оцепейи стали прыгунчиками, тенреками, даманами, трубкозубами и златокротами, ведь этот зверёк представляет идеальную переходную стадию между насекомоядными и группой Afrotheria; одновременно при желании можно попытаться найти в оцепейе черты слонов и сирен. Любопытно, что по форме черепа и некоторым особенностям зубов, например уплощённой форме резцов и толстым клыкам, оцепейя конвергентно похожа на примитивных приматов. Получается, мы видим наглядный пример, куда могло занести нас – в аналоги трубкозубов и слонов! С другой стороны, выходит, что и даманы с тенреками имели шанс! К сожалению, пока мы не знаем, как выглядело тело оцепейи, но, судя по потомкам, вряд ли она умела хорошо лазать по деревьям. Вероятно, эта приземлённость и не позволила афротериям развить хватательную конечность, освоить орудия труда и стать разумными.
Как ни мало найдено в Марокко, но и тут можно проследить эволюцию: чуть более поздняя Ocepeia grandis в полтора раза крупнее по длине и втрое тяжелее.
Существует много вариантов подразделения плацентарных млекопитающих на группы. Судя по всему, конвергенция – независимое возникновение сходства в силу одинакового образа жизни – была самым обычным делом, так что старые схемы, ориентировавшиеся на простые внешние признаки, не отражают родства. Например, в группу Pachydermata – «толстокожие» – включались все звери с копытами, простым желудком и более-менее массивным сложением – слоны, носороги, бегемоты и лошади. Развитие морфологии и палеонтологии позволило сделать схемы более реалистичными. Намного большее значение оказалось за особенностями строения зубов и слуховой капсулы, а также расположения и формы отверстий для нервов и сосудов на основании черепа, поскольку они достаточно специфичны и очень разнообразны. Но на надотрядном уровне и такие ухищрения помогают мало, ведь большинство отрядов разошлись очень давно, едва ли не в мезозое, и былое родство сильно затёрлось миллионами лет специализаций, а предковые промежуточные формы бывают слишком невнятны или чересчур фрагментарны, а то и вовсе не найдены. Новое дыхание в систематику привнесли молекулярная биология и генетика. Тут, правда, есть свои сложности: во-первых, по разным биохимическим системам и генам схемы получаются порой сильно разными, во-вторых, конвергенция вполне бывает и в мире белков и генов, а в-третьих, у нас нет белков и генов ископаемых животных, кроме разве что самых недавних, плейстоценовых, да и то в виде редкостного исключения.
Но учёные не сдаются. Наработок и подходов в разных областях уже столько, что общая схема вполне вырисовывается.
По одной из самых распространённых версий плацентарные млекопитающие делятся на две-три большие группы. «Южная» – Atlantogenata, целостность которой под вопросом. Возможно, особняком ото всех плацентарных стоят неполнозубые Xenarthra. Гораздо более консолидированная подгруппа атлантогенат – Afrotheria, включающая Afroinsectiphilia (тенреки, златокроты, прыгунчики и трубкозубы), а также Paenungulata (даманы и хоботные с сиренами). «Северная» группа – Boreoeutheria из двух подгрупп. Первая – Euarchontoglires с Archonta (или Euarchonta; тупайи, шерстокрылы и приматы) и Glires (грызуны и зайцеобразные). Вторая – Laurasiatheria с более заковыристым составом: Lipotyphla (насекомоядные – щелезуб, кроты, ежи и землеройки) и Scrotifera. Последние имеют довольно спорное подразделение: Euungulata (непарнокопытные, мозоленогие, парнокопытные и китообразные) и Ferae (панголины и хищные с ластоногими), а рукокрылые зависают где-то между ними.
Получается, с самых ранних времён плацентарные разделились пополам, и в каждой половине возникали во многом похожие варианты, эволюционные дубли. С учётом же сумчатых и вымерших южноамериканских зверей получилось аж четыре альтернативных версии млекопитающего мира: австралийский, южноамериканский, африканский и евразийско-североамериканский. Из них один – южноамериканский – почти полностью исчез, второй – австралийский – сохранился только благодаря изоляции, а третий – африканский – в виде добавки влился в самый успешный четвёртый. Степень успеха, как кажется, пропорциональна размеру территории и разнообразию условий.
Правда, далеко не все зоологи согласны с подобным делением млекопитающих. Многие указывают, что анатомических оснований объединения афротериев как-то вроде и нет, две их главные группы – мелкие насекомоядные Afroinsectiphilia и большие растительноядные Paenungulata – морфологически чётко разделены уже в конце палеоцена и начале эоцена. Ценность оцепейи в немалой степени в том и состоит, что она образует смычку между двумя половинами группы, выделенной первоначально только по генетическим данным. С другой стороны, оцепейя жила в одно время с уже готовыми хоботными, так что никак не может быть их прямым предком.
Другой ранний афротерий из тех же марокканских слоёв – Abdounodus hamdii. Как и оцепейя, изначально он был описан как кондиляртра, причём очень похожая на боливийских Mioclaenidae типа Pucanodus gagnieri, что любопытно географически. С другой стороны, оцепейя и абдунодус напоминают китайско-монгольских палеоценовых Phenacolophidae типа Minchenella grandisu, Phenacolophus fallax и нескольких других похожих зверушек, представляющих, возможно, первую версию загадочной группы афротериев Embrithopoda, в следующие эпохи выплывающей в Румынии, Турции и Северной Африке. А ведь поздние эмбритоподы были отдалённо похожи на слонов, которые вроде как родственники оцепейи и абдунодуса… Но вроде как афротерии – группа африканская, при чём же тут Китай и Монголия? В целом ясно, что палеоценовая масса кондиляртроподобных тварей ещё будет неоднократно пересматриваться, слишком пока всё это запутано.
В том же Марокко и в то же время жил и потенциальный предок тенреков и златокротов Todralestes variablis: его острые зубки явно больше нацелены на насекомых, чем растения. Как и у многих палеоценовых зверьков, признаки тодралестеса настолько обобщённые, что его первоначально отнесли к отряду Proteutheria, в который иногда зачисляют всех ранних невнятных насекомоядных, начиная с юрамайи через цимолестов до пантолестов и апатемиид.
Тут же в Марокко, даже в одном местонахождении с оцепейей и абдунодусом, найдены уже и первые готовые хоботные. В палеоцене есть уже два их последовательных варианта: Eritherium azzouzorum и, в более высоком слое с плавным переходом в эоцен, – Phosphatherium escuillieri. Начало самых гигантских наземных животных современности было скромным – похожие на тапиров зверьки размером с карликовую свинку. В отличие от потомков, зубная формула эритерия самая что ни на есть генерализованная, без уменьшения числа зубов, но со слабым намёком на будущие изменения в слоновью сторону; бунодонтные зубы говорят о питании мягкой растительной пищей, а огромная носовая полость может быть приспособлением к жизни в воде. От фосфатерия тоже сохранилось не так уж мало, так что мы знаем о его длинной и широкой носовой полости, намекающей на будущую хоботастость, увеличении резцов, намекающей на будущие бивни, переходе к лофодонтии – намёке на листоядность, а также об утере одного нижнего резца и одного премоляра по сравнению с эритерием. Фосфатерий подрос как минимум в полтора раза до длины аж 60 см и веса 10–15 кг – маловато для слона, но в самый раз для великого слоновьего предка.
Коли уж развелось столько сочных зверьков-вкусняшек, не могли не появиться хищные звери. Крокодилы и птицы, конечно, тоже не голодали, но исходная насекомоядность млекопитающих прямо-таки напрашивалась на создание крупных плотоядных. Систематические взаимоотношения ранних хищников, как обычно, крайне запутаны, клыкастые цимолесты, кондиляртры, мезонихии, гиенодонты, креодонты и хищные комбинируются разными авторами в самых причудливых комбинациях.
Существует мощная разница между понятиями «хищники» и «хищные». «Хищники» – это образ жизни и тип питания, таковыми могут быть хоть раки, хоть звери, хоть бы и растения. «Хищные» же – Carnivora – это вполне конкретный отряд млекопитающих, причём некоторые его представители по типу питания вполне себе вегетарианцы, все ведь знают о пандах.
Всеядные кондиляртры Deltatherium и Arctocyon размером с волка, с их вытянутой хищной мордой с большими клыками, выглядели серьёзно и, вероятно, действительно родственны хищным и одновременно, как ни странно, парнокопытным. От тех и других их отличал очень примитивный мозг – маленький, с огромными обонятельными долями и, вероятно, совсем без извилин. Впрочем, для обмана тогдашних травоядных интеллекта недоволков-микроцефалов вполне хватало, да и, судя по молярам, растения были существенной частью их рациона. Совсем уж саблезубым стал Mentoclaenodon acrogenius – едва ли не самый опасный хищник палеоцена. Разные виды рода Arctocyon, что интересно, жили и в Европе (например, A. primaevus), и в Северной Америке (например, очень большой A. mumak). Иногда подобные всеядные кондиляртры, например североамериканский Escatepos campi, уже считаются первыми креодонтами.
Иные некрупные острозубые североамериканские Tytthaena lichna и T. parrisi, а также несколько чуть более продвинутые Dipsalodon matthewi, D. churchillorum и Oxyaena transiens тоже претендуют на звание древнейших креодонтов, а порой ставятся в основание самостоятельного отряда Oxyaenodonta, вроде бы родственного хищным и отличающегося, в числе прочего, потерей третьих моляров и разворотом второго верхнего моляра в поперечном направлении. Показательно, что титтэны найдены в одних слоях с плезиадаписами, которым ещё вряд ли могли навредить, но на детёнышей которых вполне могли поглядывать с гастрономическим интересом. Иные их ближайшие родственники – североамериканские Palaeonictis peloria – в самом конце эпохи уже вымахали до размеров маленького медведя, став самыми большими хищниками палеоцена. Судя по мощности нижней челюсти, очень широким мыщелкам нижней челюсти, а также сравнительно широким и притуплённым щёчным зубам, палеониктисы могли заниматься падальничеством, разгрызая кости.
Во Внутренней Монголии обнаруживается Prolimnocyon chowi – один из древнейших представителей группы Hyaenodonta (учитывая соединения материков, не странно, что в эоцене несколько видов того же рода жили в Северной Америке). Гиенодонты иногда включаются в креодонтов, с чем, впрочем, некоторые палеонтологи не согласны; в последнем случае они рассматриваются как самостоятельная группа.
Creodonta – группа примитивных хищников, главных плотоядных первой половины кайнозоя. Возникли креодонты, видимо, в Азии, почти сразу оказались в Северной Америке, а после добрались и до Европы, и до Африки. Впрочем, есть и другое мнение, согласно которому креодонты – африканская группа, родственная панголинам. Рамки группы рассматриваются разными палеонтологами сильно неодинаково. Иногда в креодонтов включались некоторые кондиляртры, мезонихии и отдельные семейства, которые теперь включаются в хищных. Чаще в первом приближении креодонты делятся на семейства Hyaenodontidae и Oxyaenidae, которым иногда придаётся ранг самостоятельных отрядов Hyaenodonta и Oxyaenodonta. Оксиенодонты чаще были мелкими вытянутыми лазающими хищниками, а гиенодонты – крупными собако- и гиеноподобными бегающими, хотя в обеих группах разнообразие форм очень велико.
В Африке шли параллельные процессы. Марокканские Lahimia selloumi и Tinerhodon disputatum представляют промежуточную фазу между насекомоядноподобными цимолестами и Hyaenodonta, а иногда прямо зачисляются в состав последних и при определённом систематическом раскладе считаются древнейшими креодонтами Африки, то есть представляют зарю хищников. У них ещё не было хищнических зубов, а третьи моляры никуда не делись. Это были очень мелкие зверьки, напоминавшие скорее ласку и внешне совсем не походившие на своих более поздних чудовищных родственников.
Одновременно, причём с самого начала палеоцена, в Азии, Северной Америке и Европе хищники формировались и на базе копытных: отряд Mesonychia родственен с одной стороны кондиляртрам, с другой – парнокопытным и китам, с третьей, вроде бы, креодонтам, но это не точно. Как обычно, близость палеоценовых зверей к общим генерализованным предкам заставляет сомневаться в последовательности филогенетических ветвлений. Ранние китайские Hukoutherium ambigum и H. shimemensis были уже не такими уж мелкими собакоподобными клыкастыми хищниками, бесчисленные виды Dissacus распространились по трём материкам и выросли до масштаба шакала, а североамериканский Ankalagon saurognathus – с медведя, причём у последнего вида некоторые особи вдвое меньше, что намекает на резкий половой диморфизм. При всей своей хищности, мезонихии имели на пальцах копыта, хотя бы и когтеподобные.
Кровожадные поползновения частично реализовались на основе сумчатых и кондиляртр, но уже в палеоцене возникли и представители отряда хищных Carnivora (между прочим, раньше всех более-менее явно плотоядных раннекайнозойских плацентарных запихивали в группу Miacoidea, но её рамки оказались слишком резиновыми, так что она оказалась типичной «мусорной корзиной»). Первыми оказались Viverravidae, например множество видов рода Protictis, Ictidopappus mustelinus и некоторые другие их родственники. Судя по исчезновению третьего моляра, специализация уже в палеоцене успела зайти довольно далеко. Название виверравид отражает реальность: они правда были похожи на виверр (с другой стороны, виверры, очевидно, сохранили очень примитивный план строения). Строго говоря, они питались всё ещё в основном насекомыми, но надо же было с чего-то начинать. Развитие подобных существ к границе эоцена стало мощнейшим фактором нашей эволюции: ловкие древолазающие хищники с мало-мальски рабочими мозгами начали очень эффективно отлавливать приматоморфов-плезиадаписовых. Медленно лазающие и наземные формы приматоморфов с когтями на пальцах и маленькими мозгами оказались очень уязвимы и быстро исчезли, а выжили только самые шустрые.
Одна из важнейших особенностей хищников – хищнические зубы. Они формировались несколько раз независимо на основе разных зубов. У хищных это четвёртый верхний премоляр и первый нижний моляр, у гиенодонтов второй верхний моляр и третий нижний моляр, у оксиенодонтов первый верхний моляр и второй нижний моляр, у креодонтов первый и второй верхние моляры и второй и третий нижние моляры.
Своим путём пошли некоторые сумчатые хищники: у австралийского Thylacoleo хищнические зубы в виде гигантских лезвий сформировались из третьих верхнего и нижнего премоляров и, в меньшей степени, первого нижнего моляра, а роль клыков взяли на себя первые резцы.
Иные родственники пошли своим путём. Escavadodon zygus из раннего палеоцена Северной Америки представляет первую стадию странной группы Palaeanodonta. Судя по зубам, палеанодонты развились из лептиктид и в чуть меньшей степени родственны пантолестам, а из современных животных максимально близки панголинам и хищным. Эскавадодон был приземистым существом полуметровой длины (причём половину её занимал хвост) весом от полукилограмма до килограмма, с довольно мощными – толстыми и мускулистыми – лапами и сравнительно мелкими зубами. Вероятно, это были специалисты по выкапыванию червей и насекомых из почвы. Зубы ранних палеанодонтов сочетают противоречивые черты: у эскавадодона и позднепалеоценового китайско-монгольского Ernanodon antelios на тонкой, узкой и низкой нижней челюсти ещё сохранялись резцы, клык, четыре премоляра и три совсем махоньких моляра, то есть зубная формула была полной, но размеры зубов резко уменьшились. Если у эскавадодона зубы выглядели ещё более-менее привычно, у эрнанодона почти все зубёшки, кроме второго моляра, имели лишь один корень и далеко отстояли друг от друга в виде кривеньких колышков; зато клыки были длинные. Тупорылой мордой эрнанодон был похож, видимо, на ленивца.
Исходно в челюсти млекопитающих было пять премоляров. В дальнейшем их число уменьшалось, но в разных линиях по-разному. У лептиктид и палеанодонтов первым исчез третий премоляр, а у большинства прочих, включая приматов, – сначала пятый, потом первый, а у продвинутых – и второй.
Линия мелких всеядно-растительноядных зверей реализовалась в нескольких версиях. В Азии появились сразу две конкурирующие группы – анагалиды и грызуны. С самого начала они разошлись по приспособлениям зубов, хотя изначально вроде бы достаточно родственны. Anagalida сохранили примитивный набор зубов и острые бугорки, но коронки стали высокими, а премоляры – моляроподобными. Вероятно, анагалиды выкапывали еду из земли: оттого для увеличения подвижности в их предплечьях и голенях кости оставались несросшимися, пальцы на лапках были снабжены копытцеобразными коготками, а стёртость зубов явно повышена. Судя по высокой восходящей ветви нижней челюсти, анагалиды достаточно старательно жевали свою пищу, какой бы она ни была. Анагалиды появились в палеоцене Монголии и Китая (например, Stenanagale xiangensis и Pseudictops lophiodon) и сохранялись тут до олигоцена. В ранних местонахождениях они численно преобладают над многобугорчатыми и первыми грызунами.
Несколько позже на первый план вышли грызуны Rodentia (или, в более широком понимании, – Glires). Самые первые их представители объединяются в Eurymylidae, а иногда даже выделяются в собственный отряд Mixodontia. Они узнаваемы по увеличенным резцам и зазору-диастеме между резцами и щёчными зубами. Миксодонты очень быстро набрали обороты и дали огромное количество форм: например, позднепалеоценовые китайские Sinomylus zhaii, Eomylus borealis, E. bayanulanensis, Palaeomylus lii, монгольские Eurymylus laticeps и Asiaparamys shevyrevae, а также другие их родичи. Показательно, что в Северном Китае остатки миксодонтов в основном обнаруживаются в погадках хищных птиц: с самого своего появления грызуны стали едва ли не главной едой многих пернатых. Любопытно, что в этих же фаунах нет плезиадаписов, приматов и летучих мышей. Хорошо, что у наших предков была возможность эволюционировать в других местах, и к моменту проникновения грызунов в Северную Америку и Европу тамошние приматы-аборигены уже достигли достаточного уровня, чтобы выдержать конкуренцию с понаехавшими.
Arctostylopida в лице Arctostylops steini в Северной Америке и множества азиатских видов (например, Sinostylops promissus в Китае и Kazachostylops occidentalis в Казахстане) – ещё одна загадочная группа, родственная то ли грызунам, то ли вообще южноамериканским нотоунгулятам. Внешне похожие на даманов, с укороченной скуластой мордочкой и неспециализированными зубами, они никогда не были многочисленными и, видимо, проиграли конкуренцию обычным грызунам. Последние арктостилопиды вымерли уже в первой половине эоцена.
Ещё более близкие наши родственники – шерстокрылы Dermoptera. Появились они в Северной Америке. Уже в начале эпохи известен Dracontolestes aphantus, в середине – Mixodectes malaris и M. pungens, а в конце – Planetetherium mirabile, Worlandia inusitata и Plagiomene zalmouti. В отличие от современных шерстокрылов, Mixodectidae и Plagiomenidae имели резко увеличенные долотовидные резцы, как у многобугорчатых, грызунов и некоторых плезиадаписовых. Умели ли палеоценовые шерстокрылы парить на летательных перепонках, как это делают современные, мы не знаем, с большой вероятностью – нет. Как и у других групп, корни шерстокрылов растворяются в ранних плацентарных, а первые представители определяются с трудом и сомнениями. Например, целое семейство Cyriacotheriidae – Cyriacotherium argyreum, Presbytherium rhodorugatus и P. taurus – одними палеонтологами причисляется к пантодонтам, а другими – к шерстокрылам.
А где же люди? Первые приматы
Существует универсальный принцип для прояснения любого вопроса: надо идти к истокам. Так и с нашим происхождением – все самые главные наши качества были заложены у самых первых предков. А среди приматоморфов первыми были плезиадаписовые Plesiadapiformes, а среди них – пургаториусы Purgatorius.
Purgatorius
Пургаториусы – поистине Великие Предки! Их крошечные челюстюшечки и зубёшечки найдены в отложениях начала палеогена Северной Америки. К сожалению, до сих пор непонятно, кто был их предками в конце мела. И, как ни странно, дело не в недостатке данных, а в избытке: среди великого изобилия позднемеловых млекопитающих есть много очень похожих линий, но их детальное родство пока выявляется с большим трудом – слишком они похожи друг на друга и одновременно отличаются от своих предков. Очевидно, на границе эр эволюция дала основательный рывок, который ещё предстоит описать. Не исключено к тому же, что предков наших предков стоит искать не в североамериканских фаунах, а в европейских или азиатских, а те на границе мела и палеогена изучены пока ещё недостаточно.
Кроме пургаториусов, есть и иные претенденты на звание Великого Предка – загадочные адаписорикулиды Adapisoriculidae. Этих существ относили и к приматам, и к сумчатым, и к насекомоядным, и, что закономерно, выделяли как группу «неясного родства». Их зубы сильно отличаются от зубов плезиадапиформ – широкой стилярной полкой, как у опоссумовых, и отсутствием гипокона, как у опоссумовых и шерстокрылов, тогда как плечевые и бедренные кости, напротив, схожи с плезиадапиформовыми, а кости предплюсны – и с плезиадапиформовыми, и с шерстокрыловыми. Как и большинство ранних млекопитающих, адаписорикулиды были насекомо-фруктоядными, хотя отличие их диеты от ближайших конкурентов пока неведомо.
Парадоксально, но адаписорикулиды известны по довольно полным материалам, превосходящим данные по пургаториусам, но просто хуже изучены.
Если адаписорикулиды не были нашими прямыми предками, то они представляют отличный пример конвергенции – сходства, возникающего в разных группах в силу одинакового образа жизни. В то время как в Северной Америке и Восточной Азии эволюционировали приматоморфы, в Индии, Северной Африке и Западной Европе – адаписорикулиды. В чём они проигрывали – непонятно. А может, это именно их потомки читают нынче эти строки, а пургаториусы – просто чересчур разрекламированные самозванцы?..
Зато пургаториусы известны достаточно хорошо. Ни одного целого скелета пургаториусов пока не найдено, но обилие челюстей, зубов, пяточных и таранных костей позволяет в первом приближении прикинуть их облик. Мы знаем, что это были малюсенькие зверушки – что-то около бурозубки или мыши размером, а внешним видом, вероятно, средние между землеройкой и тупайей. Судя по зубам, пургаториусы были всеядными, причём разные виды немножко отличались. Например, P. janisae и P. mckeeveri принципиально похожи друг на друга, но, как обычно, весь интерес в деталях. У первого зверька моляры сравнительно низкие и короткие, с острыми бугорками и гребнями, а у второго – выше и длиннее, но с более уплощёнными бугорками и более округлыми гребнями. Это говорит о том, что P. janisae был более насекомоядным, тогда как P. mckeeveri мог, кроме насекомых, лопать и фрукты, и что попало.
Ясно, что в фауне с пургаториусами есть и другие зверушки. И вот сравнение диеты разных позднемеловых и раннепалеоценовых млекопитающих рисует чудесную картину.
В конце мела, на излёте динозавровой эпохи главными североамериканскими фруктоядами были сумчатые Glasbius twitchelli. Не исключено, что эти недоопоссумы не давали развиться нашим предкам. Но метеорит упал не зря: экологические ниши подосвободились, и пургаториусы стали всеядными. Показательно, что уже некоторые даже самые ранние приматы стремительно уходили в пищевые специализации: вдвое более крупный Ursolestes perpetior стал совсем насекомоядным, тогда как Paromomys farrandi и Pandemonium dis полюбили фрукты. Purgatorius mckeeveri оказывается самым универсалом, занимая на палеодиетологических графиках практически строго среднее положение. Вместе с тем, иные тогдашние звери – сумчатые и предки современных копытных и хищных – были гораздо более выраженными насекомоядами.
Судя по костям ножек, только пургаториусы среди первых кайнозойских зверей наловчились здорово лазить по деревьям, что определило всю нашу дальнейшую судьбу.
Таранные и пяточные кости пургаториусов, как и положено костям Великих Предков, сочетают очень примитивный план строения с мелкими прогрессивными деталями, намекающими на грядущий триумф. Таранные кости укороченными и расширенными пропорциями максимально схожи с костями кондиляртры Protungulatum и отличаются от вытянутой формы шерстокрылов, тупай и полуобезьян. Вместе с тем форма и степень слияния суставных поверхностей таранной кости пургаториуса уже куда как продвинутая и как раз больше похожа на приматоморфную.
Аналогично на пяточной кости: у пургаториуса она очень широкая в передней части, как у кондиляртр, тогда как в продвинутой версии приматов суживается. А вот суставные поверхности пургаториусовой пятки скорее приматные. Увеличение суставных фасеток и слияние отдельных маленьких фасеток в общие большие отражает увеличение подвижности стопы. Судя по всему, возросли возможности поворота ножки, что особенно актуально при древолазании и прыгании по веточкам.
Забавно, что у нас общая форма таранной кости из-за спуска на землю и потери прыгательных способностей вторично вернулась к точно тем же пропорциям, что были присущи предкам копытных и пургаториусам десятки миллионов лет назад! Не смотрите на тупайю свысока: её таранная кость прогрессивнее, чем у Вас!
Всеядность вкупе с древесностью дали нам подвижность, цепкие ручки, преобладание зрения, безопасность жизни, K-стратегию размножения с минимумом детёнышей и максимумом выживания, обучаемость, сообразительность, социальность и в итоге стали залогом разумности!
Чрезвычайно показательно соотношение разных видов в последовательных фаунах. В конце мела известен всего один зуб пургаториуса, причём есть сомнения – не затесался ли он в этот слой из более поздних?
Через 25–80 тысяч лет после окончания мезозоя – начала кайнозоя никаких приматоподобных существ в Монтане совсем не видать, причём фауны-то довольно богатые. Либо пургаториусы просто ещё не возникли, либо позднемеловая катастрофа лишила местность всех деревьев, либо пургаториусы пришли сюда позже из других мест.
А вот спустя ещё каких-то несчастных двадцать-пятьдесят тысяч лет ситуация резко меняется.
На севере Монтаны, на склонах Кордильер, стояло одинокое ранчо… Впрочем, нет, это другая песня, у нас не про гусей, а про пургаториусов. Так вот, на севере Монтаны, в довольно-таки безрадостной местности, палеонтологи накопали некоторое количество окаменелостей. Отложения этой пустоши весьма любопытны тем, что сформировались 66 миллионов лет назад, в конце эпохи пуэркия, то есть самого начала кайнозоя, всего через 105–139 тысяч лет после окончания мезозоя, то бишь вымирания динозавров. И вот же радость – тут нашлись зубы как минимум двух видов древнейших приматов из группы плезиадапиформ – Purgatorius janisae и P. mckeeveri.
250–328 тысяч лет опосля падения метеорита плезиадапиформы представлены как минимум тремя видами пургаториусов, но они малочисленны и представляют меньше пяти процентов от всех индивидов млекопитающих.
А вот 584–691 тысячу лет спустя границы эр к пургаториусам добавляется как минимум ещё один их родственник – Pandemonium dis (кстати, отличное родовое название!). Хотя приматы по-прежнему отстают по видовому разнообразию от прочих зверей, но самое важное – с этого момента приматы надёжно обгоняют предков копытных в численности, составляя четверть от всех индивидов млекопитающих.
855–1148 тысяч лет после вымирания динозавров число видов приматов вырастает совсем незначительно, безнадёжно отставая от копытных, зато один только примат Paromomys farrandi представляет 56 % от всех индивидов, при том, что все копытные составляют меньше 12 %!
И лишь спустя миллион с лишним лет после начала нашей эры копытные достигают 29 % от числа индивидов.
Понятно, что среди плезиадаписовых быстро пошла адаптивная радиация, то есть взрывное увеличение разнообразия. Каких только версий не появилось!
Одни – Plesiadapidae – выросли в размерах и расселились от Европы и Северной Америки до Пакистана и Китая. Образцовый Plesiadapis tricuspidens был довольно тяжеловесным белкоподобным зверем весом от двух до пяти килограмм. Между прочим, это были самые большие и одновременно самые многочисленные звери в своих фаунах! Во французском местонахождении Мена сохранились отпечатки двух тушек, благодаря чему мы знаем, что у Plesiadapis insignis были пушистые хвостики. В питании плезиадаписы сделали ставку на растительноядность, от ранних форм к поздним в рационе увеличивалась доля фруктов и, особенно, листьев. Подобно многим другим растительноядным зверям, зубная система плезиадаписов специализировалась: резцы превратились в грызущие долота, клыки, а иногда и вторые резцы исчезали, моляры же стали жевательными. Впрочем, резцы так и не обрели способности к постоянному росту и самозатачиванию, как у грызунов, отчего, вероятно, плезиадаписы в итоге и проиграли эволюционную гонку. Да и коротенькие лапки с когтями были приспособлены больше для неторопливого лазания, чем для прыгания, а с повлением новых, более бодрых древесных хищников, такой способ передвижения оказался проигрышным.
Saxonellidae и Carpolestidae имели похожее строение зубов, но гораздо более мелкие размеры – с мышь или крысу. В развитие специализации карполестиды обрели высокие премоляры с пильчатым краем, которым резали волокнистые плоды, орехи и стебли. В отличие от плезиадапид, на большом пальце ноги карполестиды уже имели настоящий ноготь – это было прогрессивно, но, впрочем, не спасло их от вымирания.
Paromomyidae стали фруктоядами, отчего их нижние резцы удлинялись и истончались, а моляры становились всё более квадратными и уплощёнными. По некоторым признакам паромомииды были похожи на шерстокрылов, хотя планирующих способностей не обрели.
Иные группы пошли по пути миниатюризации. Picrodontidae стали питаться не только фруктами, но и пыльцой и древесным соком; например, у Zanycteris череп резко сужен спереди, как у современных мышиных лемуров Cheirogaleinae и хоботноголовых кускусов Tarsipedidae, сосущих нектар через трубочку своих челюстей. Micromomyidae уменьшились – или не выросли – до 20–30 г, при таких размерах им не оставалось ничего, как ловить насекомых в древесной листве.
Как обычно, наши прямые Великие Предки избежали всех соблазнов и остались максимально генерализованными. Palaechthonidae – Palaechton и Plesiolestes – выглядели крайне невзрачно и даже примитивно: усреднённые пропорции, маленькие глазницы, самые банальные зубы без увеличений и уменьшений, редукций и гипертрофий. Палехтон имел неплохое обоняние и питался в основном насекомыми. Из него или кого-то очень похожего, разве что чуть более древесного, и появились мы.
В конце палеоцена могли возникнуть уже и настоящие приматы, а не какие-то недоделанные приматоморфы. Один из претендентов – китайский Petrolemur brevirostre, известный, впрочем, по одному обломку верхней челюсти. Разные палеонтологи определяли его и как полуобезьяну или представителя Adapidae, и как анагалида Anagalida, и как парнокопытное Artiodactyla, и как хищного родственника копытных из семейства Oxyclaenidae. Из этого разброса мнений понятно, что кандидат он тот ещё. Но не беда, ведь есть ещё китайский же Decoredon anhuiensis, даже ещё более древний, среднепалеоценовый, зато представленный и верхней, и нижней челюстями и куда как более прогрессивный, так что его порой относят уже к омомисовым обезьянам. Правда, некоторые антропологи всё же сомневаются в его приматности, а кое-кто определял его как кондиляртра, так что и тут сомнения остаются. Такая уж беда с примитивными тварями – все они на одно лицо!
Мораль этих процессов проста: приматы были одними из самых первых плацентарных млекопитающих. Они появились где-то на самой границе мезозоя и кайнозоя, то ли чуть раньше, то ли совсем чуть позже; показательно, что даже в самом раннем достоверном изводе есть уже как минимум два вида, что предполагает какую-то предшествующую эволюцию, которую ещё предстоит прояснить. С самого начала приматы заняли специфическую нишу всеядных древолазов, и этим была предопределена наша дальнейшая эволюция. Несмотря на небольшое и медленно росшее разнообразие и вроде бы медленные темпы размножения, приматы быстро стали едва ли не доминирующей по численности особей группой: с самого начала мы стремились захватить планету – и нам таки это удалось!
Оставалось совсем ничего – слезть обратно на землю и стать людьми. И за этим дело не стало, но – уже в другие эпохи.
Граница палеоцена и эоцена вроде бы не была такой уж ужасной. Температуры плавно росли, планета зарастала. Собственно, так бы всё плавно и развивалось, да вот 56 миллионов лет назад не то земля-матушка выделила CO2 больше нужного, не то красно солнышко пыхнуло от души, не то земная ось содрогнулась, да так, что температуры разово подпрыгнули на несколько градусов, а затем упали обратно. Ясно, что такие выкрутасы не могли совсем не сказаться на планктоне, по которому, собственно, и проводится граница эпох. Но изменения были не такими уж и существенными, а во многих разрезах провести внятную границу вообще не удаётся.
Первые десять миллионов лет после позднемеловой катастрофы планета приходила в себя. В мире невзрачных карликов гигантами были разве что черепахи, змеи, крокодилы да некоторые птицы. Масса серых однообразных млекопитающих стремительно занимала освободившиеся экологические ниши, землеройкоподобные зверьки на глазах превращались в мелких и крупных копытных, всеядных и хищников, меняли свои челюсти, зубы и конечности. К концу эпохи возникла уже примерно половина современных отрядов, которые соревновались с массой странных альтернативных версий.
Наши предки на общем фоне выглядели вполне достойно: начав с весьма скромного старта, они быстро набрали разгон и к следующей эпохе подошли во всей готовности. Невзгоды в виде хищников и конкурентов не могли остановить нашего прогресса, а лишь подстёгивали его. Благо, климат способствовал нашему триумфу.
Альтернативы
Как минимум во второй половине мела отличные шансы на захват планеты имели птицы. Динозавры становились всё больше, а самих их становилось всё меньше. Экологические ниши мелких и среднеразмерных наземных существ освобождались. Судя по обилию видов и появлению даже нелетающих форм, птицы неплохо продвигались к занятию доминирующего положения. Но у них были свои проблемы. Большинство из них связано с полётом.
В частности, активный полёт требует максимального облечения веса и мощнейшего обмена веществ. С таким сочетанием очень трудно иметь крупный затратный мозг. Конечно, врановые и попугаи показывают чудеса интеллекта, а в решении отдельных задач превосходят даже многих людей (попробуйте на досуге решить задачки по добыванию вкусняшек из ящиков, предлагаемые птичкам в экспериментах), но ограничения на размер и работу мозга у них слишком жёсткие. С тяжёлой головой слишком далеко не улетишь. Конечно, большой мозг можно нарастить, потеряв способность к полёту, но и тут незадача: нелетающие птицы всегда возникали в каких-то очень специфических условиях. Либо это происходило в полной безопасности на островах, как с дронтами, моа и эпиорнисами, но тогда не было стимула для прокачки интеллекта, состояние которого у додо вошло в поговорку. Либо птицы становились бескрылыми в пограничных экологических нишах типа побережий – гесперорнисы, пингвины и бескрылые гагарки, – но и тут развить разумность проблематично, слишком узкие задачи ставит специфическая среда. Наконец, можно перестать летать и в обычной среде, но придётся стать либо быстрым или скрытным, как патагоптериксы и цесарки, либо большим и способным запинать любого обидчика, как страусы. Но, если никакой враг не страшен, то зачем быть умным?
Очень подвела птиц специализация крыльев: свободные пальцы исчезли, а кинетизм черепа с подвижным надклювьем, каким бы совершенным он ни был, не мог компенсировать отсутствие ручек. Орудийная деятельность птицам не то чтобы совсем заказана – галапагосские вьюрки и новокаледонские вороны пытаются как могут, – но ограничена до предела.
Есть и более специфические проблемы. Суперобмен веществ – это круто, но требует особого двойного дыхания с хитрым строением лёгких и воздушных мешков. У птиц перед вылуплением лёгкие приходят в готовность очень долго: до трёх суток они подсушиваются, амниотическая жидкость всасывается в кровь, в это время эмбрион сначала дышит из воздушной камеры яйца, а потом ещё сутки – наружным воздухом через дырочку в скорлупе. Живорождение с таким дыханием невозможно. Да и беременная птица, долго носящая развивающийся крупный плод в себе, вряд ли смогла бы летать. А запаса питательных веществ в яйце намного не хватает. Одно дело – ограниченный желток в яйце, а совсем другое – несколько месяцев бесперебойного питания через плаценту от мамы, да ещё с гарантированным отведением всего плохого (у мамы, конечно, будет токсикоз, но она большая, справится как-нибудь).
Кроме прочего, птичкам надо очень быстро взрослеть, чтобы начать летать и либо избегать опасностей, либо направляться в тёплые края. От силы пара-другая месяцев – вот и всё детство. А с такими темпами, да с таким мозгом многому не научишься. Вот и приходится всё поведение записывать в виде рефлексов и инстинктов. А это – антитеза разумности, каковая по определению – нелинейность, нестандартность реакций с учётом предыдущего опыта. Конечно, большинство млекопитающих тоже растут очень быстро, и наши предки в некоторые моменты были не таким уж исключением, но у нас, по крайней мере, есть потенциальная возможность растянуть детство и процесс обучения подольше; некоторым удаётся оставаться детёнышами и десятилетиями. Век живи – век учись!
Имеются у птиц и биохимические сложности. Как известно, над хвостом у них есть копчиковая сальная железа, выделяющая смазку. Большинство людей думает, что птички «чистят» себя, на самом деле они клювом мажут на пёрышки сало. Сало же это не простое, а с двойным назначением. Во-первых, оно делает кератин перьев более эластичным. Во-вторых, из него облучением солнечным ультрафиолетом получается витамин D. Вообще-то, витамин должен бы вырабатываться прямо в коже, да вот беда – она практически полностью закрыта перьями. Вот и приходится птицам сначала обмазываться салом, а потом собирать его, прогоркшее, обратно клювом. Понятно, что делать это в больших количествах сложно и затратно, а без витамина D грозит не только рахит, но и проблемы с работой нервной системы.
В общем, птички – это прикольно, но бесперспективно. Первобытные тинаму и куры упустили свой шанс на господство. Впрочем, если считать виды и численность, может быть, не так уж у них всё и запущено. Ведь мы, в конце концов, живём на планете птиц…
Эоцен. 56–33,9 миллиона лет назад: мир-курорт
Оазис кайнозоя, мечта туриста, последняя передышка планеты перед наступающим ледниковым ужасом. Эпоха благословенного сада, полного сочной зелени и фруктов. Время цветущих Гренландии и Антарктиды, тропических Сибири и Европы.
Но это и переломный момент, когда планета окончательно свернула в пучину замерзания, остыв к концу втрое.
Время, когда планету населяли весьма колоритные существа – уже далеко не такие невзрачные, как в палеоцене, но и далеко не похожие на современных. Пора самых дерзких эволюционных экспериментов, появления причудливых тварей, лишь бледное подобие которых осталось нам в наследство.
Эпоха, когда нашим предкам ещё мало что грозило в их древесном раю, но и этап, когда проблемы и опасности начали настигать их с пугающим ускорением, заставляя эволюционировать.
Первая треть эпохи ознаменовалась продолжением потепления и достижением эоценового климатического оптимума, когда температуры оказались в среднем на 14 °C теплее нынешних! Только в кембрии и девоне было так же здорово, да ещё временами, но недолго. Правда, примерно с пятидесяти миллионов лет назад началось похолодание, по большому счёту продолжающееся до самого недавнего времени. Но мороз для эоцена – благодать для наших реалий. Для сравнения, разница между самым холодным климатом конца эоцена и современным такая же, как между самыми суровыми пиками оледенения плейстоцена и современностью. Другими словами, глядя из ледникового периода, мы живём в межледниковье, а глядя из эоцена – в ледниковом периоде.
Особенно приятно, что повышение температуры было, конечно, не строго пропорциональным относительно современных значений в каждом конкретном регионе, то есть если в Гренландии росли тропические леса, это не значит, что на экваторе на солнце плавился металл. Тепло достаточно равномерно разносилось по всей планете, и везде царил мягкий субтропический климат. Огромные площади поросли тропическими лесами, но в это же время развиваются также травяные степи и саванны, первые образцы коих покрывают среднеэоценовые просторы Южной Америки, а также пустыни – в той же Южной Америке и по северо-восточному краю Африки, в будущей Аравии. Парадоксально, но в эоцене же мы встречаем и первые холодолюбивые леса в горах.
География эоцена всё ещё выглядит экзотично, хотя, конечно, уже несколько приблизилась к современной. Все материки и большие острова немножко сдвинулись на север, особенно это видно для Индии, которая к концу эпохи почти уже доплыла до Азии.
Морские экосистемы эоцена процветали. Перешедшие из мелового периода в кайнозой фораминиферы-нуммулиты Nummulitida (или Rotaliida) только наращивали разнообразие и достигли рекордных размеров. Самым большим оказался Nummulites millecaput – до 16 см в диаметре! А ведь речь идёт об одноклеточных существах! Эти «раковинные корненожки» могли быть не только гигантскими, но и многочисленными: египетские пирамиды сделаны из нуммулитового известняка, сформировавшегося 45 млн л. н. из Nummulites gizehensis. Спасибо корненожкам за Чудо Света! Показательно, что несколько линий нуммулитов оборвались на границе эоцена и олигоцена, для них великое вымирание случилось именно в этот момент – замерзание тропическим существам не идёт на пользу.
Шестилучевые кораллы Hexacorallia в эоцене не чересчур благоденствовали, а всю вторую половину эпохи с ходом похолодания рифостроение всё более и более сокращалось, пока не свелось почти к нулю (как обычно, «не всё так однозначно»: чрезвычайные потепления жахали по рифам в целом и кораллам в частности не хуже заморозков; для этих чувствительных созданий вредны любые экстремумы). Как и в случае с нуммулитами, конец эпохи ознаменовался вымиранием целого ряда линий. По большому счёту, конец эоцена оказался для кораллов столь же губительным, что и конец мезозоя!
Моря эоцена, как ни странно, продолжали хранить в себе крайне архаичных головоногих. В это время появляются наутилусы современного рода Nautilus – N. praepompilius из Казахстана и N. cookanum из США, – выглядящие сейчас как привет едва ли не из палеозоя, так как относятся к очень древней группе Nautilida.
Современные наутилусы прекрасны: их круглая полосатая раковина совершенна в своей лаконичности. В отличие от других современных головоногих, наутилусы имеют огромное количество щупалец – до девяти десятков! Щупальца, кстати, являются производной от ноги, другая часть которой превратилась в характерный головной капюшон. У наутилусов четыре жабры в отличие от прочих современных головоногих с их двумя жабрами. Глаз наутилуса – шарообразная колба с отверстием спереди, заполненная водой, – занимает строго промежуточное положение между светочувствительными пятнышками простых моллюсков и сложным глазом осьминога с роговицей, радужкой, хрусталиком и стекловидным телом. Таким образом, в ряду разных моллюсков можно видеть все этапы эволюции глаза, то есть то, что по палеонтологическим данным никак не прослеживается.
Итальянские глубины прорезали и другие реликты – Bayanoteuthis rugifer – одни из последних белемнитов. Этих головоногих не сгубил позднемезозойский кризис, вымерли они уже в середине кайнозоя, не дожив до наших дней совсем малость.
Ясно, что Италии как страны в эоцене не было, так что корректнее говорить не «итальянские глубины», а «глубины западной оконечности океана Тетис на территории нынешней Италии», но тут и далее в угоду краткости и простоты подобные обороты будут сокращены.
Ихтиофауна эоцена похожа и не похожа на современную. С одной стороны, в это время уже появились все основные группы современных рыб, но все они были немножко другими, чуток недоделанными.
Невероятный аквариум предстаёт в среднеэоценовых отложениях Монте Болька в Италии; на некоторых отпечатках тут отлично видна даже окраска! Рыбы-хирурги Tylerichthys nuchalis и карликовые родственники рыбок-клоунов Odonteus pygmaeus сновали среди кораллов и актиний. Ceratoichthys pinnatiformis, Exellia velifer и Eoplatax papilio с их шикарными высокими плавниками парили, словно бабочки, над песком, в который закапывались бесчисленные скаты – длинноносый Narcine molini, круглый Trygon muricata и ромбовидный Promyliobatis gazolae. Караулили свою добычу морские черти Lophius brachysomus и рыбы-клоуны Histionotophorus bassani. Тут же вились угреподобные Proteomyris ventralis и Bolkanguilla brachycephala и совсем уж нитевидный Whitapodus breviculus. Ловили улиток вытянутые губаны Eolabroides szajnochae и Tortonesia esilis, собирали всякий мусор колючие аргусы Scatophagus frontalis. Рассекали толщу вод мечерылы Blochius longirostris с длиннющей шпагой на носу, а испуганные полурылы Hemirhamphus edwardsi с короткой верхней и очень длинной нижней челюстями выпрыгивали в воздух. В зарослях водорослей маскировались рыбы-иглы Urosphen dubia и Fistularioides veronensis, а мимо не спеша дрейфовали закованные в панцирь аракановые кузовки Eolactoria sorbinii с парой длиннющих рогов спереди и парой сзади, а также колючие рыбы-ежи Oiodon tenuispinus. Рыскали и более стандартные ставриды Carangopsis dorsalis, а также бесчисленное множество иных рыб. Показательно, что больше всего было колючих ночных рыб-белок – Tenuicentrum lanceolatum, Eoholocentrum macrocephalum, Myripristis homopterygius и других, – при том, что в современных коралловых сообществах они составляют явное меньшинство. Напротив, на современных рифах резко преобладают помацентровые, тогда как в Болька они были крайне редки.
Тут же в Болька обнаружены первые камбалы, демонстрирующие самое начало появления асимметрии. У Heteronectes chaneti и Amphistium paradoxum (а также чуть более поздней французской A. altum) тело было уже вполне узнаваемой камбальей формы, но ещё не лежачее и без захода спинного плавника на голову, совершенно обычный рот, а правый глаз только-только начал смещаться на левую сторону, так что эти первобытные камбалы левым глазом смотрели немножко вниз, а правым – сильно наверх. Видимо, они вполне активно плавали как все нормальные рыбы, но периодически ложились на дно на бочок отдохнуть, приподнимаясь, чтобы оглядеться и грести дальше. Между прочим, установить такие явления на окаменелых рыбах очень непросто, ведь на отпечатке череп часто бывает перекошен, и понять причину кособокости – тафономическая она или эволюционная – весьма сложно. Но на то и крутые палеоихтиологи: путём сопоставления мелких косточек правой и левой сторон черепа было доказано, что дело именно во врождённой асимметрии, а не посмертной деформации.
Современные Psettodes erumei из Индийского океана и P. belcheri из Западной Африки выглядят как логичное продолжение эоценовых протокамбал и одновременно как недоделанные камбалы: у них по-прежнему спинной плавник не заходит на голову, рот симметричен, левый глаз находится на положенном месте, а правый расположен строго на макушке.
Впечатляющие рыбы эоцена – Clupeopsis straeleni из Бельгии и Monosmilus chureloides из Пакистана могли достигать метра длины, а их челюсти были усажены дюжиной огромных клыкоподобных зубищ. Рыбы стали саблезубыми до того, как это вошло в моду у котиков! Ясно, что раз среди рыб есть страшные хищники, значит, есть и крупная добыча. Между прочим, современные родственники клюпеопсиса – мелкие планктоноядные рыбёшки-анчоусы; так эволюция может превратить грозу морей в скромного собирателя.
Сухопутные членистоногие эоцена прекрасны по-своему. В Северной Америке доживал свой век последний представитель тараканоподобного отряда насекомых Alienoptera – Grant viridifluvius, чрезвычайно похожий на муравья. Очевидно, мимикрия была весьма актуальна в тогдашних джунглях.
А муравьи были достойны того, чтобы ими прикидываться. Самки гигантских североамериканских муравьёв Titanomyrma lubei достигали 5 см, то есть размеров современных колибри! Ужасны были и самцы немецких Formicium giganteum, похожие на огромных жуков. Впрочем, и в жизни этих монстров были свои сложности: на отпечатках древесных листьев в местонахождении Мессель найдены следы челюстей муравьёв-зомби, поражённых паразитическими грибами кордицепсами. Судя по обилию таких отпечатков, для бедных мурашек засилье коварных грибов было огромной проблемой. В балтийском янтаре сохранился бедняга муравей-древоточец Camponotus, из которого в нескольких местах уже пророс жуткий Allocordyceps baltica.
Некоторые грибы из типа аскомицетов Ascomycota совершенно кошмарны. Кордицепс однобокий Ophiocordyceps unilateralis поражает мозг муравья Camponotus leonardi и делает из него зомби: одурманенная букашка заползает на ствол дерева, вцепляется там жвалами, растопыривает лапки и гибнет. Из головы зомби-муравья вырастает плодовое тело гриба и раскидывает споры на пробегающих под деревом других муравьёв. Другие кордицепсы могут уничтожать иных членистоногих, например Cordyceps ignota – пауков, а Cordyceps tuberculata – мотыльков. Конечно, такое жуткое явление не могло быть обойдено вниманием творческих людей, – и вот уже в нескольких компьютерных играх и фильмах грибы делают зомби из людей. Правда, особо впечатлительные могут расслабиться: человеческий мозг слишком сложен для столь однозначной манипуляции, какую производит гриб с муравьём.
Впрочем, это не отменяет микозов. К слову, у аскомицетов, как и у других грибов, контроль начальных стадий клеточного деления обеспечивается белками SBF вирусного происхождения, а ведь вирусы – профессиональные обманщики иммунитета. Это позволяет грибам легко проникать в клетки растений и животных для паразитирования и симбиоза. Лишь у примитивных и рано отделившихся от других грибов хитридиомицетов Chytridiomycota имеются ещё и транскрипционные факторы E2F, такие же, как у растений и животных.
В тех же немецких лесах над цветами маслиновых и сапотовых деревьев жужжали мухи длиннохоботницы Hirmoneura messelense и собирали пыльцу, остатки которой найдены на их отпечатках. Правда, тогда длиннохоботницы были ещё короткохоботными.
Современные мухи длиннохоботницы Nemestrinidae внешне довольно невзрачны, но обладают длинным негнущимся хоботом, которым высасывают нектар из цветов. Необычно их развитие: из тысяч яиц, отложенных в трещины древесной коры, вылупляются личинки, покрытые развесистыми выростами, отчего ветер подхватывает их и разносит куда попало. А попасть они должны бы на другое насекомое – жука или саранчу; при определённом везении личинка мухи пролезает в тело жертвы через дыхальце и злобно поедает несчастного хозяина изнутри.
Были и более благообразные опылители: бабочки Prodryas persephone и Praepapilio colorado ничем принципиально не отличались от современных. А для гораздо более скромной по размерам бабочки из Месселя удалось даже установить цвет крылышек: передние зелёные с синей и коричневой каёмками, а задние – коричневые с синими краями.
Мессель – уникальная сокровищница Германии, отражающая жизнь среднего эоцена 49 миллионов лет назад. Это был райский тропический сад, раскинувшийся по краям вулканической кальдеры вокруг глубокого озера с болотистыми берегами. Но рай был с адскими нотками: периодически из недр озера поднимались ядовитые вулканические газы, травившие всё живое. Остатки растений и животных погружались на дно и, не разлагаясь, превращались в отпечатки фантастического качества.
Чего только тут не найдено: семена, листья, насекомые, рыбы, лягушки, питоны, крокодилы, птицы, самые разнообразные звери! Окаменелости из Месселя поражают своей детализацией: у членистоногих и птиц часто видно окраску, на рептилиях – каждую чешуйку, а на зверях – шерстинку. У многих животных прекрасно сохранились мышцы и содержимое желудка. На планете очень немного мест, где удалось бы найти столь полную летопись целой экосистемы, да ещё столь богатой.
Другое такое же богатое немецкое местонахождение – Гейзельталь. Здешние лягушки, черепахи, змеи, крокодилы, гасторнисы, архаичные растительноядные, приматы и хищники дополняют картину эоценовой жизни.
Амфибии эоцена принципиально не отличаются от современных, но некоторые уникальны своей сохранностью: Thaumastosaurus gezei из Франции представлена «мумией», на которой – конечно, в окаменевшем виде – сохранились не только общие очертания и складки кожи, но и головной, и спинной мозг, и даже глаза!
Другие лягушки интересны своей географией: сорок миллионов лет назад Calyptocephalella квакали на озёрах, покрытых листьями кубышек Notonuphar antarctica и окружённых лесами из буков Nothofagus – на острове Симор около Антарктиды. Показательно, что и родственные лягушки группы Australobatrachia, и буки-нотофагусы в древности и ныне расселены на юге Южной Америки и в Австралии. Получается, сейчас уцелели только края ареалов, а самое интересное происходило в пущах Антарктиды.
Похожее географическое распространение имели некоторые черепахи. Как и положено антиподам, они очень странные. Аргентинская гигантская наземная черепаха Niolamia argentina имела две пары огромных рогов на затылке, закинутых назад, и один на носу; края её панциря были покрыты шипами, а хвост охвачен плотно пригнанными парношипастыми кольцами, отчего тварь была просто удивительно похожа на мелового монгольского анкилозавра Tarchia gigantea! Кстати, в позднем мелу родственная Otwayemys cunicularius жила в Австралии, а Patagoniaemys gasparinae – в Южной Америке; в Монголии же в мелу обитала не родственная, но внешне похожая Mongolochelys efremovi: как обычно, одни и те же проблемы вызывают одинаковые решения. В кайнозое в Австралии и на рядом расположенных островах насчитывалось не менее шести видов.