Отрочество 2 Панфилов Василий
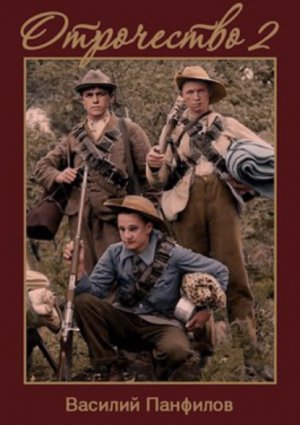
— Шалом алейхем, — вразнобой поздоровались мы с хозяевами и гостями, рассаживаясь за столом и выслушивая ответные пожелания всех благ.
Завтракали вместе с семьёй Маркса, так здесь заведено. Это в Европе разделение на касты, а в Африке или там в Палестине ты — белый человек! В Претории и других городах патриархальность и простота нравов несколько нивелировалась человеческим изобилием, а в глуши именно так: любой белый человек — желанный гость!
В семье Марксов причудливо смешались патриархальные жидовские обычаи, не менее патриархальные бурские, и европейские. Смесь вышла прелюбопытная, но после Одессы не в новинку. Иначе всё, и сильно иначе, но само понимание, што у людей жизнь устроена иньше, чем в твоей глубинке, уже даёт многое к пониманию и отчасти — космополитизму.
Сэмуэль, он же Шмуэль, на русском говорит с некоторой запинкой, но без привычного местечкового акцента. А его жена и дети русского и не знают или почти не знают, за полной ненадобностью. Английский, идиш и африкаанс мешаются в их речи самым естественным образом, когда они переходят от разговора с нами или друг с другом, к разговору с бурами.
Младшие любопытствуют, стреляя в нас глазами и обмениваясь негромкими фразами, не переходя рамки приличий. Старшие более сдержаны, но и им интересны гости из далёкой России, тем паче настолько необычные.
Миловидная супруга нашево хозяина успевает вести светскую беседу, безмолвно дирижировать подающими на стол служанками и то движением брови, а то и ласковым словом, осаживать расшалившихся детей, да расспрашивать буров о делах на ферме.
Те отвечают важно и немногословно, роняя слова о захворавшей кобыле или служанке, которая — дура черномазая, рожать удумала не ко времени!
Атмосфера вполне уютная, и даже Товия с Самуилом потихонечку теряют напряжение. Забавно, но именно два жида чувствуют себя не в своей тарелке, будучи в гостях у единоплеменника. Хозяева ласковы с ними, но отсутствие привычки к какой-никакой, а светскости, играет свою роль.
Нам с Санькой не привыкать, Котяра… шулер, он и есть шулер, учён на славу на всякие случаи, при нужде и за дворянина сойдёт без всякой фальши. Беспокоился было за Мишку, но нет — путается несколько в столовых приборах, но ни капли не теряется, и ведёт себя вполне непринуждённого, притом без подражательства, а…
«— На своей волне» — как и буры. Чем-то неуловимы похожи, и похожи сильно. Не манерами, а какой-то внутренней сутью. Но они деревенщины, а Мишка, несмотря на нехватку светскости, ощущается с хозяевами на равных.
Н-да… вспоминаю, што ведь ничегошеньки не знаю о Мишкиной семье! Сам говорить не хочет, а добытые через чужих людей слухи малоинформативны. Некоторые общины староверов весьма закрыты, и его семья как раз их таких. Но явно непростые.
Или портняжная мастерская привычку к общению дала? Всякий ведь народ ходит, в последнее время чины из немаленьких захаживают, да степенства купеческие — не из первой пока сотни, но и не охотнорядцы в замызганных поддёвках!
После завтрака буры распрощались и ушли, на ходу ковыряя в зубах.
— Алмазная шахта, — негромко сказал Шмуэль, уловив немой вопрос, — и богатая… но сам видишь.
Хмыкнув, кивнул с пониманием — вести дела с такими людьми тяжко, тот самый случай, когда уничижение паче гордыни. Весь их быт, сама государственность — нелепость полудикарская. Впрочем, британцев я ни разу не оправдываю.
Кстати…
— Херр Шмуэль, вы не поможете снять нам дом? Мы бесконечно благодарны за ваше гостеприимство, но понимаем, что оно не может продолжаться вечно.
— Пустяки, — благодушно отмахнулся тот, раскуривая сигару, — или…
Он остро посмотрел на меня.
— … есть какие-то иные причины?
— Я репортёр, и не все мои статьи будут пропитаны благожелательным отношением к бурам и бурской верхушке. А при здешней патриархальности нравов, оказывая мне гостеприимство, под ударом оказываетесь и вы.
— Понимаю ваш резон, — кивнул он, — но можете о том не беспокоиться. Я… хм, имею свои интересы в этой ситуации. И к слову, не думайте, что вы мне что-либо должны за гостеприимство, помимо элементарного уважения к хозяину. Просто… хм, не удивляйтесь, если я буду вовлекать вас в свои… хм, комбинации.
Не спешу соглашаться, и молчание повисло между нами. Пауза затянулась, и Шмуэль нарушил её первым.
— Ладно, ладно, молодой человек! — он перешёл с английского на идиш, и в голосе его прозвучало веселье, — Обещаю, что комбинации эти не пойдут во вред вам и вашим братьям и друзьям. Также обещаю, что буду по мере возможности разъяснять ситуацию.
— Договорились, херр Маркс.
Приказав работникам нашего хозяина оседлать лошадей, мы переоделись, вооружились, и всей компанией отправились на стрельбище в паре миль от города. Пусть мы и не собираемся участвовать в войне, но поддавшись всеобщему милитаристскому ажиотажу, ходим везде, увешанные оружием так, будто собираемся не иначе как сейчас вступать в бой с британцами.
Местные лошадки неказистые и норовистые, но выносливые и отменно сообразительные. Мы с Санькой, как бывшие подпаски, легко нашли с ними общий язык, а вот остальные, несмотря на наши подсказки, на кавалеристов похожи только издали.
— Тиш-ше, тиш-ше, — Зашептал Котяра, поглаживая взбрыкнувшую было кобылку, — ну вот, на…
Та охотно схрумкала предложенный корнеплод, кося на него хитрым взглядом, и… вот ей-ей! Ручаться не могу, но очень похоже, што умная животина нарошно иногда капризничает, прося ласки и лакомств.
На стрельбище, представляющем собой унылое вытоптанное поле с мишенями, поделённое на сектора, с полсотни стрелков. Между ними снуют кафры — как личные, так и служащие при полигоне. Принести патроны или прохладительные напитки, сбегать куда-то с поручением и Бог весть, што ещё.
Обменявшись приветствиями со встреченными знакомцами, и выслушав в ответ пожелания всех благ на африкаанс, немецком и голландском, расположились в своём секторе. Дальше — скушная для меня отработка стрельбы. Лёжа, сидя, с колена, стоя, навскидку, в падении… На последнее буры косятся несколько пренебрежительно, но не высказывают своё несомненно ценное мнение. А некоторые так и вовсе — хмурятся задумчиво, и видно — на себя примеряют.
Успехи у нас… ну, разные.
Из револьвера лучше всех Санька стреляет. Тридцать вторым калибром бахает, как пальцем тыкает, даже и не целясь. Из ружья на коротких дистанциях тоже недурно, а вот на дальние — чуйки нет, понимания.
Мишка, тот наоборот — из ружья стреляет, как не всякий бур, а из револьвера — в стену сарая с десяти метров попадёт. Ежели навскидку и в движении, канешно — так-то, стоя целясь, любой балбес сумеет.
Я посерёдке. Санька и Котяра из револьвера куда лучше меня стреляют. Мишка, и даже Самуил с Товией — из ружья. Раненую свою гордость лечу, только когда в падении или с седла стрелять начинаем, вот тут да, хорош. Ну… не дано, выезжаю на координации, моторике и глазомере, а собственно стрелковых талантов и нет.
На стрельбище не задержались, и уже через час, потные и покрытые коркой пыли, возвратились назад, и снова — тренировки. Одна на всех разминка, затем каждый своё на заднем дворе викторианского особняка. Близнецы, те силу качают — то шею на мосте, то друг с дружкой на спине отжимаются или приседают. Мы — на ловкость больше, на координацию. Я только иногда поправляю технику.
Какой-то незнакомый бур — то ли гость хозяина, то ли ещё кто, встал неподалёку с зубочисткой, беззастенчиво пялясь. В глазах осуждение и лёгкое презрение — што значит, из самых што ни на есть деревенских. Хуторянин, кальвинист в квадрате, а то и в кубе.
Развлечения осуждаются. Музыка, яркая одежда и многое… да почти всё! Из развлечений такие признают только чтение Библии, да слушанье проповедей. Ну и само собой — работа.
Презрительно, но… взгляд то и дело сворачивает на Товию, мерно отжимающегося с братом на спине.
— Вниз — плавно! — командую я, — Вверх — рывок!
Угукнув, тот поправился, и только мышцы под рубахой ходят, да волосы на спине проступают через вспотелую ткань.
Котяра с Мишкой вполсилы занимаются по нашим с Санькой меркам. Мишка на силу ещё туда-сюда, а на ловкость начал было после вылечивания хромоты, да быстро прекратил. Так только, растягивался по чуть, да несколько связок рукопашных отрабатывал.
Заметив, што Чижик притомился, кинул ему боксёрские перчатки.
— В правосторонней поработаем немножко. Пятнашки. Сперва только по корпусу, потом корпус и голова.
— Ага… — брат одел перчатки, и я помог зашнуровать их, — а зачем ты в правостороннюю так часто? Сам же говорил, што амбидекстрия в боксе почти и не нужна, и даже эти… примеры показал — из тех, где правосторонняя выгодней. Всего-то парочка. Для общего развития?
— Отчасти. А отчасти — вот, — кинув перчатки обратно на столик, я взял валяющуюся на земле сухую веточку, — Предположим, это нож.
Санька покосился с сомнением, но включил художницкую фантазию и предположил. Мишка с Котом, да и остальные, подтянулись на интересное.
— Классическая в боксе стойка, только правостороння, и… видите? — я прижал левую руку к торсу, — Горло, сердце и потроха более-менее прикрыты, в правой нож, и начинается боксёрский челнок, плюс боксёрские же отбивы чужой руки.
— Сильно, — прищурившись, одобрил Кот с видом эксперта, — но в некоторых случаях это…
— Знаю, — перебил я его, останавливая неуместную для тренировки дискуссию, — не идеал. В некоторых случаях — другие варианты нужны, но вкратце — полезно? Всё, дискуссия окончена. Помоги заодно перчатки зашнуровать… поехали!
Помывшись, в ожидании обеда читаю газету, с немалым трудом разбирая африкаанс. На слух пока вообще не воспринимаю, а в тексте — пожалуйста. Корни у языка преимущественно голландские, то бишь германские. При знании хох-дойча, идиша и привычки разбирать не самый простой диалект меннонитов, понять можно.
«Армия генерала Жубера[25] осадила Лэдисмит»… а я — сижу! Не без труда давлю раздражение. Увы… сложности начались с самого начала, хотя чему я удивляюсь?
Возраст мой, да чортова эта частичная эмансипация. У буров, пока отпрыск не женится, не заведёт хотя бы парочку ребятишек и не отрастит густую бородищу, закрывающую грудь, он и права голоса-то не имеет!
А тут я, аккредитованный репортёр в четырнадцать годочков. Уже смутительно. Да Санька «впристяжку», с документами от Художественного Училища вместо нормального паспорта, да Мишка с Котярой, у которых документов — вообще нет!
У Маркса я живу…. ну, вроде как на поруках. Списываются пока, телеграммы шлют… а там — люди воюют! Там, именно там, на передовой, моё место как репортёра!
Продышавшись, успокаиваю себя мыслями, што за это время познакомился со многим интересными людьми из буров и приезжих. Што в столичной Претории — штаб, правительство, и вообще — жизнь кипит! Помогло слабо, ну да куда я денусь?
Ехать в зону боевых действий с недоподтверждённой аккредитацией, оставляя братьев и друзей с вовсе уж сомнительным статусом, это глупость несусветная. А так бы…
Прикрыв глаза, я представил, как здоровски было бы уметь — р-раз! И меня два, или целый десяток. Один — в Претории, второй у Жубера, третий у Кронье[26].
Представлялось здорово, но почему-то, во всех своих фантазиях, я/мы был в чудовищном рыжем комбинезоне.
За ужином присутствовало несколько относительно молодых буров, незнакомых ни лично, ни по газетным фотографиям, из которых я начал собирать картотеку. Вполне светский разговор, то бишь из городских африканеров, приемлющих што-то помимо Библии.
На равных присутствовали и общались все, включая смущающихся близнецов. А вот после ужина как-то так оказалось, што некурящий я оказался на веранде с курящими гостями, а парни мои — чуть в сторонке. И взгляды…
«— Эге… — вякнуло подсознание, — а у нас здесь никак заговор?!»
А ведь похоже! Маркс считается другом и креатурой Крюгера, но… интересно!
Ничего не значащий светский разговор, несколько даже высоковатый для меня. Потом расспросы о России, и… Маркс чуть в стороне, но кивает еле заметно и очень серьёзно — дескать, отвечай.
— Скажите, Георг, — и лёгкая улыбочка Деккера, от которой мурашки по коже, — мы слышали, что в России вас обвиняли в достаточно интересном преступлении…
— Обвиняли, — и как к воде, прикладываюсь к бокалу с бренди, который до того просто вертел в руках. Ни вкуса, ни запаха…
«— Да и нет не говорите…»
Переглядывания, потом — якобы не сразу, понимание моей ситуации и то, што признаваться в таком, да ещё в незнакомой компании, не стану.
— А если бы, — начал всё тот же Деккер, — гипотетически это были именно вы тем человеком, который совершил символический акт повешения императора? Зачем?
— Предупреждение дурному правителю, устроившему на коронации — жертвоприношение, а потом — танцы на трупах. По сути. Предупреждение от гипотетического представителя народа.
— Это… — выдыхаю, во рту сухо, — ещё не мене, текел, фарес на пиру Валтасара, но глас народа[27]…
Замолкаю, и африканеры, переглянувшись, принимают какое-то неведомое для меня решение. Я… сочтён и взвешен.
Разговор снова становится обыденно-светским. Новости с фронта, экономика, проблемы уитлендеров и излишне патриархальной части общества буров. Но откровенней, заметно откровенней.
Вот что это было?!
Глава 14
Папаша Крюгер изволил инспектировать артиллерийские склады, как нельзя сильно в эти минуты похожий на зажиточного деревенского мужика, взлетевшего, за неимением других кандидатур, на пост управляющего поместьем. Въедливая дотошность человека, который не вполне понимает суть своей работы, но держит изо всех сил важный вид, балансируя между верой в собственное высокое предназначение и опаской, а ну как поймут и погонят прочь?!
Наспех сколоченные бараки, огромные палатки, полотняные и дощатые навесы, и ящики, ящики, ящики… Африканеры невообразимо, чудовищно богаты, а немецкий кайзер шлёт не только телеграммы со словами поддержки, но и корабли с оружием.
Новейшие многозарядные «Маузеры», которые только-только поступают на вооружение армии Второго Рейха, пушки, пулемёты — больше, чем на вооружении у прибывших в Африку британских полков. Патроны — десятками миллионов, взрывчатка и всё, што ещё только может понадобиться для войны.
Остро пахнет металлом, порохом, взрывчаткой, смазкой, какой-то химией, важно передвигаются меж штабелей с вооружением осанистые буры, снуют кафры, деловито возятся европейские специалисты. Муравейник.
Вскрываются ящики со снарядами, и дядюшка Поль проводит пальцем по заводской смазке, трогает старческими, но всё ещё сильными пальцами, ящичные доски, проверяя на излом. Рачительный хозяин, как и почти все буры, но при таком подходе он рискует утонуть в каждодневных мелочах, потеряв за деревьями лес.
За президентом свита хвостом, в которой хватает таких же деревенских, и даже вовсе уж диковатых хуторских мужиков, и — городские африканеры. Контраст разителен, и несмотря на схожую одежду, окладистые бороды и степенные манеры, городские выглядят совершеннейшими европейцами. Не элегантными парижанами и резковатыми берлинцами, а почтенными бюргерами из маленьких городков в захолустье, но — европейцы. Не белые дикари, знающие наизусть Библию, но ничего кроме. Другие. И тоже — буры.
В хвосте свиты — я, с каждой минутой всё более желчный и язвительный. Жду-с!
Со мной Санька, вовсе ничем не озадаченный и ни о чём не думающий, потому как занят делом, а не ожиданием. Чуть остановится президент со свитой, как брат, тихохонько сопя, делает наброски.
— Херр Панкратов, — тщательно выговаривая мою фамилию, подошёл ассистент-фельдкорнет[28], весьма не светски поманив за собой. Пара десятков шагов… жду, пока президент, беседующий с каким-то немцем, явно из офицеров по виду, соизволит обратить на меня своё высокое внимание.
Минута, вторая… пятая… и полное впечатление, што нарошно томит. Вытащив блокнот начинаю делать наброски. Папаша Крюгер очень живописен: мясистое лицо с носом картофелиной, мешки под глазами, окладистая борода на шее при выбритом лице. Подобный типаж очень хорошо смотрится у старых голландских мастеров, и… на карикатурах.
Тишина… но я невозмутимо черкаю в блокноте, внутренне сцепив зубы. А вот задело!
Закрываю наконец, и улыбаюсь, бестрепетно встречая взгляды свитских и самого президента. Ни оправдываюсь, и только киваю этак поощрительно — ну?
— Георгий Панкратов, русский репортёр, — суховато говорит кто-то из свитских на африкаанс.
— Несмотря на юный возраст, успел завоевать признание в репортёрской среде прекрасными, и очень яркими Палестинскими очерками и статьями, — улыбчивый немецкий представитель с офицерской выправкой смягчает ситуацию.
— Палестина, хм… в такие-то годы? Характер! — один из деревенских спутников президента с неуклюжей дипломатичностью вытягивает ситуацию.
— Настоящий бур, — кивает городской африканер, — только немного невоспитанный.
Смешки, и ситуация поворачивается так, будто это я… а, чорт! Всех скопом не переиграть, да оно и не надо — показал зубы… хм, молочные, и хватит.
Улыбаюсь светски, с лёгкой прохладцей, и дядюшка Поль раздвигает в улыбке губы, но глаза — с прохладцей, без тени приязни. Взаимно.
Грызя вечное перо, задумываюсь над статьёй. Писать, как требует публика, чрезвычайно не хочется, но…
… кидаю полный отвращения взгляд на телеграмму от Посникова.
«— Московская наша публика решительно настроена в пользу буров, воспринимая чужую войну своей, едва ли не народной…»
Остальные телеграммы — как под копирки. Статьи в русских, европейских, немецких газетах… Благородные буры, подлые англичане…
Единственные различия в подаче материала. Репортёры, тяготеющие к описательству, с чувством кропают многостраничные опусы о патриархальной, библейской простоте нравов, их глубокой религиозности. Иные, мнящие себя военными экспертами или политиками, принимаются рассуждать о стратегии и тактике, обличать британскую политику и трусливое невмешательство своих правительств.
А я — не хочу. Нельзя сказать, што вовсе не сочувствую бурам, но…
— Война была равна, сражались два говна, — бормочу вслух и оглядываюсь — не слышал ли кто?
Мишка, ети его, по какой-то непонятной мне причине очень серьёзно воспринял чужой для нас конфликт. Притом, што вовсе уж неожиданно, сторону самых упёртых…
«— Упоротых»
… кальвинистких радикалов, считающих эту войну не иначе как войной с Антихристом. Всколыхнулось у брата староверческое, вбитое на подкорку в глубоком детстве. Я было высказался… и получил полный обиды взгляд, два дня не разговаривали. Так вот бывает. Я бы ещё понял, если бы он просто поддался военному угару вообще, но идти против религиозных чувств не хватает ни решимости, ни што главное — знаний.
Посещает теперь собрания, проповеди, исступлённо учит язык, и ищет старательно общее у африканеров и староверов. Находит, как не найти… особенно если искать некритично, отбрасывая несообразности. Его привечают, выделяют из других иностранцев. Не все, далеко не все… но и этих достаточно, штобы я чувствовал себя препаршиво.
Вот чую, со дня на день вступит Мишка в одну из бурских или волонтёрских коммандо, и поедет на войну, которая стала для него — священной.
Буры… чего стоит закон, разрешивший наёмным кафрам пьянствовать (!) на рабочем месте, притом — исключительно в том случае, если кафры работали на чужаков-уитлендеров. И таких законов — десятки, один нелепее другого.
Петиция о необходимости реформ, и вполне дельные предложения оных, подписанные тридцатью пятью тысячью уитлендерами, отвергли на основании письма, подписанного девятьсот девяносто тремя бурами. Причём последние, в отличии от уитлендеров, не утруждали себя какой-то логикой, а просто — «не позволим!» И не позволили.
Завоеватели, пришедшие в эти места несколько десятилетий назад, рабовладельцы — не юридически, но фактически, буры никак не выглядят невинными жертвами. Но англичане… нет, не лучше, ничем не лучше. К тому же их слишком… слишком. Заполучив себе эти земли, они станут ещё богаче, ещё сильней, а остальные страны, соответственно — слабей. А это чревато очередной Большой Войной.
Все это если не понимают, то чувствуют нутром, от того и накал страстей в Европе — бешеный. Все почти европейцы воспринимают этот акт агрессии болезненно — не обычной колониальной войной, а будто вторгаются и отчуждают земли у них лично. Земли отцов.
В Британии — напротив, небывалый подъём шовинистического патриотизма. Одобряется любое действие властей, а буры заочно признаны белыми дикарями, отличающимися от кафров только цветом кожи. Дикари.
«— Недочеловеки».
Снова грызу перо… и принимаю компромиссное решение: писать так, будто я этнограф. Без восторженных реплик в ту или иную сторону, без…
… а как же хочется! Хлёстко! Едко! Фельетоном! Ну или хотя бы — нормальные статьи, в меру критичные, в меру язвительные — как это принято в нормальных странах. Но не поймут. Пока не поймут. Патриотический угар. Значит…
… буду вести дневник.
— Взяли! — восторженный Мишкин вопль совпал со стуком настежь распахнутой двери, врезавшейся в дверной косяк, — меня взяли!
Брат возбуждённо забегал по комнате, совершенно невменяемый, и я едва успел захлопнуть дневник, подложив промокашку вместо закладки.
— В Мафекинг, — остановившись, он посмотрел на меня сияющими глазами, — на помощь отрядам генерала Кронье. Он сам, правда…
— Я с вами… — и брат налетел на меня, затряс, заобнимал… и стену начавшегося было отчуждения прорвало, — … как репортёр.
— Я понимаю, — закивал Мишка отчаянно, — я… просто рад, брат. Што мы… ну… как и раньше!
Оседлав лошадей, приобретённых через нашего любезного хозяина, мы направились договариваться с Морелем, отряд которого расположился вдоль железной дороги. Большой, явно старинный полотняный шатёр, служащий жилищем командиру, а заодно и штабом фельдкорнетства, украшен четырёхцветным флагом Претории. Вокруг палатки и фургоны, среди которых видны женщины и дети.
Многие буры воспринимают войну как Великий Трек[29], путешествуя на фургонах всем семейством. Знаю уже о том, но видеть бегающих ребятишек и чинных бурских женщин, расхаживающих по военному лагерю и занимающихся вполне мирными делами, дико. Позже эта привычка им аукнется… наверное. Пока же период побед и головокружения от успехов, и английские отряды кажутся многим не опасней кафров.
Обогнув висящее на верёвках стиранное, многократно штопанное нижнее бельё, и возящихся у очага раскрасневшихся бурских женщин, мы подъехали к шатру командира, сидящего с трубочкой в кругу подчинённых.
Фелькорнет[30] Морель оказался немолодым степенным буром, большую часть своей жизни (как я выяснил из рассказа Берты Маркс) занимающийся перевозкой грузов и торговлей. Основу фельдкорнетства составили его компаньоны и работники, державшиеся без малейшего чинопочитания.
Одетые в несколько потрёпанную, но добротную одежду европейского кроя, они лениво расположились кто где — на приготовленной для костра сухой лесине, охапке травы или просто — в пыли, на собственной поджарой заднице. Крепко пахло давнишним потом, табаком и… портянками.
Крепко, очень крепко. Даже и для меня, выросшего в деревне и на Хитровке.
«— Наши-то мужички, — мелькнула непрошенная мысль, — победнее будут, но и почистоплотней».
Мелькнувшая было мысль о казаках в походе ушла, как и не было. Совершенно другой типаж.
— Русский? — он вытащил изо рта вонючую сигару, смерив меня равнодушным взглядом светло-серых глаз, — Фургон есть?
— Найду, — пообещал я легко.
Клуб дыма, переглядки Мореля с сидящими тут же товарищами, равнодушное пожатие плеч…
— Отстанешь, — снова клуб дыма, — ждать не будем. Припасы за свой счёт.
Мишка заулыбался, будто услыхав што-то невообразимо приятное, и повернулся ко мне, сияя всей мордахой, уже зашелушившейся на здешнем жарком солнце. Охо-хо…
Фургоны и лошадей в упряжки нашли не без труда, начав снаряжаться в путь при помощи нашего гостеприимного хозяина.
Похмыкав и проглядев список и качество взятого, Шмуэль не без некоторого удивления счёл, што я в общем-то понимаю в походной жизни.
— … но, молодой человек, — назидательно сказал он, подняв вверх палец и заулыбавшись широко, — надо думать и об окружающих! Маленькие подарки приводят иногда к большим последствиям!
Догрузив меня несколькими ящиками спиртного и табака, он счёл подготовку удовлетворительной. На козлы фургонов, расшитых по тентам надписями «Пресса» уселись Товия и Самуил, но што Маркс только головой помотал, будто отгоняя странное.
— Возвращайтесь живыми, — сказал он на прощанье очень серьёзно, — это главное.
— За вашу и нашу свободу, — повторил Феликс Шченсны, аккуратно складывая газету, — Так, значит…
Он заколебался на мгновение, но тут, под окном его варшавского дома, прошла компания молодёжи, распевая «Марш Домбровского[31]».
Тряхнув головой, он прикусил губу и повторил ещё раз…
— За вашу и нашу свободу! Русский[32]…
… и глубоко задумался, комкая газетный лист.
Глава 15
Сойдя с поезда, Серафим опасливо вжал голову в плечи, дивясь людскому толкучливому многолюдию и вокзальной роскоши. Ишь… жируют!
Повертев кудлатой башкой, выцепил глазами городового, и выдохнув решительно, затрусил к нему по влажной от недавнего дождя брусчатке, ежесекундно ожидая самово нехорошево.
— Доброво здоровьичка, — издали сорвал он шапку и закланялся, да так и не выгнул спину взад, ссутулившись привычным крестьянину образом перед лицом начальственным, — вашество…
Мужик замялся, забыв титулование столь важного чилавека в мундире. С медалью!
— Ну?! — рявкнул здоровенный усач, вкусно пахнущий самонастоящим, а не махорошным табаком, водкой и копчёностями, — Не томи власть, дяр-ревня!
— В-вашество… — у Серафима подогнулись ноги, и в голове уже закружилась каторга с клеймением и плачь старушки-матери, да воющая с горя жена и осиротевшие при живом отце детки.
— Тьфу ты… — усач сплюнул пренебрежительно, и несколько смягчился, видя нешутошный испуг мужичка, — Из какого ж ето угла ты вылез, дяревня?
— Сенцовские, вашество, — словоохотливо зачастил вспотелый от радости мужик, — што в Костромской! Бывшие, значица, помещика…
— Цыть! — прикрикнул служивый, морщась от чево-то, — Чевой надо-то?
— Так ето… — Серафим достал из-за пазухи пропотелую линялую тряпицу с письмецом, — на работу обещались устроить. Вот… адресок…
— Молдаванка? — крутанув головой, удивился непонятно чему городовой, сходу прочитав адрес, — Эк тебя… Никак скокарем иль медвежатником решил стать, хе-хе!?
— Што вы… вашество! — замахал руками крестьянин, улыбаясь испуганно непонятной шутке начальства, — У нас последних ведмедей ишшо при помещике…
— Замолкни, — перебил служивый разом замолкнувшево мужика, — дяр-ревня! И не пошуткуешь с тобой, потому как — дурак! Понял?
— Дурак как есть, — робко заулыбался так и не разгибающийся Серафим, — потому как мужик. Чай, не из бар…
— Эх-х… — то ли выдохнул, то ли крякнул городовой, — ладно… тебе, значит, аккурат во-он до туда! Видишь?
Он ткнул перстом, и крестьянин торопливо закивал, собирая морщинки у рано выцветших серых глаз, щуря их старательно по полицейской указке.
— Вон аккурат оттудова и…
Городовой объяснил всё подробно, заставив мужика повторить, и только тогда отпустил.
— В порядок себя приведи, — посоветовал он напоследок Серафиму с ноткой снисходительности, — а то выглядишь, прости Господи…
Служивый широко перекрестился, и широким небрежным жестом велел Серафиму убираться. Тот затрусил поспешно — так, штоб ровнёхонько в плепорцию, штоб уважить власть, но и себя не шибко уронить, значица.
В одном из проходов под домами, спрятавшись от накрапывающево дождя, мужик долго чистился, приводя себя в порядок. Как-никак справный мужик, а не распоследняя голытьба! Даже вон… сапоги!
Чистился, опасливо поглядывая на каменную махину, нависающую над головой. И как люди не боятся?!
Вытянув ногу, он сызнова опасливо взглянул вверх, успокаивая себя тем, што вон — ходят люди, и полюбовался сапогами — тятенькины ишшо, сносу им нет! Ежели не трепать кажный день, канешно. Так, по праздникам, ну и как сейчас.
Достав припасённый туесок с дёгтем, он тряпочкой отполировал сапоги, поплёвывая на них и не жалеючи дёгтя. А?! Лепо и духовито!
Прохожий, по виду из господ, раз в шляпе и очёчках, проскочил мимо, ругаясь негромко на запах, и Серафим на всякий случай снял шапку, заулыбавшись и закланявшись. Проводив взглядом удаляющуюся спину, сплюнул независимо — дух дегтярный господам не по нраву, неженкам! И ишшо раз — дёгтём и тряпочкой по сапогам, потому как он нравный и бунташный!
Деревянной расчёской с редкими зубьями долго расчёсывал спутавшиеся после путешествия волосья, ругаясь тихохонько и шипя от боли. Наконец расчесал, почистился ишшо раз, и пошёл на эту… Молдаванку, опасливо поглядывая по сторонам и на всякий случай сдёргивая линялую шапку при виде кажного прохожего.
Ить господа! Лучше тово… етово, перестараться, чем в харю получить, а потом плетей в участке — за неуважение. За… да за господами дело не встанет, найдут! Потому как учёные, и вообще — господа! Известное дело, их власть.
— Песса Израилевна, — повторил он ишшо раз, крутанув головой. Ишь! Имячко! Што израилевна, оно и так понятно, а по батюшке-то как? Всё-то у жидов не так, как у людёв!
Што он попал на Молдаванку, Серафим понял сразу, потому как — жиды! В голову сразу нехорошее полезло, слышанное в церкви от батюшки и торговцев с ярмарки — о крови християнской, о загубленных невинных младенцах, да о том, што они — Христа распяли.
— Ничево, — пробормотал он, потея от нервенности, несмотря на пронизывающий сырой ветер, гуляющий по улочкам с переулочками, — чай, не младенец уже давно, да и тово… не шибко и християнская кровушка у меня. Грешен…
Мужик быстро закрестился, бормоча привышные с детства молитвы.
— Русским духом пахнет, — послышалось сзаду замогильное, и Серафим опасливо откочил чуть не на сажень, закрестив тово, ково за чорта принял. Ну как есть же, а?! Чернявый, глазастый и с ентими… пейсами. Всё, как на лубке, который на ярмарке видал!
Чорт отскочил от святово креста и зашипел, пуча глаза и когтя пальцы на вытянутых вперёд руках, а потом расхохотался, оказавшись жидовским мальчишкой, злым и проказливым. Перекрестив ево ещё раз, мужик облегчённо выдохнул — не развеялся дымом, значица! Просто жид, хотя надо бы и тово… одно племя!
— Так к кому ты? — повторил чорт, стоящий уже не в одиночку, а такими же жиденятами, пусть некоторые из них совсем светленькие, почти даже и русские по виду. Ишь! Християн православных смущают! И ухи не надрать!
— К Пессе, — упаднически сказал Серафим, и пожевав губами, добавил для верности, — Израилевне. Знаете такую?
— А то! — кинул чорт.
— Так ето… — замялся мужик от неудобности и от тово, што спрашивать приходится не у взрослово человека, а щегла сопливово, да ещё и жидёнка, — а по батюшке ея как? Я понимаю, што она израилевна, но вы тута все такие, значица… израилевичи.
— Ой! — сказал чорт дискантом, и расхохотался. Завизжали смешливо и остальные жиденята, на што Серафим только насупился — ишь! Старшево чилавека обсмеивают! Жиды! Правильно про их батюшка говорил, чортово семя!
Обступив, жиденята повели ево проулочками и закоулочками, задавая всевозможные вопросы вразнобой, и дёргая то и дело то за рукав, то за полу зипуна. Мужик заопасался было за спрятанные в сапоге рупь с полтиной, но успокоился быстро — не… почуял бы! Иль нет? Всё ж жиды, а про них разное говорят!
Он так и пошёл, пытаясь то ли ощутить, то ли нащупать монеты в портянке. Выходило плохо, отчево он морщился со страдальческим видом християнсково мученика.
— Песса Израилевна!
— Тётя Песя!
Два жидёнка рванули наперегонки, вопя на редкость пронзительно и противно, как и положено чортовому племени. Ажно в ухах засвербело и захотелось потрясть головой, вытряхнув засевший там визг.
— До вас тут нищий какой-то приехал из России!
Услышав про нищево, крестьянин насупился — какой же он нищий?! Изба своя имеется, пусть даже и нижние венцы подгнили уже. Пора бы и менять, но где? Лес ихний, Сенцовский, он тощий, а казённый или ещё хуже — чужой, он ведь денег стоит!
Коровёнка… ну, старая, но доится ведь пока! И мерин… а?! Какой же он нищий? Вполне себе справный мужик! В сапогах!
— Тётя Песя…
— Песса Израилевна…
Загомонили жиденята в десяток глоток при виде выглянувшей с поверха второво етажа ладной бабы.
«— Ишь! — при виде спустившейся сверху жидовки Серафим сглотнул и резко вспомнил, што он вообще-то тово… мущщина! — гладкая…»
Взгляд ево прикипел к высокой груди, к широким колышущимся бёдрам при относительно тонком стане…
«— Ишь… — он непроизвольно облизнулся, и тут же одёрнул себя, — чортово семя! Всё бы им смущать честных християн! И на лицо… ничево так. Лупастая, канешно, да и нос… тово. Большеват. Но у Лушки Сидорихиной ничуть не меньше, а баба-то вполне себе… хе-хе! Глаза тожить… разве только тёмные больно…»
— … кто ты и откуда?
— Ась?! — Серафим заморгал, со стыдом понимая, што жидовка, которая Песя, уже который раз ему вопрос задаёт, а он тута слюнями, как кобель на сучку в течке!
— Так ето… — встряхнувшись, как собака, он собрался с мыслями, — из Сенцовки, значица, што в Костромской губернии! Вам ето… письмецо должно было…
Он сжался, сердце в груди отчаянно забухало, потому как, а вдруг нет?!
— От Егор-рки?! — Чуть прокартавила выскочившая вперёд молоденькая жидовка, при виде которой Серафим непроизвольно перекрестился, вспомнив вдруг разом, што пусть и чортово семя, но и Христос от их племени! То есть как бы… он запутался и снова — вспотел.






