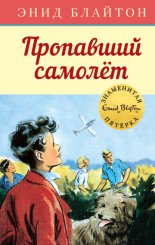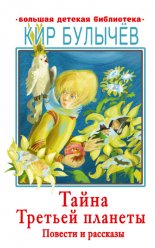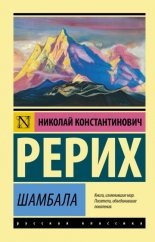Солнце и сталь Мисима Юкио
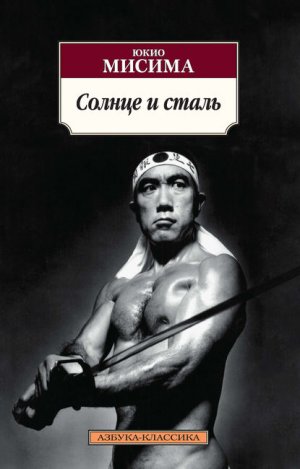
Альфонс, должно быть, весь истомился, ожидая меня в Лакосте!.. Но… но… Почему он не написал? (Охваченная внезапной тревогой.) Я немедленно еду в Лакост.
Графиня. Бесполезно.
Рене. Это еще почему?
Г-жа де Монтрёй. Графиня!
Графиня. Полагаю, что маркиз уже снова в тюрьме. Только в другой. Ваша добрейшая матушка наверняка убедилась, что дело сделано, прежде чем сообщить вам о приговоре.
Рене. Что за глупости вы говорите! Альфонса освободили… Матушка, ну скажите же ей.
Г-жа де Монтрёй. Графиня просто шутит.
Графиня. Мадам, боюсь, что вам, добродетельнейшей из матрон, надолго запомнится сегодняшний день. Придется вам горько раскаиваться, что некогда вы связались со мной, падшей женщиной. Шесть лет назад вы хотели меня использовать. Вам понадобилась моя порочность. Потом вдруг передумали и отказались от моих услуг. О, у меня превосходная память! Я могла бы вам простить желание меня использовать, но то, что вы презрели мою помощь, простить никак не могу. Вы не представляете, как меня потом мучил тот сострадательный порыв, совершенно мне не свойственный. И в память о несостоявшемся благом деянии я еще раз выступлю в непривычном для себя качестве. Сейчас моими устами заговорит сама Истина – представляете? И все благодаря вам, дорогая госпожа де Монтрёй! Должно быть, ваша безупречная честность заразительна.
Г-жа де Монтрёй. Мадам! Вы, кажется, намерены совать свой нос в наши семейные дела?
Графиня. А разве не вы сами ткнули меня носом в ваши семейные тайны?
Рене. Мадам, ради бога, говорите! Вы принесли какую-то страшную весть, да?
Графиня. Бедняжка Рене. Альфонс попал в капкан, расставленный вашей мамочкой. А приговор судебной палаты города Экс был не более чем приманкой, чтобы птичка попалась уж наверняка.
Рене. Но почему?
Графиня. Вы знаете, моя информация всегда самая точная. Подробности стали мне известны не далее как вчера. Когда в прошлом году умерла мать Альфонса, госпожа де Монтрёй поспешила истребовать личный королевский эдикт на арест маркиза, сбежавшего с вашей помощью из тюрьмы и скрывавшегося в неизвестном месте. Ну, как Альфонса схватили, вам, должно быть, известно?
Рене. Почти ничего.
Г-жа де Монтрёй. Может быть, довольно, графиня?
Графиня (г-же де Монтрёй). Вы все сделали для того, чтобы в Эксе дело маркиза пересмотрели побыстрее, пока не истек срок королевского эдикта. Даже в случае оправдательного приговора суда Альфонса, освободив, немедленно арестовали бы по именному указу его величества. Так все и вышло: четырнадцатого июля суд освободил маркиза из-под стражи, но несчастного сразу же схватила королевская тайная полиция и вновь заперла в тот же Венсенский замок – только на сей раз в еще более темный, сырой и холодный каземат, даже сквозь решетку которого не видно воли. По дороге Альфонс было сбежал, но, как вам, мадам, известно, его благополучно поймали, и теперь вы можете быть совершенно спокойны. Зятек сидит за двойной железной дверью, в каменном колодце, на окне – решетка. Теперь-то уж он не сбежит.
Пауза.
Анна (поспешно поднимается). Графиня, вы ведь, кажется, гуляли и заглянули сюда по дороге?
Графиня. Именно так.
Анна. Позвольте мне составить вам компанию. Прогуляемся дальше вместе.
Графиня. Охотно. Прогулка со столь очаровательным инструментом чужих замыслов доставит мне огромное удовольствие. В прежние времена вас использовала старшая сестра, теперь – мамочка. Пойдемте, Анна, пора попользоваться вами и мне.
Анна (с деланой веселостью). К вашим услугам, графиня. Готова быть столом, комодом – чем прикажете.
Графиня. Вот послушное дитя! Природа одарила вас прелестными крылышками, расправив которые вы всегда сможете упорхнуть от неприятностей. Пожалуй, это единственное ваше богатство. Сударыни. (Кланяется г-же де Монтрёй и маркизе де Сад, после чего вдвоем с Анной идет к дверям.) Шарлотта!
Выглядывает Шарлотта.
Вглядись-ка хорошенько в мое лицо. Вряд ли мне представится оказия когда-нибудь еще побывать в этом доме, так что отныне по самый гроб тебя будут окружать исключительно добродетельные и высоконравственные лики. Посмотри как следует и запомни это лицо грешницы.
Графиня, Анна и Шарлотта уходят.
Рене и г-жа де Монтрёй молча смотрят друг на друга.
Рене. Я хочу спросить только одно. К чему была вся эта комедия?
Г-жа де Монтрёй. Ну, комедию ломать начала не я. Помнишь, шесть лет назад, когда ты примчалась молить меня о помощи, ты ведь утаила от меня многое… Мерзость и распутство! Когда Анна открыла мне глаза, я, естественно, переменила свое решение. Написала прошение королю, и тот через посла в Сардинии потребовал выдачи Альфонса. Видишь, всему было причиной то, что ты затеяла играть со мной в прятки… А что касается теперешней истории, то, поверь, я устроила все для твоего же блага. Целых шесть лет мы были с тобой врагами – я прилагала все усилия, чтобы не выпустить Альфонса из тюрьмы, ты, наоборот, делала возможное и невозможное, чтобы вернуть ему свободу. Мать с дочерью враждовали между собой! А ведь я уже стара, силы оставляют меня, мне одиноко. Я тверда в своем решении держать беспутного зверя взаперти, но война с родной дочерью разрывает мне сердце. Ведь я заботилась только о твоем счастье.
Рене (без выражения). О моем счастье…
Г-жа де Монтрёй. Ты была вне себя от радости, когда я наконец стала добиваться пересмотра приговора. Прошлые обиды сразу забылись, мы с тобой снова зажили душа в душу, как в старые добрые времена. Я потому и скрывала от тебя так долго вердикт судебной палаты, что знала – твоя радость будет преждевременной. И Анне велела ничего не говорить. А когда утаивать истину стало уже невозможно, решила: дай хоть доставлю тебе несколько радостных минут. Ты сияла от счастья, а материнское сердце разрывалось от жалости и горя… Ну а клевете этой ведьмы графини де Сан-Фон ты не верь – она все перевернула с ног на голову.
Рене. Но это правда, что Альфонс снова в темном каземате?
Г-жа де Монтрёй. В общем…
Рене. И то, что засадили его туда вы?
Г-жа де Монтрёй. Что значит «засадила»? Я же не король.
Рене. Какая чудовищная жестокость!
Г-жа де Монтрёй. Если уж говорить начистоту, тут необходима была жестокость, чтобы у тебя наконец раскрылись глаза. Пойми же, я вынуждена была прибегнуть к этой уловке. Я надеялась, что ты избавишься от наваждения и выкинешь Альфонса из головы…
Рене. Это не в моих силах.
Г-жа де Монтрёй. Но почему, почему? Сколько же можно хранить верность этому чудовищу? Ведь он-то никогда тебе верен не был. Это в тюрьме он льет крокодиловы слезы, пишет жалостные письма, уверяет тебя в любви и клянется в верности. Но стоит ему выйти на свободу, и все начнется сызнова. Ты же не слепая!.. Откажись от него. Это единственный путь к твоему счастью.
Рене (без выражения). К моему счастью…
Г-жа де Монтрёй. Забудь его.
Рене. Это невозможно.
Г-жа де Монтрёй. О боже, почему?! И как ты могла, ты, дочь судьи, устроить преступнику побег из тюрьмы?
Рене. О-о, то было блаженное время! Никогда еще я не чувствовала, что моя душа настолько слита с душой томящегося в темнице Альфонса… Бессчетное количество раз подавала я прошения о помиловании – и все тщетно. Я сидела ночи напролет в пустом замке и думала только об одном – как устроить побег. И посоветоваться было не с кем, я – совсем одна! Это походило на шахматную партию: я двигала фигуры слоновой кости, пробуя комбинации одну за другой. И наконец слоновая кость наполнилась пламенем, стала краснее коралла – план был составлен! Разрабатывая детали, я чувствовала биение сердца Альфонса – где-то совсем рядом. И я поняла. Когда Альфонс замышлял новое бесчинство, стремясь в своих исследованиях порока как можно ближе подобраться к недостижимому, он испытывал нечто подобное. Нет, не нечто подобное, а именно то же! Не было в мире человека более одинокого, чем он, когда в его голове – втайне от всех – составлялся план очередного преступления. Это куда страшнее огня неразделенной любви – ведь надежды на взаимность нет, лишь стремление любыми средствами дорваться до неосуществимой мечты, воплотить ее на земле, в определенной точке времени и пространства. И заранее известно наверняка – в последний момент добыча ускользнет из рук… Я ощущала совершенно то же. Понимала – даже увенчайся затея успехом, меня ждет лишь опустошенность. Втайне строила я свои планы и знала, что они бессмысленнее, чем самая безнадежная из неразделенных любовей… Нет, на признательность Альфонса я не рассчитывала.
Г-жа де Монтрёй. Конечно, на что может рассчитывать человек, таящийся ото всех? Ничего удивительного. Каждый, кто разрывает сети праведности и законности, остается один-одинешенек. Так всегда говорил твой отец. Несчастный, ему и в голову не могло прийти, что такая участь ожидает его собственную дочь.
Рене. Между мной и Альфонсом установилась невидимая связь, разорвать которую было не под силу никому из смертных. Мы были связаны крепче, чем в минуты самых страстных объятий.
Г-жа де Монтрёй. Неужели ты станешь меня убеждать, что причина твоего упрямства – любовь? Это выше моего разумения! Какая любовь – ведь он-то тебя не любит, ты губишь жизнь из-за пустой химеры! (Язвительно.) Рене, уж будем говорить начистоту: ведь твой муж – он даже и не человек вовсе.
Рене. Но все равно он – мой муж.
Г-жа де Монтрёй. Ага, о любви разговора уже нет, теперь твое убежище – супружеская добродетель.
Рене. И научили меня ей вы, матушка.
Г-жа де Монтрёй. Довольно странная, беспутная она какая-то, эта твоя добродетель. Отчего, интересно? Я давно заметила: любые, самые белоснежно-благородные слова, когда речь заходит об Альфонсе, становятся чернее угля. Чернее китайского лака!
Рене. И моя любовь?
Г-жа де Монтрёй. Да. Она тоже беспутна.
Пауза.
Рене. Что бы ни произошло, я последую за ним всюду, сколько хватит сил. Если вы хотели разлучить меня с мужем, не следовало запирать его в тюрьму – вы совершили ошибку. Я буду писать ему, ходить на свидания. Для него я – единственное человеческое существо на всем белом свете. Я – его надежда, и мы оба с ним знаем это.
Г-жа де Монтрёй. Может быть. Может быть, я и сделала ошибку. Но, знаешь, незаметно для нас обеих мы идем с тобой одной дорогой. И радости у нас с тобой одни и те же. Вот слушаю тебя и думаю: ты ведь тоже счастлива, что посадила Альфонса в клетку – клетку твоей любви. Теперь ты обрела душевное спокойствие. Он один, беспомощен, вся надежда только на тебя. Никаких мук ревности, а? Пусть теперь он поревнует, а? Представляешь, не в силах избавиться от навязчивых, душераздирающих видений, он напишет тебе ревнивое письмо? А ты будешь с наслаждением читать и перечитывать его, блаженно улыбаясь… Ну, будь же честной. Признай, что, хоть на устах твоих горечь, в глубине души ты мне благодарна. Мы обе с тобой хотели посадить его в клетку, и это роднит тебя и меня. Разве нет?
Рене. Нет! Ничего подобного!
Г-жа де Монтрёй. Нет? Даже несмотря на то, что стоит ему выйти на свободу, и он сразу же превратит твою жизнь в ад?
Рене. Пусть! Я хочу, чтобы он был свободен.
Г-жа де Монтрёй. Но для него свобода – кнут и бонбоньерка.
Рене. Это не важно. Матушка, умоляю, я буду валяться у вас в ногах – только помогите! Сделайте так, чтобы его освободили!
Г-жа де Монтрёй. Ничего не понимаю. Освободить? И расставаться с ним не желаешь? А сама знаешь, что ничего, кроме мук, он тебе не принесет. Тебе что, доставляет наслаждение терпеть муки?
Рене. Большей муки, чем нынешняя, все равно не бывает.
Г-жа де Монтрёй. Что ж, приходится тебе верить – ты знаешь, что такое мука. Значит, единственная твоя радость – его освобождение? В этом твое счастье?
Рене. Да! И радость, и счастье. Только об этом я и мечтаю.
Г-жа де Монтрёй (пронзительным голосом). Какое же оно, твое счастье?
Рене. То есть как?
Г-жа де Монтрёй. Какого оно сорта, какой природы?
Рене. Я не понимаю вас. Разве не должна добродетельная жена добиваться свободы для своего мужа? Разве можно вообразить себе большее счастье, чем…
Г-жа де Монтрёй. Хватит о добродетели! В твоих устах это святое слово становится мерзостным. Я хочу услышать, что` для тебя счастье!
Рене. Ладно, если вам так хочется… Каждую ночь муж наполняет мой дом светом – и это счастье. Лежать зимой в холодной спальне замка одной, мерзнуть и представлять себе жарко натопленную комнату и в ней Альфонса, в этот самый миг подносящего пылающий сук к голой спине связанной женщины. Вот оно – мое счастье! Страшные, кровавые слухи, стелющиеся как полы пурпурной королевской мантии… Идешь по улице городка и смотришь в землю – ты, супруга господина здешних мест! Вот какое это счастье. И еще – счастье бедности, счастье позора… Такое, матушка, счастье обрету я, добившись свободы для Альфонса.
Г-жа де Монтрёй. Ты лжешь. Все лжешь! Прежде чем обвинять мать, задумалась бы над тем, какая ты дочь! Ведь ты снова скрытничаешь, снова меня обманываешь! А мне известно все. Именно поэтому я и поклялась вырвать свою дочь из лап страшного чудовища, чего бы мне это ни стоило!
Рене. О чем вы?
Г-жа де Монтрёй. Боже, какой стыд! Даже Анне я не смогла об этом рассказать… Твоя хваленая добродетель – гнилой, изъеденный червями плод!
Рене. На что вы намекаете?
Г-жа де Монтрёй. Я скажу. Скажу… Верный человек, которого я послала в Лакост, подглядел в окно и все мне рассказал. Это было как раз на Рождество.
Рене. На Рождество?
Г-жа де Монтрёй. Где уж тебе вспомнить – у тебя, поди, таких ночей много было…
Рене. Рождество… После удачного побега Альфонс запутал следы и тайно приехал ко мне в Лакост. Это последнее Рождество, проведенное нами вместе. Была студеная зима, дул злой северный ветер. Чтобы купить дров, я заложила фамильное серебро… Тут уж не до праздников.
Г-жа де Монтрёй. Рождество у вас и в самом деле было странное. На дрова у вас, несчастных, не хватало – ай-ай-ай. Решили человечиной топить… Бедные, нищие супруги, специально ездившие в Лион, чтобы нанять пять служанок, девчонок лет по пятнадцать, и еще юнца-секретаря… Видишь, даже это я знаю. А ведь я, дура, посылала тебе денег на расходы! Так вот, мой слуга спрятался у окна и, насквозь продуваемый ветром, стал подглядывать, каким поразительным образом справляете вы Рождество. На дрова ты и в самом деле не поскупилась – огонь в камине пылал так, что все деревья в саду стояли залитые багровым светом.
Рене. Матушка!
Г-жа де Монтрёй. Нет уж, ты выслушай… Альфонс, облаченный в черную мантию, но при этом обнажив свою белую грудь, хлестал кнутом пятерых девочек-служанок и подростка. Те были в чем мать родила и метались по зале, тщетно моля о пощаде. Длинный кнут мелькал в воздухе, словно стая ласточек над крышей старого замка. А ты…
Рене (закрывает руками лицо). Нет!
Г-жа де Монтрёй. А ты, совершенно голая, была за руки подвешена к люстре. От боли ты почти потеряла сознание, по твоему телу, словно по стволу дерева под дождем, стекали струйки. Струйки крови, вспыхивавшие рубинами в отсветах каминного пламени. Угрожая мальчику кнутом, его сиятельство заставил несчастного облизывать испачканное тело ее сиятельства. Бедняжка был слишком мал ростом, и ему пришлось залезть на стул… Он вылизал тебя всю… (Высовывает кончик языка.) И не только там, где была кровь… (Пауза.) Рене! (Делает шаг к дочери. Та отшатывается.) Рене!
Еще один шаг. Рене пятится. Госпожа де Монтрёй хватает ее за край платья. Рене с силой вырывается. Госпожа де Монтрёй опускает руки.
Ну, довольно. Теперь я вижу, что все это было правдой, твое мертвенно-бледное лицо – лучшее тому доказательство.
Рене. Но, матушка…
Г-жа де Монтрёй. Какие еще тут могут быть «но»?
Рене. Это случилось только один раз, и против моей воли. Клянусь вам! Поступить так велела мне добродетель. Вам не дано это понять.
Г-жа де Монтрёй. Опять добродетель! А если он велит тебе ползать на брюхе по-собачьи, ты тоже подчинишься? Или превратиться в червя, а?! Где твоя женская гордость? (Задыхается от рыданий.) Разве так воспитывала я свою дочь?! Дьявол-муж отравил твою душу!
Рене. Когда обретаешься на самом дне позора, в сердце не остается места ни для сострадания, ни для нежности… Эти чувства живут в верхнем слое души, и, когда душа переворачивается вверх дном, грязь и мусор поднимаются наверх и замутняют, загрязняют прозрачный и чистый слой… Вы правы, матушка. Все, что вы говорили, – верно. Но только жалости к вам у меня нет. Ведь вы ровным счетом ничего не знаете, а стало быть, вреда вам никакого нет и не будет.
Г-жа де Монтрёй. Кто, я не знаю? Да мне известно все!
Рене. Нет, ничего вам не известно. Что можете вы знать о пути, которым идет женщина, решившая быть добродетельной до конца и отринувшая ради этой цели все общественные запреты и саму честь?
Г-жа де Монтрёй. Так говорят все женщины, ставшие жертвой мерзавцев.
Рене. Альфонс не мерзавец. Он – моя лестница к недостижимому, лестница, ведущая меня к Богу. И пускай эта лестница затоптана грязными ногами, даже забрызгана кровью!
Г-жа де Монтрёй. Опять эти твои витиеватые сравнения. Анна и та над ними смеется.
Рене. Об Альфонсе иначе говорить нельзя. Он – голубь, а не лев. Он – маленький белый цветок в златокудрой пыльце. И при этом не ядовитой, о нет! Когда этот голубь, этот цветок прибегает к кнуту, начинаешь себя, себя, а не его ощущать кровожадным зверем… Тогда, на Рождество, я приняла одно важное решение. Мне мало понимать Альфонса, мало быть его защитницей и опорой. Да, я вытащила его из тюрьмы и воображаю себя истинно добродетельной женой, но гордыня застит мне глаза – того, что я сделала, мало… Матушка, вот вы упрекаете меня за то, что я все твержу: добродетель, добродетель. Но это добродетель иного рода, стряхнувшая ярмо привычного и общепринятого. После той страшной ночи с моей добродетели начисто слетела присущая ей прежде спесь.
Г-жа де Монтрёй. Это оттого, что ты стала соучастницей.
Рене. Да, соучастницей голубя, маленького белого цветка в златокудрой пыльце. Я поняла, что была прежде не женщиной, а зверем, имя которому Добродетель… Вы же, матушка, и поныне тот зверь.
Г-жа де Монтрёй. Такого о своей скромной персоне мне слышать еще не приходилось.
Рене. Нет? Ну так я вам повторю хоть тысячу раз. Вы – зверь Добродетели, своими клыками и когтями вы рвете Альфонса на куски.
Г-жа де Монтрёй. Ты, верно, шутишь! Это меня, меня рвут на куски. И мой мучитель – твой муженек с его белыми зубами и сверкающими когтями.
Рене. Нет у Альфонса никаких когтей! Лишь жалкие изобретения человеческого ума: кнут, нож, веревка да заржавленные орудия пыток. Для него все эти предметы – примерно то же, что для нас, женщин, белила, румяна, пудра, помада, духи, зеркальце. А у вас – клыки, дарованные самой природой. Ваши полные бедра, ваша высокая грудь, не увядшая, несмотря на возраст, – вот они, когти и клыки. Все ваше тело до кончиков ногтей покрыто острыми шипами добродетели. Каждого, кто приблизится к вам, вы пронзаете этими шипами, подминаете под себя, душите!
Г-жа де Монтрёй. Не забывай: эта самая грудь вскормила тебя!
Рене. Помню. Во мне течет ваша кровь, и тело мое устроено точно так же. Но груди мои из другого материала – они не скованы обетами и корсетом благонравия и общественных устоев. Батюшка, должно быть, обожал вашу грудь – ведь для такой четы благонравие было важнее, чем любовь.
Г-жа де Монтрёй. Не смей говорить гадости об отце!
Рене. Ах, я покусилась на ваши драгоценные воспоминания: как приятно думать, что и в постели с собственным мужем продолжаешь оставаться членом общества. Вместо того чтобы говорить о любви, вы, верно, восхищались собственной безупречностью. И были вполне довольны, да? А ведь в вас, матушка, была замочная скважина к той двери, что ведет к блаженству, а у него был ключ. Стоило только повернуть ключ в замке!
Г-жа де Монтрёй. Боже, какая мерзость!
Рене. Увы, ключ не подходил к замку. А вы еще и посмеивались: «Я не желаю быть этим изогнутым ржавым ключом. А я не желаю быть какой-то скважиной, жалостно скрипящей при повороте ключа». Вы всем телом – грудью, животом, бедрами, – как осьминог щупальцами, прилепились к благопристойности. Добродетель, благонравие и приличия вы клали с собой в постель, да еще урчали при этом от удовольствия. Как звери! А ко всему хоть чуть-чуть выходящему за рамки устоев вы испытывали ненависть и презрение, они стали для вас чем-то вроде обязательного и полезного для здоровья трехразового питания. Все у вас было именно там, где надлежит: и спальня, и гостиная, и ванная, и кухня. А вы расхаживали по своему чинному владению и рассуждали о добром имени, порядочности, репутации. И даже во сне не приходило вам в голову открыть ключом ту дверь, за которой – бескрайнее, усыпанное звездами небо.
Г-жа де Монтрёй. Это верно. Открыть дверь в преисподнюю нам и в самом деле в голову не приходило.
Рене. Поразительная способность – презирать то, чего не можешь даже вообразить. Это презрение висит над всеми вами огромной сетью, а вы почиваете в нем, словно в гамаке, и наслаждаетесь послеобеденным сном. Ваши груди, животы, бедра незаметно для вас самих обретают твердость меди, а вы знай полируете металлическую свою поверхность, чтобы она сияла. Такие, как вы, говорят: роза прекрасна, змея отвратительна. И вам неведомо, что роза и змея – нежнейшие друзья, по ночам они принимают облик друг друга: щеки змеи отливают пурпуром, а роза посверкивает чешуей. Увидев кролика, вы восклицаете: «Какой милый!» А увидев льва: «Какой страшный!» Откуда вам знать, что ночью, когда бушует буря, кролик со львом сливаются в любовных объятиях и кровь одного смешивается с кровью другого. Что известно вам об этих ночах, когда святое становится низменным, а низменное – святым? Ваши медные мозги отравлены ненавистью и презрением, вы отдадите все, только бы таких ночей вообще не было. Но знайте: если их не будет, даже вам, вам всем, придется распроститься со спокойными сновидениями.
Г-жа де Монтрёй. «Вам всем»? Это ты родной матери так говоришь? Мать никто не заменит!
Рене. Как же, «не заменит». Вы ведь сами страшно гордитесь, что вы такая же, как все, вполне заменимая. Вы добиваетесь, чтобы и я стала заменимой. Нет уж, «все вы» – самое подходящее обращение.
Г-жа де Монтрёй. Невинный кролик, мерзкая гадюка, свирепый лев и хитрая лиса становятся одинаковыми в ночь, когда сверкают молнии. Это было известно и без тебя, тоже мне открытие. В свое время за такие вот ночи немало ведьм отправили на костер. Ты, Рене, распахнула эту твою дверь, за которой бескрайнее звездное небо, да и упала в бездну.
Рене. Как вы обожаете порядок, раскладываете каждый платочек и каждую перчатку на отведенную полку, в свой ящичек. «Невинный кролик, мерзкая гадюка» – точно так же и людей вы хотите разложить по полочкам. «Добродетельная мадам де Монтрёй, порочный маркиз де Сад».
Г-жа де Монтрёй. Каждый сам определяет, на какую полку ему ложиться.
Рене. Ну а вдруг землетрясение, и содержимое всех ваших полочек перепутается: вас швырнет на полку порока, а Альфонса – на полку добродетели?
Г-жа де Монтрёй. А нужно, чтобы каждая полка запиралась на ключик, тогда и землетрясение не страшно.
Рене. Посмотрите хорошенько в зеркало и призадумайтесь – на какой полке вам место. Кто, польстившись на громкое имя маркиза де Сада, отдал дочь в заклад? Кто, поняв, что родовой замок маркиза охвачен пожаром, принялся выкупать свое имущество обратно?
Г-жа де Монтрёй. Да, и выкуп уплачен щедрый.
Рене. Все ваши деньги истрачены лишь на то, чтобы не предстать перед людьми в смешном и презренном виде.
Г-жа де Монтрёй. Конечно. А кто же станет платить за то, чтобы над ним смеялись и издевались?
Рене. Вы – как шлюха, выкупающая из ломбарда заложенное платье. Выкупите – будете вполне довольны. О, эта ваша мечта о тихой и спокойной жизни! Сидеть в уютной комнате, завесив окна розовым шелком, и, упаси боже, не выглядывать – что там происходит, на краю мира и даже еще дальше. А потом вы умрете, и единственной вашей усладой перед смертью будет мысль о том, что вы не дали ничему презренному и низменному себя запятнать. Есть ли на свете более дешевая, более вульгарная причина для гордости?
Г-жа де Монтрёй. А ты разве не умрешь?
Рене. Умру. Но не так, как вы.
Г-жа де Монтрёй. Я надеюсь – уж я-то, во всяком случае, на костер попадать не намерена.
Рене. А я не намерена окончить свою жизнь, как состарившаяся проститутка, которая скопила деньжонки на черный день и ударилась в благочестие.
Г-жа де Монтрёй. Рене, я тебя ударю!
Рене. Сделайте милость. Как вам понравится, если от вашего удара я вся сладострастно затрепещу?
Г-жа де Монтрёй. О-о, какое у тебя сделалось лицо…
Рене (делая шаг вперед). Какое?
Г-жа де Монтрёй (визгливо). Я боюсь! Ты стала так похожа на Альфонса!
Рене (улыбается). Графиня де Сан-Фон произнесла замечательную фразу: «Альфонс – это я».
Занавес
Апрель 1790 года. Со времени предыдущего действия миновало 13 лет. Во Франции уже девятый месяц идет революция.
Г-жа де Монтрёй (она сильно сдала). Рене!
Рене (сидит и вышивает; в ее волосах седина). Что?
Г-жа де Монтрёй. Тебе не скучно?
Рене. Нет.
Г-жа де Монтрёй. Тринадцать лет смотрю я, как ты складываешь в корзину провизию и отправляешься в тюрьму – относить Альфонсу передачу. Твое упорство поразительно, оно подавляет меня, я сдаюсь: в силу твоего чувства нельзя не поверить. Но еще больше поражает меня другое – за все тринадцать лет я ни разу не видела, чтобы ты томилась и скучала. Вернувшись с одного свидания, ты сразу же с удовольствием начинаешь ждать следующего. Словно готовясь к пикнику, ты прикидываешь, что бы такое повкуснее приготовить.
Рене. Так оно и есть… Мне очень не хотелось, чтобы муж видел, как я старею. Однако, встречаясь со мной по два-три раза в месяц, он не замечал, как годы берут свое.
Г-жа де Монтрёй. Но теперь-то уж всему конец. В прошлом месяце учредительное собрание отменило тюремное заключение по именному королевскому указу. Законность и порядок, в которые я свято верила столько лет, умерли. Скоро все злодеи, все умалишенные выйдут на свободу… Ты давно не была у Альфонса. Почему?
Рене. В том уже нет нужды. Теперь достаточно просто ждать – и он придет.
Г-жа де Монтрёй. Резонно. Да, ты сильно изменилась.
Рене. Устала. И постарела. Да и потом, как не измениться человеку, когда меняется весь мир?
Г-жа де Монтрёй. И все же мне кажется, с тех пор как ты перестала таскать в тюрьму эти твои корзины с вареньем и разносолами да увлеклась вышиванием, вид у тебя стал скучный.
Рене. Это, наверно, весна виновата. Я так ждала ее когда-то, парижскую весну. Теперь же она приходит, бурная, как наводнение, а я чувствую – она уже не моя, принадлежит кому-то другому. Все вокруг перевернулось вверх дном, да и годы мои ушли. Чем дуться на весну, лучше уж сидеть дома взаперти и вышивать – вдруг весна улыбнется мне хоть из вышитого узора.
Входит Анна.
Анна. Что это у вас – и Шарлотта не выходит? Неужто и она отправилась в Версаль с прочими трудящимися массами требовать хлеба?
Г-жа де Монтрёй. Анна, ты? Что-нибудь случилось?
Анна. Пришла проститься. А еще лучше будет, если вы, матушка, поедете со мной.
Г-жа де Монтрёй. Как – проститься? Куда ты? Что за новости?
Анна. Мы с мужем уезжаем в Венецию.
Рене (в первый раз за все время поднимает голову). В Венецию…
Анна. Нет-нет, сестрица. С тем путешествием, увы, ничего общего. Муж купил в Венеции палаццо, и мы срочно туда переезжаем.
Г-жа де Монтрёй. А как же ваш дворец, а должность при дворе?! Все бросить и уехать на чужбину?
Анна. Здесь оставаться опасно. Мой муж – человек дальновидный, он говорит, что пустые надежды аристократии на какие-то перемены к лучшему ему надоели. Да вы, матушка, знаете все и сами. Граф Мирабо предлагал его величеству эмигрировать, но граф Прованский был против. А муж тоже считает, что королю следовало бы уехать, пока не поздно.
Г-жа де Монтрёй. И все же его величество пока еще здесь.
Анна. Да, такого медлительного короля Франция еще не знала.
Г-жа де Монтрёй. Пока король здесь, мы тоже должны оставаться в Париже.
Анна. Скажите, какая роялистка! Матушка, поймите вы: теперь не до глупостей. Это вам только кажется, будто буря улеглась, что ждет нас завтра – сказать трудно. Мужу привиделся ночью кошмарный сон, а наутро он решил: все, пора. Ему приснилась площадь Конкорд, превратившаяся в озеро крови.
Г-жа де Монтрёй. Когда вокруг происходит такое, надо действовать очень осмотрительно – десять раз проверить брод, прежде чем соваться в воду. У меня, например, предчувствие, что все обойдется и меня ждет спокойная, тихая старость. Возможно, будь жив твой батюшка, и на нас обрушился бы гнев толпы – а так кому мы нужны? Наоборот, с тех пор как все перевернулось вверх дном, стало полегче – все забыли про историю с Альфонсом. Главное – не терять головы, не вставать ни на чью сторону, а жить себе да выжидать, чья возьмет.
Анна. Смотрите, матушка, кончите, как графиня де Сан-Фон.
Г-жа де Монтрёй (смеется). Скажешь тоже! Где уж мне удостоиться такой славной кончины.
Анна. Сегодня, кстати, ровно год. Как раз тогда в Марселе начались первые беспорядки.
Г-жа де Монтрёй. Неужели все те слухи – правда?
Анна. Чем невероятнее слухи про мадам де Сан-Фон, тем они достоверней. Графине о ту пору прискучил Париж, и она отправилась в Марсель. По ночам, нарядившись портовой шлюхой, она завлекала матросов, а утром возвращалась в свой роскошный особняк и пересчитывала заработанные медяки. Специальный ювелир оправлял каждую монету в драгоценные каменья. Графиня намеревалась обшить этими медяками платье сверху донизу, а затем поразить весь Париж.
Г-жа де Монтрёй. Однако она ведь была далеко не первой молодости – вряд ли она стала бы появляться в свет в открытом платье. А чтобы обшить монетами закрытое платье, надо было, верно, о-го-го как потрудиться.
Анна. И вот одной прекрасной ночью, когда графиня караулила на углу очередного клиента, началась заваруха. Нашу ряженую шлюху увлекло разбушевавшейся толпой, и она вместе со всеми стала распевать песни.
В левом углу сцены появляется Шарлотта, одетая во все черное. Она стоит и слушает.
Г-жа де Монтрёй. Знаю-знаю. «Всех аристократов на фонарь».
Анна. Графиня пела «Аристократов на фонарь» громче всех и маршировала в самом первом ряду. Потом на толпу напала полиция и началась паника, графиню сбили с ног и затоптали насмерть. Когда настало утро, бунтовщики подобрали труп, положили его на выломанную створку двери и с плачем и стенаниями понесли по улицам. Графиня превратилась в невинную жертву, в народную богиню. Какой-то рифмоплет – такие есть в каждом квартале – тут же сочинил песню «Прекрасная шлюха», и все стали петь ее хором. Ни один человек в толпе и не подозревал, кого они несут. В сиянии утреннего солнца мадам де Сан-Фон была похожа на ощипанную курицу. Ее набеленное лицо, покрытое пятнами крови и синяками, впоследствии превратилось в красно-бело-синее знамя революции. Когда же белила потекли под горячими лучами солнца, люди, пораженные, увидели, как на их глазах лицо молодой женщины превращается в морщинистую физиономию старухи. Впрочем, она так и осталась для них Прекрасной Шлюхой. Никого не смутили даже дряблые ляжки, просвечивавшие сквозь разодранное платье. Труп протащили по всем улицам, а потом процессия направилась к морю. Графиню опустили в волны Средиземного моря, синего от старости, черпающего силы в одной только смерти… Ну то, что именно с этих событий началась революция, вам известно.