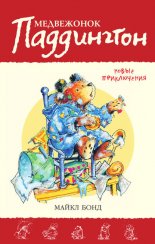Контрапункт Хаксли Олдос

– Конечно, – сказала Эинор. – Ты бы догадался, если бы обращал на меня сколько-нибудь внимания. Об этом-то я и говорю. Ты так мало любишь меня теперь, что даже не помнишь о том времени, когда ты любил. Неужели, по-твоему, я могу забыть эти вечера?
Она вспомнила сад, невидимые в темноте душистые цветы, огромную черную веллингтонию на лужайке, восходящую луну и двух каменных грифонов по обеим сторонам низкой террасы, где они сидели вдвоем. Она вспомнила его слова и его поцелуи, прикосновения его рук. Она вспомнила все, вспомнила с мелочной точностью тех, кто любит погружаться в прошлое и восстанавливать его, кто неустанно перебирает каждую драгоценную подробность прежнего счастья, возрожденного воспоминанием.
– Это просто изгладилось из твоей памяти, – добавила она с печальным укором: для нее те вечера обладали большей реальностью, чем почти вся ее жизнь теперь.
– Да нет же, я помню, – нетерпеливо сказал Филип, – только я не умею так сразу переключать свое сознание. Когда ты заговорила со мной, я думал о чем-то другом – только и всего.
– Хотела бы я, чтобы у меня тоже было о чем думать кроме этого, – вздохнула Элинор. – Вся беда в том, что мне не о чем больше думать. Зачем я так люблю тебя? Зачем? Это несправедливо. Ты защищен своим интеллектом и талантом. Ты можешь уйти в работу, в мир идей. Но у меня нет ничего; мне нечем защититься от моих переживаний; у меня нет ничего, кроме тебя. А ведь защита нужна именно мне. Потому что я люблю тебя. Тебе не от чего защищаться. Тебе все равно. Нет, это несправедливо, это несправедливо.
В конце концов, размышляла она, это и всегда было так. Он никогда не любил ее по-настоящему, даже в самом начале. Он никогда не любил ее глубоко, всем своим существом, до самозабвения. Потому что даже в самом начале их любви он уклонялся от слишком близкого соприкосновения, он не хотел отдать ей всего себя. А она отдавала ему все, решительно все. И он брал, ничего не давая взамен. Он никогда не отдавал ей свою душу, самую интимную часть своего «я». Всегда, даже в самом начале, даже когда он очень любил ее. Она была счастлива тогда, но только потому, что она еще не знала, что такое счастье, она еще не понимала, что любовь может быть иной, более глубокой. Сейчас она испытывала извращенное наслаждение, унижая свое прежнее счастье, обесценивая свои воспоминания. Луна, темный душистый сад, огромное черное дерево, бархатная тень на лужайке… Она отрицала их, она отрекалась от счастья, символами которого они сохранились в ее памяти.
Филип Куорлз молчал. Ему нечего было сказать. Он обнял ее и привлек к себе; он целовал ее лоб, ее дрожащие ресницы – они были влажными от слез.
Грязные предместья Бомбея проносились мимо. Фабрики и лачуги и огромные жилые дома, в лунном свете призрачные и белые, как скелеты. Коричневые тонконогие пешеходы возникали на мгновение в свете фар, точно истины, постигнутые интуитивно, мгновенно и с безусловной очевидностью, и сейчас же скрывались снова в пустоте кромешной тьмы. Здесь и там придорожные огни выхватывали из мрака темные тела и лица. Обитатели мира, внутренне такого же далекого от них, как самая далекая из звезд, смотрели на них, когда автомобиль проносился мимо скрипучих телег, запряженных буйволами.
– Дорогая, – повторял он. – Дорогая…
Элинор позволила себя утешить.
– Ты любишь меня хоть немножко?
– Больше всех на свете.
Она даже засмеялась. Правда, в ее смехе слышалось рыдание, но все-таки это был смех.
– Как ты стараешься быть нежным со мной! – А все-таки, думала она, те дни в Гаттендене были действительно блаженными. Они принадлежали ей, она пережила их; от них нельзя отречься. – Ты так стараешься. Это так мило с твоей стороны.
– Перестань говорить глупости, – сказал он. – Ты отлично знаешь, что я люблю тебя.
– Любишь? – Она улыбнулась и погладила его по щеке. – Да, когда у тебя есть время, да и то по беспроволочному телеграфу через Атлантический океан.
– Нет, это неправда. – Но в глубине души он знал, что это правда. Всю жизнь он шел один, в пустоте своего собственного мира, куда он не допускал никого: ни свою мать, ни друзей, ни своих возлюбленных. Даже когда он держал ее в объятиях, он сообщался с ней по беспроволочному телеграфу через Атлантический океан.
– Это неправда, – с нежной насмешкой повторила она. – Бедненький Фил! Но ведь ты и ребенка не сумеешь обмануть. Ты не умеешь лгать убедительно. Ты слишком честен. За это-то я и люблю тебя. Если бы ты знал, до чего ты прозрачен.
Филип молчал. От разговоров о личных отношениях ему всегда становилось неловко. Они угрожали нарушить его одиночество – то одиночество, которое одна часть его сознания осуждала (потому что он чувствовал себя отрезанным от многого, что он хотел бы испытать); и все-таки только в этом одиночестве мог жить его дух, только там он чувствовал себя свободно… Обычно он воспринимал это внутреннее одиночество как нечто само собой разумеющееся, такое же естественное, как воздух, которым мы дышим. Но когда оно было под угрозой, он болезненно ощущал, как оно ему необходимо; он боролся за него, как задыхающийся борется за глоток воздуха. Но это была пассивная борьба, сводившаяся к отступлению и обороне. Теперь он окопался в молчании, в том спокойном, уединенном, холодном молчании, которое Элинор, он был уверен, не станет нарушать, зная всю безнадежность подобных попыток. Он оказался прав: Элинор взглянула на него и, отвернувшись, принялась созерцать озаренный луной пейзаж. Их параллельные молчания текли во времени, не встречаясь.
Они мчались сквозь индийскую тьму. В воздухе, казавшемся прохладным от быстрого движения, запах тропических цветов сменялся запахом сточных вод, пищи и горящего коровьего навоза.
– И все-таки, – вдруг сказала Элинор, не в силах больше сдерживать своей обиды, – ты не можешь обойтись без меня. Что станется с тобой, если я уйду от тебя к человеку, который сумеет дать что-нибудь взамен того, что даю я? Что станется с тобой?
Вопрос канул в молчание. Филип не ответил. Но что действительно станется с ним? Он и сам не знал. В повседневной жизни он был чужеземцем, испытывающим неловкость от общения с подобными себе, не умеющим или неспособным общаться с теми, кто не говорит на родном ему интеллектуальном языке идей. Эмоционально он был чужеземцем. Элинор служила ему переводчиком, драгоманом. Подобно своему отцу, Элинор Бидлэйк родилась с даром интуитивно понимать людей и чувствовать себя с ними свободно: она быстро находила общий язык с любым человеком. Не хуже, чем ее отец, она инстинктивно понимала, как нужно разговаривать с людьми всех категорий, кроме разве той, к какой принадлежал ее муж. Трудно найти нужные слова, разговаривая с человеком, который сам ничего не говорит, который отвечает на личное безличным, на слова, полные чувства и предназначенные только для него, – интеллектуальными обобщениями. И все-таки, любя его, она не оставляла попыток войти с ним в более близкое соприкосновение; и, хотя здесь было от чего прийти в отчаяние – это было все равно что петь перед глухонемым или играть при пустом зрительном зале, – она упорно старалась передать ему свои интимные мысли и переживания. Бывали минуты, когда он, делая над собой огромное усилие, пытался ввести ее в свой внутренний мир. Может быть, привычка к скрытности лишила его способности выражать свои переживания или, может быть, самая способность переживать атрофировалась от постоянного молчания и подавления; как бы то ни было, эти редкие минуты близости доставляли Элинор только разочарование. Святая святых, куда он с таким трудом ввел ее, оказалась почти такой же голой и пустой, как та, которая представилась изумленному взору римских солдат, осквернивших Иерусалимский храм. И все-таки она была благодарна Филипу за его добрые намерения, за то, что он по крайней мере хотел посвятить ее в свою эмоциональную жизнь, хотя эта эмоциональная жизнь сводилась к очень немногому. Своего рода пирроновское безразличие ко всему, свойственное Филипу от природы и усугубленное привычкой, умерялось прирожденной мягкостью и добротой и сменялось изредка неистовыми вспышками физической страсти. Разум Элинор говорил ей, что это так; но на практике ее чувства восставали против того, с чем она была в теории согласна. Все, что было в ней живого, восприимчивого, иррационального, страдало от его безразличия, словно он был холоден только с ней одной. И тем не менее, вопреки всем своим чувствам, Элинор всегда знала, что его безразличие не относится лично к ней, что он таков же со всеми, что он любит ее настолько, насколько он умеет любить, что его любовь к ней не уменьшается, потому что она никогда не была более сильной; раньше она была, пожалуй, более страстной, но даже тогда она не была более эмоциональной, более самозабвенной, чем теперь. Но все-таки ее чувства не мирились с этим; он не должен быть таким! Не должен, да! Но таким он был. После взрыва возмущения Элинор смирялась и старалась любить его настолько разумно, насколько она могла, удовлетворяясь его нежностью, его страстью, существовавшей в нем как-то отдельно от него самого, его редкими попытками эмоционально сблизиться с ней и, наконец, его умом, умом, способным быстро и глубоко охватить все, даже те эмоции, которых он не мог испытывать, и те инстинкты, которым не хотел поддаваться.
Однажды, когда он рассказывал ей о книге Келлера про обезьян, она сказала:
– Знаешь, Фил, ты вроде обезьяны, только навыворот. Почти человек, как бедняжки шимпанзе. Вся разница в том, что они пытаются мыслить при помощи своих чувств и инстинктов, а ты пытаешься чувствовать при помощи своего интеллекта. Почти человек. На самой грани, бедный мой Фил!
Он так изумительно понимал все; поэтому было очень весело служить для него переводчиком и объяснять ему других людей. (Гораздо менее весело было объяснять себя.) Он схватывал все, что мог уловить разумом.
Она осведомляла его о своем общении с туземцами мира эмоций, и он сразу понимал все, он обобщал ее опыт, он связывал его с опытом других людей, классифицировал, находил аналогии и параллели. Единичное и неповторимое становилось в его руках частью системы. Она с удивлением обнаруживала, что она сама и ее друзья, помимо своей воли, подтверждали какую-нибудь теорию или служили примером при каком-нибудь интересном обобщении. Ее функции драгомана не ограничивались разведкой и осведомлением. Зачастую ей приходилось служить посредником между Филипом и каким-нибудь третьим лицом, с которым он хотел войти в соприкосновение: она создавала атмосферу, без которой невозможно личное общение, не давала разговорам стать чрезмерно интеллектуальными и сухими. Предоставленный самому себе, Филип не был бы в состоянии установить или поддерживать личное общение. Но когда рядом с ним была Элинор, которая создавала и поддерживала это общение, он способен был понимать и сочувствовать разумом; Элинор уверяла его, что в этом понимании и сочувствии нет ничего человеческого. Переходя к абстракциям, он снова становился сверхчеловеком.
Да, служить драгоманом при таком исключительно сообразительном путешественнике по стране чувств было истинным развлечением. Но это было больше чем развлечение: в глазах Элинор это было, кроме того, долгом. Нужно было думать о его работе.
– Ах, если б ты был немножко меньше сверхчеловеком, Фил, – говаривала она ему, – какие прекрасные романы ты писал бы!
И он соглашался с ней, немного огорченный. Он был достаточно умен, чтобы понимать, чего ему недостает. Элинор старалась насколько могла возместить это; осведомляла его о нравах туземцев, служила посредником, когда он хотел войти с кем-нибудь из них в личное соприкосновение. Не только ради себя, но и ради него самого как писателя она хотела, чтобы он перестал быть таким безличным, чтобы он научился жить не только своим интеллектом, но и чувствами, инстинктами и интуицией. Она героически поощряла даже его пассивное влечение к другим женщинам: две-три любовные связи принесли бы ему пользу. Она так заботилась о том, чтобы принести ему пользу как писателю, что не раз, видя, как он восхищенно смотрит на какую-нибудь молодую женщину, она принималась устанавливать для него личное общение с ней, установить которое он сам не умел. Это было, конечно, рискованно: он мог полюбить по-настоящему; он мог забыть о своем интеллекте и стать другим человеком, и все это досталось бы какой-нибудь другой женщине. Элинор шла на риск отчасти потому, что она считала, что его творчество важней, чем все остальное, важней, чем даже ее собственное счастье, отчасти же потому, что она втайне была уверена, что на самом деле никакого риска нет и что он никогда не потеряет голову и не уйдет к другой женщине. Метод лечения при помощи любовных связей действовал бы медленно, если он вообще оказался бы действенным, и она верила, что, если он окажет действие, она сумеет использовать его в своих интересах. Однако пока что он не действовал. Филип изменял ей очень редко, и его измены не оказывали на него сколько-нибудь заметного влияния. Он оставался до ужаса, до безумия все тем же – сообразительным настолько, что казался почти человеком, холодно-добрым, разъединенно страстным и чувственным, безлично-нежным. Почему она до сих пор любит его? – спрашивала она себя. С таким же успехом можно любить книжный шкаф. Когда-нибудь она все-таки уйдет от него. Нельзя быть такой альтруистичной и преданной. Надо подумать и о собственном счастье. Быть любимой, а не только любить; получать, а не только отдавать… Да, когда-нибудь она все-таки уйдет от него. Нужно подумать и о самой себе. Кроме того, ему это послужит наказанием. Да, наказанием, потому что она была убеждена, что, если она уйдет от него, он будет искренне несчастен, по-своему – насколько он вообще может быть несчастен. И может быть, это страдание совершит то чудо, к которому она стремилась все эти годы; может быть, оно сделает его более восприимчивым, более человечным. Может быть, оно сделает его настоящим писателем, может быть, это даже ее долг – сделать его несчастным, самый священный ее долг…
Собака, перебегавшая через дорогу впереди машины, вывела ее из задумчивости. Как неожиданно ворвалась она в узкую вселенную автомобильных фар! Бегущая во весь опор, она существовала какую-то долю секунды и снова скрылась во тьме по другую сторону освещенного мира. Другая собака внезапно появилась на ее месте, преследуя первую.
– О! – воскликнула Элинор. – Ее… – Огни автомобиля метнулись в сторону и снова вперед; машину мягко встряхнуло, словно одно из ее колес переехало камень, но камень взвизгнул. – …задавит, – закончила она.
– Ее уже задавило.
Шофер-индус обернулся, улыбаясь во весь рот. Видно было, как сверкнули его зубы.
– Собака! – сказал он. Он гордился своим умением говорить по-английски.
– Бедный пес! – Элинор передернуло.
– Сам виноват, – сказал Филип, – зачем не смотрел. Вот чем кончается погоня за самкой!
Наступило молчание. Его прервал Филип.
– Нравственность приняла бы очень странные формы, – вслух размышлял он, – если бы мы любили в определенный сезон, а не круглый год. Понятие о нравственном и безнравственном менялось бы по месяцам. Первобытное общество гораздо более склонно к сезонной любви, чем цивилизованное. Даже в Сицилии в январе рождается вдвое больше детей, чем в августе. Это лишний раз доказывает, что весной юноша… Но нигде это не бывает только весной. У людей не бывает ничего похожего на течку у сук или кобыл. Если не считать некоторых явлений в моральной сфере. Дурная репутация женщины привлекает мужчин. Дурная слава свидетельствует о доступности. В животном мире отсутствие течки соответствует тому, что в женщине мы называем целомудрием…
Элинор слушала с интересом и в то же время с некоторым ужасом. Достаточно было несчастному животному попасть под автомобиль, и вот уже заработал этот гибкий, неутомимый интеллект. Несчастный, изголодавшийся пес-пария был раздавлен колесами автомобиля. Это происшествие заставило Филипа привести статистические данные о рождаемости в Сицилии, высказать ряд мыслей об относительности морали, дать блестящее психологическое обобщение. Это было удивительно, это было неожиданно, это было увлекательно; но, Боже: она готова была разрыдаться.
VII
Отделавшись от миссис Беттертон и раскланявшись издали с отцом и леди Эдвард, Уолтер снова отправился на поиски. Наконец он нашел то, что искал. Люси Тэнтемаунт только что вышла из столовой и стояла под аркой, нерешительно смотря по сторонам. Кожа ее казалась особенно белой в траурном платье. Букетик гардений был приколот к корсажу. Она подняла руку и прикоснулась к гладким черным волосам; изумруд в ее кольце подал Уолтеру зеленый сигнал с другого конца зала. Критически, с какой-то холодной интеллектуальной ненавистью Уолтер осмотрел ее и спросил себя, за что, собственно, он ее любит? За что? Не было ни объяснений, ни оправдания. Все говорило за то, что он не должен ее любить.
Вдруг она двинулась, она вышла из поля его зрения. Уолтер пошел вслед за ней. Проходя мимо двери в столовую, он заметил Барлепа, который оставил свою роль отшельника и пил шампанское, слушая графиню д’Экзержилло. «Ого-го! – подумал Уолтер, вспоминая свой собственный опыт с Молли д’Экзержилло. – Но Барлеп, вероятно, обожает ее. Ему это как раз подходит… Он… Но вот и Люси; разговаривает – проклятие! – с генералом Нойлем». Уолтер остановился неподалеку, нетерпеливо дожидаясь возможности заговорить с ней.
– Наконец-то я вас поймал, – говорил генерал, поглаживая ее руку. – Искал вас весь вечер.
Наполовину – сатир, наполовину – добрый дядюшка, он питал к Люси стариковскую слабость.
«Очаровательная малютка! – уверял он всех, кто соглашался его выслушивать. – Очаровательная фигурка! А какие глаза!» Он предпочитал молоденьких. «Что может быть лучше молодости!» – любил он говорить. Его долголетняя неприязнь к Америке и американцам превратилась в восторженное преклонение после того, как он в возрасте шестидесяти пяти лет посетил Калифорнию и насмотрелся на голливудских звездочек и прекрасных купальщиц с берегов Тихого океана. Люси было почти тридцать, но генерал знал ее давно; он продолжал относиться к ней, как к юной девушке своих первых воспоминаний. Ему она все еще казалась семнадцатилетней. Он снова погладил ее руку.
– Ну, теперь мы с вами поболтаем, – сказал он.
– Это будет очень весело, – сказала Люси с саркастической любезностью.
Уолтер смотрел на них со своего наблюдательного пункта. Генерал когда-то был красив. Его высокая фигура, затянутая в корсет, все еще сохраняла военную выправку. Как истый гвардеец, он, улыбаясь, покручивал седой ус. Через минуту он опять был старым дядюшкой, настроенным игриво, покровительственно и доверчиво. Слегка улыбаясь, Люси с безжалостным и насмешливым любопытством рассматривала его своими светло-серыми глазами. Уолтер вглядывался в ее лицо. Она даже не особенно красива. Так за что же? Он искал причин, искал оправданий. За что? Он упорно задавал себе этот вопрос. Ответа не было. Просто он влюбился в нее – вот и все; как сумасшедший, с первого же взгляда.
Повернув голову, Люси заметила его. Она кивнула ему и подозвала к себе. Он сделал вид, что приятно удивлен.
– Надеюсь, вы не забыли нашего уговора, – сказал он.
– Разве я когда-нибудь забываю? Кроме тех случаев, когда я делаю это нарочно, – добавила она со смехом. Затем, обращаясь к генералу: – Мы с Уолтером увидим сегодня вашего пасынка, – объявила она таким тоном и с такой улыбкой, словно говорила о ком-то, кто был особенно дорог ее собеседнику. Но она прекрасно знала, что между Спэндреллом и его отчимом смертельная вражда. Люси унаследовала от матери страсть к сознательным «промахам», которая у нее принимала оттенок научной любознательности, унаследованной от отца. Ей нравилось экспериментировать, но не на лягушках и морских свинках, а на человеческих существах. Сказать человеку что-нибудь неожиданное, поставить его в дурацкое положение и смотреть, что из этого получится. Это был метод Дарвина и Пастера.
В данном случае получилось то, что лицо генерала Нойля побагровело.
– Я давно не виделся с ним, – холодно сказал он.
«Прекрасно, – сказала она себе, – он реагирует».
– Но он такой милый, – сказала она вслух.
Генерал покраснел еще больше и нахмурился. Чего он только не делал для этого мальчишки! И какой неблагодарностью платил ему мальчишка, как безобразно он себя вел! Его выгоняли со всех мест, на которые его устраивал генерал. Лодырь, шалопай, пьяница и развратник; причиняет своей матери страдания, сидит у нее на шее, позорит свое имя. А его наглость! Какие слова он посмел ему сказать, когда они виделись в последний раз и когда между ними, по обыкновению, произошла сцена! Генерал никогда не забудет, что его назвали «старым слюнявым импотентом».
– И он такой способный, – говорила Люси. С внутренней улыбкой она вспомнила резюме карьеры его отчима, составленное Спэндреллом. «Исключенный за неуспеваемость из Харроу, – гласило оно, – окончивший Сандхерст последним по списку, он сделал блестящую карьеру в армии, достигнув во время войны высокого поста в контрразведке». Он изумительно читал некролог генерала. Прямо-таки слышались неподражаемые интонации «Таймс».
– Такой способный, – повторила Люси.
– Да, некоторые считают его способным, – очень холодно сказал генерал Нойль, – но лично я… – Он с силой прочистил горло. Это было его личное мнение.
Через минуту он откланялся, все так же сурово, все с тем же сердитым достоинством. Он чувствовал себя оскорбленным. Даже молодость Люси и ее обнаженные плечи были недостаточной компенсацией за эти похвальные отзывы о Морисе Спэндрелле. Нахальный выродок! Его существование было для генерала бельмом в глазу; и он вымещал обиду на своей жене. Женщина не имеет права иметь подобного сына, никакого права! Бедной миссис Нойль нередко приходилось искупать перед вторым мужем оскорбления, нанесенные ему ее сыном. Она была всегда под рукой, ее можно было помучить, она была слишком слаба, чтобы сопротивляться. Выведенный из терпения генерал считал, что грехи сына должны пасть на голову его родительницы.
Люси посмотрела вслед его удаляющейся фигуре и, обращаясь к Уолтеру, сказала:
– Что делать, чтобы не попадаться генералу? Такие разговоры и сами по себе достаточно ужасны, а от него еще такой запах! Ну как, едем?
Уолтер только этого и дожидался.
– А как же ваша мать и гости? – спросил он.
Она пожала плечами.
– Пускай мама сама возится со своим зверинцем.
– Да, это действительно зверинец, – сказал Уолтер, неожиданно преисполняясь надеждами. – Давайте ускользнем куда-нибудь в тихое местечко.
– Бедный Уолтер! – В ее глазах была насмешка. – Никогда не встречала людей с такой страстью к тишине. Но я не хочу никаких тихих местечек.
Его надежды испарились, оставив легкую горечь и бессильное раздражение.
– Тогда почему бы нам не остаться здесь? – спросил он, пытаясь быть саркастическим. – Разве здесь недостаточно шумно?
– Да, но здесь не тот шум, который я люблю, – объяснила она. – Ненавижу шум, производимый культурными, почтенными, уважаемыми людьми, вот как вся эта публика. – Она жестом указала на гостей. Ее слова заставили Уолтера вспомнить отвратительные вечера, которые он проводил с Люси в компании людей некультурных и не заслуживающих уважения, да к тому же пьяных. Гости леди Эдвард были достаточно неприятны. Но те были, безусловно, еще неприятней. Как она может их выносить?
Люси, казалось, угадала его мысли. Она с улыбкой положила ему руку на плечо.
– Не страдайте! – сказала она. – На этот раз я не поведу вас в дурную компанию. Будет Спэндрелл…
– Спэндрелл, – повторил он с гримасой.
– А если Спэндрелл для вас недостаточно шикарен, там, наверно, будет еще Марк Рэмпион с женой, если только мы приедем не слишком поздно.
При имени художника и писателя Уолтер одобрительно кивнул.
– Да, я охотно послушаю шум, который производит Рэмпион. – Затем, делая усилие, чтобы преодолеть робость, которая всегда заставляла его молчать, когда наступал момент выразить свои чувства словами: – Но я предпочел бы, – добавил он шутливым тоном, чтобы его слова звучали не так смело, – я предпочел бы где-нибудь наедине послушать шум, который производите вы.
Люси улыбнулась, но ничего не ответила. Он с каким-то ужасом уклонился от ее взгляда. Ее глаза смотрели на него бесстрастно и холодно, точно они знали все заранее и не интересовались больше ничем, а только слегка забавлялись, очень слегка, очень равнодушно забавлялись.
– Ну что ж, – сказал он, – идемте. – Тон у него был покорный и несчастный.
– Нам придется улизнуть, – сказала она, – сбежать украдкой. А то нас поймают и заставят вернуться.
Но им не удалось скрыться незамеченными. Подходя к двери, они услышали позади себя шелест платья и звук поспешных шагов. Голос назвал Люси по имени. Они обернулись и увидели миссис Нойль, жену генерала. Она положила руку на плечо Люси.
– Мне только что сказали, что сегодня вечером вы увидите Мориса, – сказала она, не объясняя, что генерал сообщил ей об этом только для того, чтобы отвести душу и сказать что-нибудь неприятное человеку, который безропотно стерпит его грубость. – Передайте ему два слова от меня. Хорошо? – Она умоляюще наклонилась всем телом вперед. – Вы это сделаете? – Было что-то трогательно-юное и беспомощное в ее манере, что-то очень юное и нежное, несмотря на ее пожилое лицо. К Люси, которая годилась ей в дочери, она обращалась как к кому-то старшему и более сильному. – Пожалуйста!
– Ну конечно, – сказала Люси.
Миссис Нойль благодарно улыбнулась.
– Скажите ему, – сказала она, – что я приду к нему завтра в конце дня.
– Завтра в конце дня.
– Между четырьмя и половиной пятого. И не говорите об этом никому больше, – добавила она после минутного колебания.
– Ну конечно, я никому не скажу.
– Я так благодарна вам, – сказала миссис Нойль и с неожиданным и робким порывом поцеловала Люси. – Спокойной ночи, дорогая. – Она скрылась в толпе.
– Можно подумать, – сказала Люси, когда они проходили по вестибюлю, – что она назначала свидание любовнику, а не сыну.
Два швейцара, два услужливых автомата, распахнули перед ними дверь. Закрывая дверь, они многозначительно перемигнулись. На мгновение машины превратились в живых людей.
Уолтер дал шоферу такси адрес ресторана Сбизы и влез в замкнутую темноту автомобиля. Люси уже уселась в углу.
Тем временем в столовой Молли д’Экзержилло все еще разговаривала. Она гордилась своим искусством вести разговор. Эта способность была у нее наследственной. Ее мать была одной из знаменитых мисс Джогеган из Дублина. Ее отец был тот самый господин судья Брабант, который славился своей застольной беседой и своими остротами в суде. Сверх того, замуж она вышла тоже за блестящего собеседника: д’Экзержилло был учеником Робера де Монтескью, и Марсель Пруст почтил его упоминанием в «Содоме и Гоморре». Если бы Молли и не владела искусством разговора от рождения, она усвоила бы его от мужа. Природа и среда объединенными усилиями сделали из нее профессионала-атлета красноречия. Подобно всем добросовестным профессионалам, она не полагалась только на свои таланты. Она была трудолюбива, она упорно работала над развитием своих природных данных. Злоязычные друзья утверждали, что она зубрит свои парадоксы по утрам, лежа в постели. Она и сама не скрывала, что ведет дневник, в который, наряду со сложной историей своих переживаний и ощущений, она заносит каждый понравившийся ей анекдот, каламбур и образный оборот. Может быть, она освежала их в памяти, заглядывая в эту летопись каждый раз, когда одевалась, чтобы ехать в гости? Те же самые друзья, которые слышали, как она практикуется по утрам, видели ее трудолюбиво заучивающей, подобно ученику накануне экзамена, эпиграммы Жана Кокто об искусстве, послеобеденные рассказы м-ра Биррелла, анекдоты У. Б. Йейтса о Джордже Муре и слова, сказанные ей Чарли Чаплином во время ее последней поездки в Голливуд. Как все специалисты-говоруны, Молли весьма экономно расходовала свою мудрость и остроумие: количество bon mots14 не настолько велико, чтобы постоянно практикующий мастер разговора мог при каждом публичном выступлении пользоваться запасом свежих острот. Как у всех знаменитых говорунов, репертуар Молли при всем его разнообразии не был неограниченным. Как хорошая хозяйка, она умела состряпать из остатков вчерашнего обеда рагу для сегодняшнего завтрака. Кушанья, приготовленные для поминок, использовались на другой день для свадебного обеда.
Денису Барлепу она сервировала разговор, который пользовался огромным успехом на званом завтраке у леди Бенджер, а также среди гостей, приехавших на уик-энд к Гобли, у Томми Фиттона, одного из ее молодых людей, и у Владимира Павлова – другого молодого человека, у американского посла и у барона Бенито Когена. Разговор вращался вокруг любимой темы Молли.
– Знаете, что сказал про меня Жан? – говорила она (Жан – это был ее муж). – Знаете? – настойчиво повторяла она, по своей странной привычке требуя ответа на чисто риторический вопрос. Она нагнулась к Барлепу, демонстрируя ему темные глаза, зубы и декольте…
Барлеп покорно ответил, что он этого не знает.
– Он сказал, что я не совсем человек. Что я – стихийный дух, а не женщина. Нечто вроде эльфа. Как по-вашему, это комплимент или оскорбление?
– Как на чей вкус, – сказал Барлеп, придавая своему лицу тонкое и лукавое выражение, словно он хотел сказать что-то смелое, остроумное и в то же время глубокое.
– Но я не согласна с ним, – продолжала Молли. – Я вовсе не похожа на стихийного духа или на эльфа. По-моему, я простое, безыскусственное дитя природы. Своего рода крестьянка. – На этом месте все слушатели Молли обычно разражались смехом и протестами. Барон Бенито Коген энергично заявил, что она «одна из римских императриц природы».
Барлеп неожиданно отнесся к ее словам совершенно иначе. Он замотал головой, он улыбнулся мечтательной и странной улыбкой.
– Да, – сказал он, – по-моему, вы правы. Дитя природы malgrе tout15. Вы носите маску, но за ней легко увидеть простое, непосредственное существо.
Молли была в восторге; она чувствовала, что со стороны Барлепа это высшая похвала. В таком же восторге она была тогда, когда другие не признавали ее крестьянкой. С их стороны высшей похвалой было именно это отрицание. Значение имела самая похвала, интерес к ее личности. Само по себе мнение ее поклонников интересовало ее очень мало.
Тем временем Барлеп принялся развивать выдвинутую Руссо антитезу Человека и Гражданина. Она прервала его и вернула разговор к исходной теме.
– Человеческие существа и эльфы – прекрасная классификация, не правда ли? – Она нагнулась, приближая к нему лицо и грудь. – Не правда ли? – повторила она риторический вопрос.
– Пожалуй. – Барлеп не любил, когда его прерывали.
– Обычные люди – да; пусть будет так – все слишком человеческие существа с одной стороны. И стихийные духи – с другой. Одни – способные привязываться к людям и переживать и быть сентиментальными. Должна сказать, я ужасно сентиментальна. – («Вы почти так же сентиментальны, как сирены в “Одиссее”», – последовал заимствованный из классической древности комментарий барона Бенито.) – Другие, стихийные духи – свободные, стоящие в стороне от всего; они приходят и уходят – уходят с таким же легким сердцем, как приходят; пленительные, но никогда не пленяемые; доставляющие другим людям переживания, но сами ничего не переживающие. Как я завидую их воздушной легкости!
– С таким же успехом вы можете завидовать воздушному шару, – серьезно сказал Барлеп. Он всегда стоял за сердце.
– Но им так весело!
– Я бы сказал, что они не способны чувствовать себя весело: для этого нужно уметь чувствовать, а они не умеют.
– Они умеют чувствовать ровно настолько, чтобы им было весело, – возразила она, – но, пожалуй, не настолько, чтобы быть счастливыми. И во всяком случае, не настолько, чтобы быть несчастными. Вот в этом им можно позавидовать. Особенно если они умны. Возьмите, например, Филипа Куорлза. Вот кто действительно эльф. – Она повторила свое обычное описание Филипа. В числе его эпитетов были «зоолог-романист», «начитанный эльф», «ученый Пэк». Но самые удачные выскользнули из ее памяти. В отчаянии она пыталась их поймать, но они не давались в руки. На этот раз мир увидит ее теофрастовский портрет лишенным само блестящей черточки и в целом немного скомканным из-за того, что Молли сознавала пробел и это мешало ей придать портрету законченность. – Тогда как его жена, – заключила она, болезненно сознавая, что Барлеп улыбается менее часто, чем следовало бы, – ничуть не похожа на эльфа. Она не эльф, она не начитанна и не особенно умна. – Молли снисходительно улыбнулась. – Такой человек, как Филип, должен понимать, что она ему, мягко выражаясь, не пара. – Улыбка не сходила с ее губ, выражая на этот раз самодовольство. Филип до сих пор питал к Молли слабость. Он писал ей такие забавные письма, почти такие же забавные, как ее собственные. (Молли любила цитировать фразу своего мужа: «Quand je veux briller dans le monde, – сказал он, – je cite des phrases de tes lettres»16.) – Бедняжка Элинор! Она скучновата, – продолжала Молли, – что не мешает ей быть премилой женщиной. Мы с ней были знакомы еще девчонками. Очень мила, но далеко не Гипатия.
Элинор просто дурочка, раз она не понимает, что Филипа неизбежно должна привлекать женщина, равная ему по уму, женщина, с которой можно говорить как с равной. Просто дурочка, раз она не заметила волнения Филипа в тот вечер, когда Элинор познакомила его с Молли. Просто дурочка, раз она не ревновала. Молли воспринимала отсутствие ревности как личное оскорбление. Правда, она не давала никаких реальных поводов к ревности. Она не спала с чужими мужьями; она только разговаривала с ними. Не подлежало сомнению, однако, что она часто разговаривала с Филипом. А жены обязаны ревновать. Наивная доверчивость Элинор подзадорила Молли, заставила ее быть более благосклонной к Филипу, чем обычно. Но он отправился бродить по свету раньше, чем между ними произошло что-нибудь серьезное по части разговоров. Она предвкушала возобновление разговоров после его приезда. «Бедняжка Элинор!» – сострадательно подумала она. Ее чувства были бы, вероятно, менее христианскими, если бы она знала, что «бедняжка» Элинор заметила восторженные взгляды Филипа раньше, чем заметила их сама Молли, и что, заметив их, она добросовестно принялась за свою роль драгомана и посредника. Правда, она не слишком надеялась и не слишком боялась, что Молли совершит чудо превращения: громкоговоритель, будь он даже очень хорошеньким, очень пухленьким (вкусы Филипа были несколько старомодны) и очень соблазнительным, не способен вызвать к себе безумную любовь. Единственной ее надеждой было, что страсть, вызванная прелестями Молли, не найдет полного удовлетворения в разговорах (а по слухам, разговоры были единственным, чем Молли дарила своих поклонников) и Филип придет в то состояние бешенства и отчаяния, которое способствует писанию хороших романов.
– …Разумеется, – продолжала Молли, – умному мужчине не следует жениться на умной женщине. Поэтому Жан всегда грозит мне разводом. Он говорит, что я слишком возбуждаю его. «Тu nе m’ennuies pas assez»17, – говорит он; а ему необходима une femme sеdative18. Пожалуй, он прав: Филип Куорлз поступил разумно. Представьте себе умного эльфа, вроде Филипа, женатого на такой же умной женщине из породы эльфов, например на Люси Тэнтемаунт. Это было бы сущее несчастье, не правда ли?
– Пожалуй, Люси была бы сущим несчастьем для всякого мужчины – эльфа, не эльфа, все едино.
– Нет, надо признаться, что Люси нравится мне. – Молли порылась в своем запасе теофрастовских эпитетов. – Мне нравится, как она скользит сквозь жизнь, вместо того чтобы тащиться по ней. Мне нравится, как она порхает с цветка на цветок, хотя, пожалуй, эта метафора слишком поэтична в приложении к Бентли, и Джиму Конклину, и бедному Рэджи Тэнтемаунту, и Морису Спэндреллу, и Тому Тривету, и Понятовскому, и тому молодому французу, который пишет пьесы, – как его фамилия? – и ко всем тем, кого мы забыли или о ком не знаем. – Барлеп улыбнулся: на этом месте все улыбались. – Как бы то ни было, она порхает. Надо сказать: нанося цветам немалый урон. – Барлеп снова улыбнулся. – Но ей от всего этого только весело. Должна признаться, что я ей завидую. Я хотела бы быть эльфом и порхать.
– У нее гораздо больше оснований завидовать вам, – сказал Барлеп, мотая головой с прежним глубокомысленным, тонким и христианским выражением лица.
– Завидовать мне в том, что я несчастна?
– Кто несчастен? – заговорила в эту минуту леди Эдвард. – Добрый вечер, мистер Барлеп, – сказала она, не дожидаясь ответа.
Барлеп принялся уверять ее, что ему очень понравилась музыка.
– А мы только что говорили о Люси, – прервала его Молли д’Экзержилло. – Мы согласились на том, что она похожа на эльфа: такая легкая и всему чуждая.
– На эльфа? – переспросила леди Эдвард. – Что вы! Она скорее домовой. Вы представить себе не можете, мистер Барлеп, как трудно воспитывать домового. – Леди Эдвард покачала головой. – Иногда она просто пугала меня.
– Неужели? – сказала Молли. – Но вы и сами, пожалуй, немножко эльф, леди Эдвард.
– Немножко, – согласилась леди Эдвард. – Но я все-таки не домовой.
– Ну? – сказала Люси, когда Уолтер уселся рядом с ней в такси. Она точно бросала ему вызов. – Ну?
Машина тронулась. Он схватил ее руку и поднес к губам. Это был ответ на ее вызов.
– Я люблю вас. Вот и все.
– Любите, Уолтер? – Она повернулась к нему и, взяв его обеими руками за голову, внимательно рассматривала в полутьме его лицо. – Любите? – повторила она и с этими словами медленно покачала головой и улыбнулась. Потом, подавшись вперед, она поцеловала его в губы. Уолтер обнял ее; но она высвободилась из его объятий. – Нет, нет, – запротестовала она и отстранилась от него. – Нет.
Повинуясь ей, он отодвинулся тоже. Наступило молчание. От нее пахло гардениями. Сладкий тропический запах, душистый символ ее существа, окутал его. «Надо было быть настойчивым, – думал он, – грубым. Целовать ее. Заставить ее силой. Почему я не сделал этого? Почему?» Он не знал. А почему она поцеловала его? Просто для того, чтобы заставить его еще больше желать ее, чтобы еще больше поработить его. А почему он, зная это, все-таки любит ее? Почему, почему? – повторял он.
Словно в ответ на его мысли ее голос произнес:
– Почему вы любите меня?
Он открыл глаза. Они проезжали мимо уличного фонаря. Свет упал на ее лицо. Оно на мгновение выступило из темноты и снова стало невидимым – бледная маска, которая знает все заранее и относится ко всему с жестоким, бесстрастным, слегка утомленным любопытством.
– Я только что задавал себе этот вопрос, – ответил Уолтер. – Я хотел бы не любить вас.
– Знаете, я могла бы сказать то же самое. С вами сегодня не слишком-то весело.
«Как утомительны все те мужчины, – размышляла она, – которые воображают, будто никто никогда не любил до них!» И все-таки он ей нравился. Он очень привлекателен. Нет, «привлекателен» – не то слово. Как раз привлекательным-то он и не был. Скорее – «трогателен». Трогательный любовник? Это не в ее стиле. Но он нравился ей. В нем есть что-то милое. Кроме того, он остроумен, с ним приятно проводить время. Его безумная любовь, правда, утомительна, но зато он такой преданный. А это для Люси было очень важным: она боялась одиночества и требовала, чтобы ее поклонники находились все время при ней. Уолтер ходил за ней, как верный пес. Но почему он иногда походил на побитого пса? Жалкий пес! Какой дурак! Она вдруг рассердилась на него за то, что он такой жалкий.
– Что ж, Уолтер, – насмешливо сказала она, прикасаясь рукой к его руке, – почему вы не занимаете меня разговором?
Он не отвечал.
– Или вам угодно молчать? – Ее пальцы обжигающе скользнули по его ладони и обхватили запястье. – Где у вас пульс? – спросила она. – Я не чувствую его. – Она ощупывала мягкую кожу в поисках бьющейся артерии. Он ощущал легкое, волнующее, холодноватое прикосновение кончиков ее пальцев. – Да у вас его и нет, – сказала она. – У вас застой крови. – В ее голосе звучало презрение. «Какой дурак!» – думала она. – Застой крови, – повторила она и вдруг с внезапной злобой вонзила острые, отточеные ногти в его руку. Уолтер вскрикнул от неожиданной боли. – Так вам и надо, – засмеялась она ему в лицо.
Он схватил ее за плечи и принялся яростно целовать. Гнев пробудил в нем желание; поцелуями он мстил ей. Люси закрыла глаза, безвольно и мягко покоряясь ему. Предвестники наслаждения, как трепещущие крылышки бабочек, пробегали по ее коже. И внезапно искусные пальцы провели, как по струнам скрипки, по ее нервам. Уолтер почувствовал, как все ее тело невольно вздрогнуло в его объятиях, вздрогнуло словно от внезапной боли. Целуя ее, он спрашивал себя, ожидала ли она такого ответа на свой вызов, хотела ли она именно этого? Он обеими руками схватил ее тонкую шею. Большие пальцы легли на ее гортань. Он слегка надавил.
– Когда-нибудь, – сказал он сквозь зубы, – я задушу вас.
Люси ответила смехом. Он нагнулся и поцеловал ее смеющийся рот. Когда его губы прикоснулись к ее губам, она почувствовала, как тонкая острая боль пронзила все ее тело. Она не ожидала от Уолтера такой неистовой и дикой страсти. Она была приятно поражена.
Машина свернула на Сохо-сквер, замедлила ход, остановилась. Они приехали. Уолтер выпустил ее из объятий и отодвинулся. Она открыла глаза и посмотрела на него.
– Ну? – вызывающе спросила она его во второй раз за этот вечер. Несколько мгновений оба молчали.
– Люси, – сказал он, – поедем куда-нибудь в другое место. Не сюда, не в этот притон. Куда-нибудь, где мы будем одни. – Его голос дрожал, его глаза умоляли. Весь его пыл прошел; он снова стал жалким, похожим на собаку. – Скажем шоферу ехать дальше, – просил он.
Она улыбнулась и покачала головой. Зачем он умоляет? Зачем он такой жалкий? Глупец, побитая собака!
– Прошу тебя, прошу тебя! – молил он. Но ему следовало приказать. Сказать шоферу везти их дальше, а самому снова обнять ее.
– Нельзя, – сказала Люси и вышла из автомобиля. Раз он ведет себя как побитая собака, значит, с ним так и нужно обращаться.
Уолтер последовал за ней, жалкий и несчастный.
Сам Сбиза встретил их на пороге. Он кланялся, разводя белыми жирными руками, и от его широкой улыбки кожа расходилась складками на его огромных щеках. Когда приезжала Люси, потребление шампанского возрастало. Поэтому она была почетной гостьей.
– Здесь мистер Спэндрелл? – спросила она. – И мистер и миссис Рэмпион?
– О да, о да, – повторял старик Сбиза с неаполитанским, почти восточным пафосом. Он как будто давал понять, что они не только тут, но что ради нее он готов был доставить каждого из них в двух экземплярах. – Как вы поживаете? Очень хорошо, очень хорошо? У нас сегодня такие омары, такие омары!.. – И он повел их в ресторан.
VIII
– Меня возмущает больше всего то, – сказал Марк Рэмпион, – что все мы стали ужасно, противоестественно ручными.
Мэри Рэмпион добродушно расхохоталась. Всякому, кто слышал ее смех, хотелось смеяться самому.
– Ты бы так не говорил, – сказала она, – будь ты на моем месте. Тебя-то уж никак нельзя назвать ручным!
И действительно, вид у Марка Рэмпиона был далеко не «ручной». Профиль – резкий: орлиный нос, похожий на режущий инструмент, острый подбородок. Глаза голубые и проницательные, волосы очень тонкие, золотистые, с рыжим оттенком, и развевающиеся при каждом движении, при каждом порыве ветра, как языки пламени.
– Да и ты тоже не очень похожа на овечку, – сказал Рэмпион. – Но два человека – это еще не весь мир. Я говорил о всех вообще, а не о нас с тобой. Мир стал ручным. Вроде огромного кастрированного кота.
– А во время войны он тоже казался вам ручным? – спросил Спэндрелл. Он говорил из полутьмы, окружавшей маленький мир, освещенный лампой под розовым абажуром; центром этого мира был их столик. Спэндрелл сидел, раскачиваясь на стуле, прислонившись затылком к стене.
– Даже тогда, – сказал Рэмпион. – Война была бойней, где убивали домашних животных. Люди шли и дрались не потому, что у них кипела кровь. Они шли потому, что им приказывали идти, потому, что они были добрыми гражданами. «Человек – хищное животное», – любил говорить в своих речах ваш отчим. Но меня возмущает как раз то, что человек – домашнее животное.
– И с каждым днем становится все более домашним, – сказала Мэри Рэмпион, разделявшая взгляды своего мужа или, вернее сказать, разделявшая его чувства и сознательно или бессознательно пользовавшаяся для их выражения его словами. – В этом виноваты фабрики, христианство, наука, приличия, наше воспитание, – пояснила она, – они придавливают душу современного человека. Они выпивают из нее жизнь. Они…
– Ах, заткнись, Бога ради! – сказал Рэмпион.
– Но ведь ты сам так говорил!
– Так то я. Когда ты говоришь, оно звучит совсем иначе.
Лицо Мэри приняло было сердитое выражение, но сейчас же прояснилось. Она рассмеялась.
– Ну конечно, – добродушно сказала она, – я не очень сильна по части рассуждений. Но ты мог бы быть повежливей со мной на людях.
– Не выношу дураков.
– Берегись, а то тебе и не такое придется вынести, – со смехом погрозила Мэри.
– Если вам угодно швырнуть в него тарелкой, – сказал Спэндрелл, подвигая ей свою, – пусть мое присутствие вас не смущает.
Мэри поблагодарила.
– Это было бы ему полезно, – сказала она. – Он что-то очень зазнается.
– А тебе было бы не вредно, – отпарировал Рэм-пион, – если бы я подставил тебе фонарь под глазом.
– Попробуй только! Я уложу тебя одной рукой, даже если другая будет привязана за спину.
Все трое разразились смехом.
– Ставлю на Мэри, – сказал Спэндрелл, раскачиваясь на стуле. Улыбаясь с непонятным для него самого чувством удовольствия, он переводил взгляд с одного из супругов на другого – с худощавого, неистового, неукротимого человечка на крупную золотоволосую женщину. Каждый из них был хорош по-своему; но вдвоем они были еще лучше. Сам не зная почему, он вдруг почувствовал себя счастливым.
– Мы еще сразимся как-нибудь на днях, – сказал Рэмпион и на мгновение положил свою руку на руку Мэри. У него была тонкая, нервная, выразительная рука. «Рука настоящего аристократа», – подумал Спэндрелл. А ее рука была короткая, крепкая, честная – рука крестьянки. А между тем по рождению как раз Рэмпион был крестьянином, а она – аристократкой. Вот и верьте после этого генеалогам! – Десять раундов, – продолжал Рэмпион. – Без перчатки. – Затем, обращаясь к Спэндреллу: – Знаете, вам следовало бы жениться, – сказал он.
Ощущение счастья мгновенно покинуло Спэндрелла. Он словно резким толчком вернулся к действительности. Он почти сердился на себя. Чего ради он-то расчувствовался, глядя на эту счастливую пару?
– Я не учился боксу, – пошутил он; сквозь шутливость Рэмпион почувствовал в его тоне горечь, скрытое ожесточение.
– Нет, в самом деле! – сказал он, пытаясь понять выражение лица Спэндрелла. Но голова последнего была в тени, и свет стоящей между ними лампы слепил Рэмпиона.
– Да, в самом деле, – поддержала Мэри. – Конечно, вам следует жениться: вы станете другим человеком.
Спэндрелл засмеялся коротким фыркающим смехом и, дав своему стулу опуститься на все четыре ножки, наклонился к столу. Отодвинув чашку кофе и недопитую рюмку ликера, он положил локти на стол и оперся подбородком на руки. Его лицо озарилось розовым светом лампы. «Как химера, – подумала Мэри, – химера в розовом будуаре». В точно такой же позе она видела химеру на крыше Нотр-Дам; она сидела скрючившись и положив свою демоническую голову на когтистые лапы. Только химера была комическим дьяволом, таким неправдоподобным, что его нельзя было принимать всерьез. Спэндрелл был живой человек, а не карикатура; поэтому его лицо казалось гораздо более мрачным и трагическим. У него было худое лицо. Скулы и челюсти резко выступали под натянувшейся кожей. Серые глаза были посажены глубоко. Мясистые губы резко выделялись на его похожем на череп лице – толстые губы, напоминавшие рубцы. «Когда он улыбается, – однажды сказала про него Люси Тэнтемаунт, – это похоже на разрез при операции аппендицита – разрез с иронически приподнятыми уголками». Красный шрам имел чувственное, но в то же время решительное выражение, так же как и круглый подбородок. Резкие линии окружали глаза и уголки губ. Густые темные волосы начинали редеть на висках.
«На вид ему лет пятьдесят, – размышляла Мэри Рэмпион. – А сколько ему на самом деле?» Подсчитав, она решила, что ему не больше тридцати двух или тридцати трех лет – как раз время остепениться.
– Другим человеком, – повторила она вслух.
– Но я вовсе не хочу становиться другим.
Марк Рэмпион кивнул.
– Да, и в этом вся ваша беда, Спэндрелл. Вам нравится вариться в собственном отвратительном и загнившем соку. Вы не стремитесь к оздоровлению. Вы наслаждаетесь собственной болезнью. Вы даже гордитесь ею.
– Брак излечит вас, – настаивала Мэри, ярая сторонница этого таинства, которому она обязана была счастьем всей жизни.
– Конечно, если только брак не погубит его жену, – сказал Рэмпион, – он может заразить ее своей гангреной.
Спэндрелл откинул голову и захохотал, но, как всегда, почти беззвучно; это был немой взрыв.
– Замечательно! – сказал он. – Замечательно! Это первый веский довод в пользу брака, какой мне довелось слышать. Ты почти убедил меня, Рэмпион. Я никогда не доводил этого до брака.
– Чего «этого»? – спросил Рэмпион, слегка нахмурившись. Ему не нравилась преувеличенно циническая манера Спэндрелла. Вот тоже: радуется тому, что он такой гадкий! Безмозглый мальчишка – только и всего.
– Процесса заражения. До сих пор я ни разу не переступал порога конторы по регистрации браков. Но в следующий раз я его переступлю. – Он глотнул бренди. – Я как Сократ, – продолжал он. – Мое божественное призвание – развращать молодежь, в частности, молодежь женского пола. Моя миссия – направлять их на запретные пути. – Он снова откинул голову и разразился беззвучным смехом. Рэмпион с отвращением поглядел на него. «Как он ломается! Он явно переигрывает, словно старается убедить самого себя, что он действительно существует».
– Если бы вы только знали, как много может дать брак! – серьезно вставила Мэри. – Если бы вы знали…
– Но, дорогая моя, он отлично знает, – нетерпеливо прервал Рэмпион.
– Пятнадцать лет мы женаты, – не унималась Мэри, преисполненная миссионерского рвения, – и смею вас уверить…
– На твоем месте я не стал бы попусту тратить время.
Мэри вопросительно посмотрела на мужа. Когда дело касалось отношений с людьми, она абсолютно доверяла суждению Рэмпиона. Сквозь эти лабиринты он пробирался с безошибочным чутьем; она могла только завидовать ему, но не подражать. «У него какой-то нюх на человеческие души», – говорила она о нем. Ее чутье на души было развито слабо. Поэтому она благоразумно позволяла ему руководить собой. Она взглянула на него. Рэмпион уставился на чашку кофе. Его лоб покрылся морщинами; по-видимому, он говорил серьезно.
– Ну что ж! – сказала она и закурила сигарету.
Спэндрелл посмотрел на них торжествующим взглядом.
– У меня свой собственный метод обращения с юными особами, – продолжал он все тем же преувеличенно циничным тоном.
Закрыв глаза, Мэри вспоминала о том времени, когда они с Рэмпионом были юны.
IX
– Какое грязное пятно! – воскликнула юная Мэри, когда они достигли вершины холма и увидели расстилавшуюся внизу долину. Стэнтон-на-Тизе лежал у их ног – черные черепичные крыши, закопченные трубы, дым. За городом подымались холмы, голые и пустынные, тянувшиеся до самого горизонта. Солнце сияло, облака отбрасывали огромные тени. – Как они смеют так портить наш чудесный вид! Как они смеют!