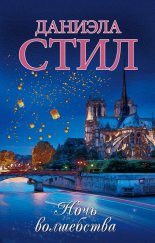Первая красотка в городе Буковски Чарльз

Charles Bukowski
THE MOST BEAUTIFUL WOMAN IN TOWN
Copyright © 1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 1983 by Charles Bukowski
© Немцов М., перевод на русский язык, 2016
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э», 2016
* * *
Первая красотка в городе
Кэсс была самой молодой и красивой из 5 сестер. Первой красоткой в городе. На 1/2 индеанка, с гибким и странным телом, змеиным и горячим – а уж какие глаза… Она вся была живое пламя. Словно дух в изложницу залили, а удержать не смогли. Волосы черные, длинные, шелковистые, танцевали и кружились без устали, как и вся она. Дух ее либо парил в вышине, либо стелился по земле. Среднего не дано. Некоторые утверждали – Кэсс чокнутая. То есть так считали тупые. Они-то никогда Кэсс не могли понять. Мужикам она казалась только машиной для траха, тут уж плевать, чокнутая или нет. А Кэсс танцевала и флиртовала, целовала мужчин, но, если не считать пары раз, когда доходило до постели, умудрялась ускользнуть. Она избегала мужчин.
Сестры обвиняли ее в том, что она злоупотребляет своей красотой, что у нее ум сонный, но у Кэсс и ум, и дух были что надо: она писала маслом, танцевала, пела, лепила из глины всякие штуки, а если кого-нибудь обижали, душевно или же телесно, Кэсс глубоко сочувствовала. Просто ум у нее был другой – непрактичный. Сестры ревновали, потому что она притягивала их мужиков, и злились, поскольку им казалось, что она мужиками этими распоряжается не лучшим образом. У нее была привычка по-доброму обходиться с уродами; от так называемых красавчиков ее тошнило.
– Кишка тонка, – говорила она. – Без перчика. Думают, главное – идеальная форма ушей и тонко вылепленные ноздри… Одна видимость, а внутри шиш… – Характерец у нее граничил с безумием; для кого-то он и был безумием.
Ее отец умер от кира, а мать сбежала и оставила девчонок одних. Девчонки пошли к родственникам, те определили их в женский монастырь. Монастырь оказался безрадостной дырой, причем больше для Кэсс, чем для сестер. Другие девчонки ей завидовали, и Кэсс дралась почти со всеми. Вдоль левой руки у нее бежали царапины от бритвы – защищала себя в паре драк. На левой щеке тоже остался изрядный шрам, но он скорее подчеркивал ее красоту, чем портил.
Я познакомился с ней в баре на Западной Окраине как-то вечером, Кэсс только-только выпустили из монастыря. Поскольку она была младше прочих сестер, вышла последней. В том баре она просто взяла и подсела ко мне. Большей страхолюдины, чем я, в городе, наверное, не найти – может, потому и подсела.
– Выпьешь? – спросил я.
– Конечно, чего ж нет?
Едва ли в нашей беседе в тот вечер было что-то необычное – это Кэсс вся лучилась. Она меня выбрала – вот и все дела. Никакого напряга. Выпивать ей нравилось, и залила она довольно много. Совершеннолетней казалась не вполне, но ее все равно обслуживали. Может, у нее ксива была липовая, не знаю. Как бы то ни было, когда она возвращалась из уборной и садилась, во мне шевелилась какая-то гордость. Первая красотка не только в городе, но и в жизни я прекраснее редко встречал. Я положил руку ей на талию и поцеловал один раз.
– Как ты считаешь, я хорошенькая? – спросила она.
– Да, конечно, но тут еще кое-что… внешность ведь не главное…
– А меня всегда обвиняют, что хорошенькая. Ты по правде так думаешь?
– Хорошенькая – не то слово, оно едва ли отдает тебе должное.
Кэсс сунула руку в сумочку. Я думал, платок достает. А она вытащила здоровенную булавку. Не успел я и пальцем дернуть, как она себе проткнула этой булавкой нос – сбоку, прямо над ноздрями. На меня накатило отвращение пополам с ужасом.
Она взглянула на меня и рассмеялась:
– А теперь? Что теперь скажешь, мужик?
Я вытянул у нее из носа булавку и придавил ранку своим платком. Несколько человек вместе с барменом наблюдали представление. Бармен подошел.
– Послушай, – сказал он Кэсс, – будешь опять выпендриваться, мигом вылетишь. Нам твои спектакли не нужны.
– Ох, да иди ты на хуй, чувак! – отозвалась она.
– Приглядывайте за ней, – посоветовал мне бармен.
– Ничего с ней не будет, – заверил я.
– Этомой нос, – заявила Кэсс. – А я со своим носом что хочу, то и делаю.
– Нет, – сказал я, – мне тоже больно.
– Тебе что, больно, когда я тычу булавкой себе в нос?
– Да, больно. Я не шучу.
– Ладно, больше не буду. Не грусти.
Она поцеловала меня, как-то даже при этом ухмыляясь и прижимая платок к носу. Ближе к закрытию мы отправились ко мне. У меня еще оставалось пиво, и мы сидели и разговаривали. Тогда я и понял ее как личность: сплошь доброта и забота. Все на лбу написано. И тут же отскакивает обратно в дикость и невнятицу.Шиза. Эдакая прекрасная и духовная шиза. Возможно, кто-нибудь, что-нибудь погубит ее навсегда. Я только надеялся, что это окажусь не я.
Мы легли в постель, и, когда я выключил свет, Кэсс спросила:
– Ты когда хочешь? Сейчас или утром?
– Утром, – ответил я и повернулся к ней спиной.
Утром я поднялся, заварил пару чашек кофе, принес одну ей в постель.
Она рассмеялась:
– Ты первый, кто отказался ночью.
– Да ничего, – ответил я, – можно и вообще обойтись.
– Нет, погоди, теперь мне хочется. Дай я чуть-чуть освежусь.
Кэсс ушла в ванную. Вскоре вышла: выглядела она вполне чудесно – длинные черные волосы блестели, глаза и губы блестели,сама она блестела… Свое тело она показывала спокойно – мол, хорошее же. Она легла и укрылась простыней.
– Давай, любовничек.
Я дал.
Она целовалась самозабвенно, но без спешки. Я пустил руки по всему ее телу, в волосы. Оседлал. Там было горячо – и тесно. Я медленно начал толкаться, чтобы продлилось подольше. Ее глаза смотрели прямо в мои.
– Как тебя зовут? – спросил я.
– А какая тебе разница? – спросила она.
Я расхохотался и погнал дальше. Потом она оделась, и я отвез ее обратно в бар, но забыть Кэсс оказалось трудно. Я тогда не работал и спал до двух, вставал и читал газету. Как-то раз отмокал в ванне, а она зашла с огромным листом – бегонии.
– Я знала, что ты будешь в ванне, – сказала она, – поэтому принесла тебе кое-что прикрыть эту штуку, дикарь ты наш.
И кинула мне лист прямо в ванну.
– Откуда ты знала, что я буду в ванне?
– Знала.
Почти каждый день Кэсс заявлялась, когда я сидел в ванне. В разное время – но промахивалась редко, и всякий раз при ней был листок бегонии. А после мы занимались любовью.
Раз или два она звонила по ночам, и мне приходилось выкупать ее из каталажки за пьянство и драки.
– Вот суки, – говорила она. – Купят выпить пару раз и думают, что это уже повод залезть тебе в штанишки.
– Стоит принять у них стакан – и беды сами на голову повалятся.
– Я думала, их интересую я, а не только мое тело.
– Меня интересуюти ты, и твое тело. Сомневаюсь, однако, что большинство видит дальше тела.
Я уехал из города на полгода, бичевал, вернулся. Кэсс я так и не забыл, но мы из-за чего-то поцапались, да и все равно я понимал, что пора двигать дальше, а когда вернулся – прикинул, что ее здесь уже не будет, но не успел и полчаса просидеть в баре на Западной Окраине, как она вошла и уселась рядом.
– Ну что, сволочь, я вижу, ты опять тут.
Я заказал ей выпить. Потом посмотрел на нее. Она была в платье с высоким воротником. Я раньше на ней таких никогда не видел. А под глазами вогнано по булавке со стеклянной головкой. Видно только эти головки, а сами булавки воткнуты прямо в лицо.
– Черт бы тебя драл, зачем портить красоту, а?
– Нет, этофенька такая, дурень.
– Совсем спятила.
– Я по тебе скучала, – сказала она.
– Кто-нибудь есть?
– Нет никого. Один ты. Но я тут мужиков кадрю. Стоит десять баксов. Тебе же – бесплатно.
– Вытащи эти булавки.
– Нет, это фенечка.
– Мне от нее очень плохо.
– Ты уверен?
– Еще как уверен.
Кэсс медленно извлекла булавки и убрала в сумочку.
– Зачем ты уродуешь свою красоту? – спросил я. – Разве нельзя просто жить с нею?
– Чтобы не думали, будто во мне больше ничего нет. Красота – ничто, она не останется. Ты даже не знаешь, как тебе повезло, что ты такой урод, – раз ты людям нравишься, они тебя любят не за красоту.
– Ладно, – ответил я. – Мне повезло.
– То есть я не хочу сказать, что ты урод. Люди только считают тебя уродом. У тебя лицо завораживает.
– Спасибо.
Мы выпили еще по одной.
– Что делаешь? – спросила она.
– Ничего. Ничем не могу заняться. Интереса нет.
– Я тоже. Был бы бабой, тоже мог бы мужиков кадрить.
– Вряд ли бы мне понравилось близко общаться с такой толпой чужих людей. Утомляет.
– Утомляет, ты прав, все утомляет.
Ушли мы вместе. На Кэсс по-прежнему пялились прохожие. Она все равно была красотка – может, даже красивее прежнего.
Мы добрались до меня, я открыл бутылку вина, и мы сидели и разговаривали. С Кэсс всегда легко было разговаривать. Она немного поговорит, а я послушаю, потом я поговорю. Беседа у нас текла без напряга. Казалось, мы вместе раскрываем тайны. Когда раскрывалась хорошая, Кэсс смеялась эдак по-своему – только она так и умела. Словно радость из огня. За беседой мы целовались и придвигались все ближе друг к другу. Довольно сильно разогрелись и решили лечь в постель. И лишь когда Кэсс сняла платье с высоким воротником, я увидел его – уродливый зазубренный шрам поперек горла. Длинный и толстый.
– Чтоб тебе, женщина, – сказал я с кровати, – черт бы тебя драл, что ты натворила?
– Как-то ночью попробовала разбитой бутылкой. Я тебе больше не нравлюсь? Я по-прежнему красивая?
Я притянул ее к себе на кровать и поцеловал. Она оттолкнула меня, рассмеялась:
– Некоторые платят десятку, а потом я раздеваюсь, и им уже не хочется. Десятку я оставляю. Очень смешно.
– Да, – сказал я. – Просто умора… Кэсс, сука, я же тебя люблю… хватит себя уничтожать; живее тебя я никого не встречал.
Мы снова поцеловались. Кэсс плакала – без единого звука. Слезы я чувствовал. Эти ее длинные черные волосы лежали у меня за спиной, будто флаг смерти. Мы слились и медленно, торжественно и чудесно любили друг друга.
Утром Кэсс готовила завтрак. Вроде бы спокойная и счастливая. Пела. Я валялся в постели и наслаждался ее счастьем. Наконец она подошла и растолкала меня:
– Подъем, сволочь! Плесни себе на рожу и пипиську холодной воды да иди уже пировать!
В тот день я отвез ее на пляж. День стоял рабочий и не вполне летний, поэтому берег был великолепно пуст. Пляжные бичи в лохмотьях дрыхли на лужайках над полосой песка. Другие сидели на каменных скамьях с одинокой бутылкой. Кружили чайки, безмозглые, но рассеянные. Старухи лет по 70–80 рассиживали на лавках и обсуждали продажу недвижимости, оставленной мужьями, что давным-давно сдохли от гонки и глупости выживания. По всему по этому в воздухе разливался мир, и мы бродили по пляжу, валялись на лужайках и почти не разговаривали. Хорошо быть вместе, и все. Я купил пару сэндвичей, чипсы и чего-то попить, мы сели на песок и поели. Потом я обнял Кэсс, и мы поспали часик. Так было почему-то лучше, чем заниматься любовью. Мы текли вместе без напряжения. Проснувшись, снова поехали ко мне, я приготовил ужин. После него предложил Кэсс жить вместе. Она долго сидела, смотрела на меня, потом медленно ответила:
– Нет.
Я отвез ее обратно в бар, купил ей выпить и ушел. На следующий день устроился фасовщиком на фабрику и весь остаток недели ходил на работу. Уставал я так, что не особо пошляешься, но в ту пятницу все равно поехал в бар на Западной Окраине. Сел и стал ждать Кэсс. Шли часы. Когда я уже надрался, бармен мне сказал:
– Жалко, что так с твоей девчонкой вышло.
– Что вышло? – не понял я.
– Прости. Ты что, не знал?
– Нет.
– Самоубийство. Вчера похоронили.
– Похоронили? – переспросил я.
Казалось, моргни – и она войдет. Как же ее может больше не быть?
– Сестры похоронили.
– Самоубийство? А как, не знаешь?
– Горло перерезала.
– Понятно. Налей-ка мне еще.
Я пил до самого закрытия. Кэсс, самая красивая из 5 сестер, самая красивая в городе. Мне удалось доехать до себя, а из головы не шла мысль: надо былозаставить ее остаться со мной, а не принимать это ее «нет». Все в ней говорило, что я ей небезразличен. Но я слишком небрежен, ленив, слишком черств. Заслуживаю и ее смерти, и своей. Собака я. Нет, зачем собак обижать? Я встал, отыскал бутылку вина и глубоко глотнул из горла. Кэсс, первая красотка в городе, умерла в 20 лет.
Снаружи кто-то давил на клаксон. Очень громко и настойчиво. Я поставил бутылку на пол и заорал в окно:
– ЧЕРТ БЫ ТЕБЯ ДРАЛ, ПАДЛА, ЗАТКНИСЬ!
Ночь наступала себе дальше, и тут уж ничего не поделать.
Бифштекс из звездной пыли
Удача моя снова скисла, и я тогда слишком дерганый был от чрезмерного винопития; шары дикие, сил нет; слишком паршиво все, искать обычного перестоя особо не поищешь, какой-нибудь спокойной работенки типа экспедитора или кладовщика, поэтому я пошел на мясокомбинат, захожу прямо в контору.
а я тебя раньше нигде не видел? спрашивает мужик.
не-а, соврал я.
я там уже был года 2 или 3 назад, прошел всю волокиту, сдал анализы и прочее, меня повели вниз по лестнице, 4 пролета, а там все холоднее, и полы в крови, зеленые полы, зеленые стены. мне объяснили, что делать – нажимать кнопку, и тогда из дыры в стене грохочет так, будто защитники на поле столкнулись или слон попал в капкан, и оно выползает – что-то дохлое, много дохлятины, кровавое, и мужик мне показал: берешь и кидаешь на грузовик, а потом опять жмешь кнопку, и выползает еще, а потом ушел. едва он скрылся, я снял робу, каску, сапоги (выдали на 3 размера меньше), поднялся по лестнице и свалил. а теперь вот вернулся – снова застрял.
староват ты для такой работы.
хочу немного подкачаться. мне нужна тяжелая работа, хорошая трудная работа, соврал я.
а справишься?
сплошные мускулы. я раньше на ринге дрался. с лучшими.
вот как?
ага.
ммм, по роже видать. должно быть, круто приходилось.
да что там рожа. у меня были быстрые руки. и до сих пор быстрые. надо было хоть что-то ловить, а то бы скверно выглядело.
я слежу за боксом. что-то имени твоего не припоминаю.
я под другим дрался – Пацан Звездная Пыль.
Пацан Звездная Пыль? не помню я Пацана Звездную Пыль.
я дрался в Южной Америке, в Африке, в Европе, на островах. в глуши, в общем. поэтому у меня в трудовой такие пробелы – не люблю писать «боксер», тогда все думают, я или шучу, или вру. оставляю пробелы, и ну его на хер.
ладно, приходи на медкомиссию. в 9:30 завтра утром, определим тебя на работу. говоришь, потяжелее хочешь?
ну, если у вас что-нибудь еще есть…
нет, сейчас нету. знаешь, тебе на вид уже полтинник. прямо не знаю, правильно ли я делаю. мы здесь не любим, когда вы тратите наше время.
я не мы – я Пацан Звездная Пыль.
ладно, пацан, рассмеялся он, будет тебе РАБОТА!
не понравилось мне, как он это сказал.
2 дня спустя я через проходную вошел в деревянный сарай, где показал какому-то деду квиток, на котором стояло мое имя: Генри Чарльз Буковски-мл., – и он отправил меня к погрузочной рампе, а там следовало найти Турмана. я пошел. на деревянной скамейке сидели в ряд мужики – посмотрели на меня так, будто я гомосексуалист или инвалид в коляске.
я же одарил их легким, на мой взгляд, презрением и протянул как мог трущобней:
де тут Турман? сказали найти.
кто-то показал.
Турман?
ну?
я у вас работаю.
ну?
ну.
он посмотрел на меня.
а сапоги где?
сапоги?
нету, ответил я.
он сунул руку под лавку и протянул мне пару. старых жестких задубевших сапог. я их натянул. та же история: на 3 размера меньше. пальцы у меня расплющились и согнулись.
затем он вручил мне окровавленную робу и жестяную каску. я стоял перед ним, а он закуривал или, как сказали бы англичане, поджигал сигарету. спичку он выкинул спокойным и мужским росчерком руки.
пошли.
там сидели одни негры, и, когда я подошел, все на меня посмотрели так, будто они черные мусульмане. во мне почти шесть футов росту, они же все были выше меня, а если и не выше, то в 2–3 раза шире.
Чарли! завопил Турман.
Чарли, подумал я. Чарли, совсем как я, это славно.
под каской я уже весь вспотел.
дай ему РАБОТУ!
господи боже мой, о господи ты ж боже мой, во что превратятся милые и легкие вечера? почему такого не случается с Уолтером Уинчеллом[1], верующим в Американский Путь? я ли не был самым блестящим студентом на курсе антропологии? что же произошло?
Чарли подвел меня к платформе и поставил перед пустым грузовиком в полквартала длиной.
обожди тут.
подбежало несколько черных мусульман с тачками, клочковато и бугристо белыми, будто краску смешали с куриным пометом. в каждой навалено по куче окороков, плававших в водянистой сукровице. нет, они в ней даже не плавали, они в ней расселись, будто свинцовые, будто пушечные ядра, будто смерть.
один парень запрыгнул в кузов у меня за спиной, а другой начал швырять в меня эти окорока, я их ловил и перекидывал тому, что сзади, он поворачивался и забрасывал их в кузов. окорока прилетали быстро, БЫСТРО, тяжелые, и каждый новый тяжелее прежнего. едва я избавлялся от одного, в воздухе уже свистел следующий. я понимал – меня пытаются сломать. скоро я уже потел – потел так, будто все краны развинтили, спина болела, запястья болели, руки ныли, все ныло, а дохлая энергия истощилась до последней невозможной унции. я еле-еле видел, едва мог собраться и поймать хотя бы еще один окорок, а потом кинуть его дальше, хоть еще один да кинуть. меня всего забрызгало кровью, в руки все время прилетал мягкий, мертвый, тяжелый ПЛЮХ, окорок слегка подавался, как женская задница, а я слишком обессилел, не мог даже сказать, эй, да что это с вами, НА ХЕР, такое, парни? Окорока летят, а я верчусь, пригвожденный, как тот мужик на кресте, под жестяной каской, а те знай бегают себе с тачками окороков окороков окороков, и вот наконец все пустые, а я стою, покачиваюсь и соплю, всасывая желтый электрический свет. то была ночь в преисподней. что ж, мне всегда нравилась ночная работа.
давай!
меня отвели на другой склад. наверху сквозь здоровенную дыру в дальней стене – полбычка, а может, и целый бычок, да, оттуда лезли бычки целиком, точно, со всеми четырьмя ногами, и один как раз вылазил на крюке из стены, его только что зарезали, мало того, тормозит прямо надо мной, повис у меня над головой на этом крюке.
его только что убили, подумал я, только что проклятущую тварь зарезали. как они людей от бычков отличают? откуда им знать, что я не бычок?
ЛАДНО – КАЧАЙ!
качать?
во-во – ТАНЦУЙ С НИМ!
чего?
ох ты господи боже мой! ДЖОРДЖ, иди сюда!
Джордж подлез под мертвого бычка. сграбастал его. РАЗ. побежал вперед. ДВА. побежал назад. ТРИ. побежал дальше вперед. бычок завис почти параллельно земле. кто-то нажал на кнопку, и хвать. бычок захапан для всех мясников мира. захапан на потребу дуркующим сплетницам, хорошо отдохнувшим глупым домохозяйкам мира, что в 2 часа дня в халатиках сосут вывоженные красным сигареты и почти ничего уже не чувствуют.
меня засунули под следующего.
РАЗ.
ДВА.
ТРИ.
он у меня в руках. его мертвые кости против моих живых, его мертвое мясо против моего живого, и пока эти кости и эта тяжесть впивались в меня, я думал об операх Вагнера, о холодном пиве, думал о манящей пиздешке, что сидит на диванчике напротив нога на ногу, задрав юбку повыше, а у меня в руке стакан, и я медленно, но верно убалтываю ее, пробираясь в пустой разум ее тела, и тут Чарли заорал ВЕШАЙ ЕЕ В КУЗОВ!
я зашагал к грузовику. из стыда перед поражением, это мне, мальчишке, преподали еще на школьных дворах Америки, я знал, я ни за что не должен уронить тушу на землю, ибо это верный признак того, что я струсил, я не мужик, а стало быть – заслуживаю немногого, лишь презрительных ухмылок, насмешек да трепки, в Америке надо быть победителем, выхода никакого нет, надо выучиться драться ни за что, ничего не спрашивать, а кроме того, если я бычка уроню, придется его поднимать. и он испачкается. А я не хочу, чтоб он пачкался, или скорее они не хотят, чтоб он пачкался.
я вошел в крытый кузов.
ВЕШАЙ!
крюк в потолке оказался тупым, точь-в-точь большой палец с сорванным ногтем. зад бычка оттягиваешь назад и целишься вверх, суешь его хребтом на крюк снова и снова, а крюк не проходит. МАТЬ ТВОЮ В ЖОПУ!!! одна щетина и сало, жестко, жестко все.
ДАВАЙ! ДАВАЙ ЖЕ!
я выдавил из себя весь последний запас сил, и крюк вошел, прекрасное зрелище, диво, как крюк вонзается, бычок этот зависает сам по себе, с плеч долой, висит на потребу халатикам и бакалейным сплетням.
ШЕВЕЛИ МОСЛАМИ!
285-фунтовый негритос, наглый, резкий, четкий, убийственный, вошел в кузов, щелчком подвесил свое мясо, свысока взглянул на меня.
у нас цепочка!
лады, командир.
я вышел вперед него. меня уже поджидал следующий бычок. всякий раз, загружая его на плечи, я был уверен, что это последний, больше не справиться, но я все время повторял
еще один
один – и все
а потом
бросаю.
на
хуй.
они ведь ждут, чтоб я все бросил, я читал это по глазам, по улыбкам, когда они думали, что я не вижу. не хотелось дарить им победу. я пошел за следующим бычком. игрок до последнего вздоха, до последнего рывка некогда блиставшего игрока – я кинулся на мясо.
прошло 2 часа, и тут кто-то завопил ПЕРЕРЫВ.
я не умер. отдохну минут десять, кофейку выпью, и им меня уже отсюда не выкинуть. следом за ними я зашагал к подъехавшему обеденному киоску. я видел, как в ночи от бачка с кофе подымается пар; видел пончики, сигареты, бисквиты и сэндвичи под электролампочками.
ЭЙ, ТЫ!
кричал Чарли. Чарли, как и я.
чего, Чарли?
пока на перерыв не ушел, залезь-ка в грузовик, выведи его отсюда и поставь к рампе 18.
мы его только что загрузили, этот грузовик в полквартала длиной. рампа 18 находилась на другой стороне грузового двора.
дверцу открыть мне удалось, залезть в кабину – тоже. внутри мягкое кожаное сиденье, такое славное, что я сразу понял – если себе не дать бой, я мгновенно закемарю. водить грузовики я не умел. глянул вниз: полдюжины сцеплений, тормозов, педалей и прочего. я повернул ключ – машина таки завелась. потыкал в педали, подергал сцепления, пока грузовик не покатился, и повел его через весь двор к рампе 18, а сам все думал – когда я вернусь, киоск уже уедет. трагедия, просто трагедия. я припарковал грузовик, заглушил мотор и еще минутку посидел, впитывая добрую мягкость кожаного сиденья. потом открыл дверцу и вылез. промахнулся мимо ступеньки, или что там должно было торчать, и шлепнулся наземь всей этой окровавленной робой и в бога душу мать каской как подстреленный. больно не было, я ничего не почувствовал. поднялся я как раз в ту минуту, когда киоск выруливал за ворота на дорогу. остальные возвращались к рампе, хохоча и закуривая.