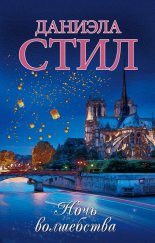Невероятное паломничество Гарольда Фрая Джойс Рейчел

Rachel Joyce
THE UNLIKELY PILGRIMAGE OF HAROLD FRY
Copyright © 2012 by Rachel Joyce
This edition published by arrangement with Conville & Walsh Ltd. and Synopsis Literary Agency
© Алехова Т., перевод на русский язык, 2013
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2013
Посвящаю Полу, идущему со мною рядом, и Мартину Джойсу, моему отцу (1936–2005)
- Пошел я вновь бродить, уныньем изнывая
- И взоры вкруг себя со страхом обращая,
- Как раб, замысливший отчаянный побег.
- Иль путник, до дождя спешащий на ночлег.
- Духовный труженик, влача свою веригу…[1]
1. Гарольд и письмо
Письмо, которому суждено было все изменить, пришло во вторник, в середине апреля. Стояло обычное утро, пахнущее выстиранным бельем и скошенной травой. Гарольд Фрай, свежевыбритый, в чистой рубашке и галстуке, сидел за завтраком, держа неначатый гренок, и смотрел в окно кухни на подстриженную лужайку, стиснутую с трех сторон глухими дощатыми заборами соседей. В центре ее высился раздвижной шест, на котором Морин укрепила бельевую веревку.
– Гарольд! – крикнула Морин, перекрывая шум пылесоса. – Почта!
Ему подумалось, что неплохо было бы выйти подышать, но, кроме стрижки лужайки, заняться было нечем, а это он сделал еще вчера. Рев пылесоса захлебнулся и стих. Вошла жена с недовольным видом, неся в руках какое-то письмо, и села напротив.
Морин была худощавая, с аккуратной серебристо-седой стрижкой и энергичной походкой. Когда они только познакомились, для Гарольда не было большей радости, чем рассмешить ее, сокрушить эту опрятную чинность, вовлекая в приступ безудержного веселья.
– Это тебе, – сказала она.
До него дошел смысл ее слов, лишь когда она по столу пододвинула к самому его локтю конверт, и оба уставились на письмо, словно никогда ничего подобного не видели. Конверт был розовый.
– Штемпель Берика-на-Твиде.
В Берике никто из знакомых не жил. Впрочем, и в других местах их жило немного.
– Ошиблись, наверное…
– Вряд ли. Штемпель неправильно не поставят.
Она взяла с решетки гренок. Морин любила остывшие и хрустящие. Гарольд принялся рассматривать загадочный конверт. Оттенок бумаги не имел ничего общего с их ванной комнатой, с подобранными под цвет полотенцами и махровым чехлом на крышке унитаза. Среди их жизнерадостной розовости Гарольд ощущал себя посторонним. А здесь тон был понежнее, как у рахат-лукума. Его имя и адрес были написаны от руки кое-как, неуклюжими слипшимися буквами, словно их впопыхах накорябал ребенок: «Мру Г. Фраю, 13, Фоссбридж-роуд, Кингсбридж, Саут-Хэмс». Гарольд не узнавал почерка.
– Ну? – поторопила Морин, подавая нож.
Гарольд приставил острие к углу конверта и вспорол его по сгибу.
– Аккуратнее! – остерегла жена.
Под ее пристальным взглядом он извлек из конверта письмо и нацепил очки для чтения. Послание было отправлено из неизвестного ему учреждения – хосписа святой Бернадины.
«Дорогой Гарольд, ты, вероятно, удивишься, получив мое письмо…»
Он глянул в конец страницы.
– Ну? – нетерпеливо переспросила Морин.
– Боже ты мой! Это же от Куини Хеннесси…
Морин подцепила ножом кусочек масла и стала намазывать на гренок.
– От какой Куини?
– Работала у нас на пивоварне. Давно. Ты разве не помнишь?
Морин пожала плечами.
– С какой стати? Не понимаю, почему я должна всех помнить. Ты не подашь мне варенье?
– В финансовом отделе работала. Очень хорошая женщина.
– Гарольд, это повидло. Варенье красное. Ты знаешь, если смотреть перед тем, как брать что-нибудь, толку будет больше.
Гарольд подал ей требуемое и вернулся к чтению. Превосходно оформлено, не то что надпись на конверте. Он улыбнулся, вспомнив, что в этом была вся Куини: любое дело, за какое бы она ни бралась, она выполняла так аккуратно, что не придерешься.
– А она тебя помнит. Передает тебе привет.
Морин поджала губы.
– По радио говорят, что французы полюбили наш хлеб. У них, видите ли, не умеют его нарезать как следует. Вот они и едут к нам и скупают его подчистую. Сказали, что к лету жди дефицита. – Помолчав, она спросила: – Гарольд, в чем дело?
Он не ответил. Выпрямившись и сильно побледнев, он лишь беспомощно приоткрыл рот, а когда собрался с духом, его голос прозвучал совсем тихо, словно издалека:
– У нее… рак. Куини написала, чтобы попрощаться.
Гарольд силился еще что-то добавить, но не мог подобрать слов. Вытащив из кармана носовой платок, он высморкался.
– Я… Ах, черт!
На глаза его набежали слезы. Нарушив молчание, грозившее затянуться на несколько минут, Морин шумно сглотнула и сказала:
– Очень жаль.
Гарольд кивнул, не в силах поднять на нее глаз.
– Погожее сегодня утро, – начала Морин. – Вынеси-ка летние стулья во дворик.
Но Гарольд сидел неподвижно и упорно молчал. Морин собрала грязную посуду, и вскоре в прихожей вновь взвыл пылесос.
Гарольд чувствовал, что задыхается. Он боялся, что стоит ему сдвинуться с места, даже просто пошевелиться, как лавина чувств, которую он из последних сил сдерживает в себе, хлынет наружу. Как же так вышло, что за эти двадцать лет он ни разу не попытался разыскать Куини Хеннесси? Ему живо представилась невысокая темноволосая женщина, с которой они когда-то вместе работали и которой теперь – уму непостижимо – сколько же? Шестьдесят? И она умирает от рака в Берике. «Куда забралась», – подумалось Гарольду. Так далеко на север он ни разу не ездил. Он выглянул в сад и обратил внимание на пластиковую ленточку, зацепившуюся за лавровый куст изгороди. Ее трепал ветерок, но оторваться она никак не могла. Гарольд спрятал письмо в карман брюк, дважды хлопнул по нему для надежности и встал из-за стола.
Морин наверху тихо прикрыла за собой дверь спальни Дэвида и постояла, вдыхая его запах. Затем раскрыла синие шторы, которые всегда задергивала на ночь, и проверила, не скопилась ли пыль на кромке тюля, касавшейся подоконника. Протерла посеребренные рамки выпускной кембриджской фотографии Дэвида и еще одной рядом, черно-белой, снятой во младенчестве. Морин поддержала в этой комнате порядок, потому что постоянно ждала сына и не знала, когда именно он вернется. Какой-то частью души она не переставала надеяться. Мужчинам невдомек, что значит быть матерью. За ребенка всегда переживаешь и любишь ничуть не меньше, даже когда он уже взрослый. Она вдруг вспомнила про Гарольда, про его розовое письмо и пожалела, что не может сейчас поговорить с сыном. Морин вышла из спальни так же неслышно, как и вошла, и отправилась снимать белье с постелей.
Гарольд Фрай вынул из ящика буфета несколько листов «Базилдон бонда»[2] и выбрал одну из шариковых ручек Морин. Но какие слова подыскать для умирающей от рака женщины? Ему хотелось донести до нее, как сильно он сострадает ей, но написать «соболезную», как на открытках из магазина, высылаемых уже после, так сказать, прискорбного события, было бы неуместным. К тому же казалось слишком формальным, будто отписка с его стороны.
Гарольд вывел было: «Дорогая мисс Хеннесси, от всей души надеюсь, что Ваше состояние улучшится», но, отложив ручку и внимательно перечитав послание, ощутил всю его неловкость и фальшь. Он скомкал лист и начал снова. Гарольд никогда не блистал красноречием, а теперь его чувства были столь безмерны, что трудно было выразить их в словах, но даже если бы это ему удалось, вряд ли пристало обращаться с ними к человеку, которому за двадцать лет не написал ни строчки. Вот если бы Куини оказалась на его месте, она бы точно не сплоховала.
– Гарольд!
Оклик жены застал его врасплох: он думал, что Морин наверху, начищает что-нибудь или разговаривает с Дэвидом. Она так и не сняла резиновх перчаток.
– Пишу Куини весточку.
– Весточку?
Морин частенько повторяла за ним слова.
– Да. Подпишешь от себя?
– Думаю, не стоит. Наверное, это будет слишком – подписываться под посланием незнакомому человеку.
Хватит беспокоиться об изяществе слога. Нужные слова сами собой сложились в его голове в простой текст: «Дорогая Куини, спасибо за письмо. Очень тебе сочувствую.Твой С наилучшими пожеланиями, Гарольд (Фрай)». Немного пресно, но сойдет. Вложив листок в конверт, он быстро его запечатал и надписал сверху адрес хосписа святой Бернадины.
– Сбегаю к почтовому ящику.
Часы показывали одиннадцать. Гарольд снял непромокаемую куртку с крючка, куда просила ее вешать Морин. Из двери в нос ему ударило теплым просоленным воздухом, но не успел Гарольд переступить левой ногой через порог, как рядом возникла жена.
– Ты надолго?
– Только туда и обратно.
Она неотрывно глядела на него зелеными, болотного оттенка глазами, приподняв хрупкий подбородок. Ему захотелось сказать ей что-нибудь, но он не нашелся, что именно, – по крайней мере, чтобы что-то изменить по существу. Как хорошо было бы обнять ее, как в прежние времена, положить голову ей на плечо и так замереть.
– Пока, Морин!
И осторожно, чтобы не хлопнуть, он закрыл за собой входную дверь.
Дома по Фоссбридж-роуд, выстроенные на холме, занимали, как любили отмечать агенты по продаже недвижимости, возвышенное положение, откуда открывался вид на весь Кингсбридж и даже на его окрестности. Их палисадники тем не менее сбегали под уклон под чересчур заметным углом, и растения в них так отчаянно цеплялись за бамбуковые подпорки, словно от этого зависела их жизнь.
Гарольд спустился по крутой бетонной дорожке к тротуару куда поспешнее, чем ему хотелось, заметив по пути пять новых проросших одуванчиков. Может, после обеда стоит обработать «Раундапом»[3]. Все же какое-то занятие…
Сосед, едва заприметив Гарольда, помахал ему и направился к смежной изгороди. Рекс был невысоким человечком с аккуратными ножками, маленькой головой и шарообразным туловищем посередине. Гарольд иногда всерьез опасался, что, если Рекс ненароком упадет, его будет невозможно остановить и он, словно бочонок, покатится с откоса. Рекс уже полгода, как овдовел – примерно тогда же, когда Гарольд вышел на пенсию. После смерти Элизабет он то и дело заводил беседы о том, как тяжела жизнь, и мог вести их часами.
«Надо хотя бы выслушать человека», – говорила мужу Морин, хотя Гарольд не мог понять, имела ли она в виду под этим «надо» его самого или вообще кого угодно.
– На прогулку? – уточнил Рекс.
Гарольд выбрал для ответа шутливый тон, безотказный, по его мнению, в тех случаях, когда не было времени и желания застревать надолго.
– Вам ничего не надо отправить, старина?
– Мне никто не пишет. С тех пор, как не стало Элизабет, мне шлют одни рекламки.
Он устремил взгляд в пространство, и Гарольд тут же смекнул, какой оборот обещает принять разговор. Он перевел глаза на небо, подернутое тончайшей, словно папиросная бумага, облачной дымкой.
– Чудесная выдалась погодка.
– Чудесная, – согласился Рекс.
Он помолчал и, чтобы заполнить паузу, вздохнул.
– Элизабет любила солнышко.
Снова помолчали.
– Удачный день для косьбы, Рекс.
– Очень даже удачный. Вы, Гарольд, отправляете траву на компост? Или мульчируете?
– От мульчирования, мне кажется, мусора многовато. И к обуви липнет, а Морин не любит, если я вдруг натопчу в доме.
Гарольд посмотрел на свои тапочки для парусного спорта и мысленно спросил себя, зачем их носить тому, кто вовсе не собирается ходить под парусом.
– Ну, ладно, мне пора. Хочу успеть к полдневной выемке.
И, помахивая конвертом, Гарольд вышел на тротуар.
Он впервые в жизни почувствовал разочарование оттого, что почтовый ящик замаячил впереди слишком скоро. Гарольд попробовал с ним разминуться, перейдя на другую сторону улицы, но ящик никуда не делся и по-прежнему ждал его на углу Фоссбридж-роуд. Гарольд поднес к прорези письмо к Куини и отчего-то замешкался. Он обернулся и понял, до чего же короток оказался проделанный путь.
Оштукатуренные особнячки на их улице различались оттенками желтого, розового и голубого. У некоторых еще с пятидесятых годов сохранились островерхие крыши с декоративными перекладинами, образующими полусолнце, другие обзавелись крытыми шифером надстройками, третьи претерпели полную реконструкцию в стиле швейцарских шале. Гарольд с Морин переехали сюда сорок пять лет назад, как только поженились. На первый взнос ушли все его сбережения, не осталось даже на покупку мебели и штор. Они не заводили близких знакомств, одни соседи постепенно сменялись другими, а Гарольд с Морин как жили, так и жили. Когда-то они держали овощные грядки, а рядом с домом вырыли декоративный пруд. Каждое лето готовили чатни[4], а Дэвид разводил серебристых карасей. Позади дома стоял пахнущий удобрениями сарай, в котором на высоких крюках висели садовые инструменты, мотки шпагата и веревки. Но и от них давным-давно ничего не осталось. Даже школу сына, до которой от их порога было рукой подать, теперь срыли бульдозером и на ее месте возвели район недорогого жилья – полсотни кричаще-ярких разноцветных домиков, освещаемых уличными фонарями в духе георгианских газовых рожков.
Гарольд мысленно вернулся к своему посланию к Куини и устыдился его жалких слов. Он представил себе, как сейчас вернется домой, где Морин зовет к себе Дэвида и где ничего не поменялось, кроме того, что Куини умирает в Берике, и его словно захлестнуло волной. Письмо застыло в темной пасти почтового ящика. Гарольд не мог просто так с ним расстаться.
– В конце концов, – вслух проговорил он, хотя поблизости не было ни души, – день сегодня отличный.
Никаких дел у него нет. Вполне можно прогуляться и до соседнего. И, чтобы не передумать, Гарольд поспешно свернул с Фоссбридж-роуд.
К скоропалительным решениям Гарольд не привык. Это сразу пришло ему на ум. После выхода на пенсию дни тянулись за днями, не принося никаких изменений – он только раздавался в талии да лысел понемногу. Ночами он спал неважно, а то и вовсе не мог уснуть. Однако, внезапно для себя очутившись у очередного столбика с почтовым ящиком, Гарольд вновь помедлил. Происходило что-то непонятное, а что, он и сам не мог понять, но, раз начав, уже не хотел останавливаться. На лбу выступили капельки пота, и кровь быстрее бежала по жилам от предвкушения. Если дойти сейчас до почтового отделения на Фор-стрит, то раньше завтрашнего дня его письмо не уйдет.
Гарольд двинулся дальше по улицам нового квартала. Солнце припекало ему затылок и плечи. Украдкой он бросал взгляды на окна домов и в некоторых не видел никого, а из других люди сами глазели на него, и Гарольд, чувствуя неловкость, торопился побыстрее пройти мимо. Порой в окнах он подмечал какой-нибудь неожиданный предмет: фарфоровую статуэтку, вазочку или даже тубу – доверчивые подобия самих жильцов, сторожевые вешки, выставленные ими на границе с внешним миром. Гарольд попытался представить себе, что узнает о них с Морин посторонний, проходящий мимо дома номер тринадцать по Фоссбридж-роуд, и с удивлением обнаружил, что из-за тюля на окнах не видно почти ничего. Он направился к пристани, ощущая подергивание в бедренных мышцах.
На море был отлив. Ялики, завалившись набок и обнажив просмоленные днища, торчали среди черной жижи, напоминавшей лунный ландшафт. Гарольд доковылял до свободной скамейки, потихоньку вынул из кармана письмо от Куини и развернул его.
Она помнила его. Все эти годы. А он жил себе и жил, как будто ее поступок ничего для него не значил. Он не попытался переубедить ее, не разыскал, даже не попрощался. Небо и пристань вдруг слились в одно туманное пятно: глаза Гарольда вновь наполнились слезами. Постепенно перед ним проступили расплывчатые очертания молодой женщины с ребенком. Оба держали перед собой что-то наподобие факелов – вероятно, рожки с мороженым. Женщина приподняла сынишку и усадила его на дальний конец скамейки.
– Хорошая погодка, – заметил Гарольд, опасаясь, как бы его плаксивый голос не приняли за старческую слабость.
Женщина ничего не ответила, даже не посмотрела на него. Склонившись к детскому кулачку, она слизала с рожка глянцевитый потек от растаявшего мороженого. Малыш тихо и сосредоточенно наблюдал, почти слившись с ней личиком в единое существо.
Гарольд попытался припомнить, доводилось ли ему сидеть с Дэвидом на набережной и есть мороженое. Он не сомневался, что такое наверняка бывало, но, перетряхивая память, он убедился, что не так-то просто извлечь оттуда что-то подобное. Пора идти. Надо отправить письмо.
Конторские служащие хохотали, расположившись с пивными кружками у паба «Старая гавань», но Гарольду не было до них никакого дела. Одолевая крутой подъем Фор-стрит, он размышлял о матери, настолько поглощенной своим сынишкой, что она ничего не замечала вокруг. Ему вдруг подумалось, что Морин, а не он разговаривает с Дэвидом и пересказывает ему все семейные новости. Морин и раньше писала сыну от имени их обоих и подписывалась за Гарольда («Папа») на поздравительных открытках. И опять же Морин подыскала дом престарелых для отца Гарольда. Сам собой напрашивался вывод, – это пришло ему в голову, когда он нажимал кнопку перехода-«пеликана» – не она ли, в сущности, и есть сам Гарольд.
«Кто же тогда я?»
Он, не задерживаясь, прошел мимо почтового отделения.
2. Гарольд, девушка с автозаправки и вопрос веры
Гарольд почти добрался до верхней оконечности Фор-стрит. Миновал здание закрытого ныне «Вулворта»[5], злого мясника («Он бьет свою жену», – утверждала Морин), доброго мясника («От него ушла жена»), часовую башню, городскую бойню, за ней конторы «Саут-Хэмс газет» и очутился у последнего на улице магазинчика. Икры ног ныли при каждом шаге. Устье реки у него на спиной сияло на солнце, словно начищенный оловянный лист, яхты издали походили на белые крапинки. У бюро путешествий Гарольд задержался, чтобы, не привлекая внимания, перевести дух, и встал у витрины, притворившись, будто интересуется горящими турами. Бали, Неаполь, Стамбул, Дубай… Его мать когда-то с упоением мечтала, как чудесно было бы сбежать в те страны, где растут тропические деревья, а женщины втыкают в волосы цветы, поэтому уже ребенком он подсознательно перестал доверять незнакомому миру за привычными пределами. Ничего, в принципе, не изменилось с тех пор, как он женился на Морин и у них родился Дэвид. Каждый год они отправлялись в Истборн и проводили две недели на одной и той же базе отдыха. Вдохнув несколько раз поглубже, чтобы унять сердцебиение, Гарольд направился дальше, на север.
Магазинчики сменились жилыми домами, выстроенными из розовато-серого девонширского камня. Некоторые были окрашены, другие облицованы плиткой и снабжены аппендиксами задних пристроек. Набирали цвет магнолии; их нарядные белые звездочки сидели прямо на голых, будто общипанных, ветках. Был уже час дня: к полуденной выемке он опоздал. Надо купить что-нибудь и заморить червячка, а потом уже искать ближайший почтовый ящик. Выждав промежуток в потоке машин, Гарольд перешел на другую сторону, к автозаправочной станции, где дома кончались и дальше расстилались поля.
За кассой зевала девушка. На табличке ее красного халата, накинутого поверх футболки и брюк, значилось: «Рады помочь». Немытые волосы сосульками свисали по обеим сторонам ее лица, сквозь них торчали уши, а угреватая кожа была до того бледной, словно девушку долго держали взаперти. Гарольд спросил, есть ли у нее легкие закуски, но девушка не знала, что это такое. Она приоткрыла рот, да так и застыла, забыв его захлопнуть. Гарольд даже обеспокоился, как бы перемена ветра не вынудила ее и дальше стоять за прилавком с разинутым ртом.
– Что-то перекусить, – пояснил он. – Чтобы утолить голод.
В ее глазах мелькнула искра понимания:
– А, вам гамбургер!
Она сонно потащилась к холодильнику и показала Гарольду, как разогреть в микроволновке «Барбекю чиз бист» с картофелем фри.
– Скажите на милость! – удивился Гарольд, глядя вместе с девушкой, как гамбургер вращается за стеклом в контейнере. – Я и не подозревал, что на заправке можно нормально поесть.
Девушка вынула гамбургер из микроволновки и подала Гарольду пакетики с кетчупом и соевым соусом.
– За бензин сразу посчитать? – спросила она, неспешно вытирая маленькие, словно детские, ручки.
– Нет-нет, я так, случайно зашел. Я пешком.
– А, – произнесла она.
– Иду отправить письмо одной моей давней знакомой. К несчастью, выяснилось, что у нее рак.
Гарольд вдруг осознал, что не смог с ходу выговорить ужасное слово и даже понизил перед ним голос. Более того, пальцами он изобразил неопределенного вида комочек. Девушка кивнула.
– У моей тети был рак, – сказала она. – Я просто хочу сказать, что он повсеместно.
Она пробежалась глазами по магазинным полкам, словно давая понять, что рак притаился даже за атласами автодорог и полиролью «Тертл Вакс».
– Но вы все равно должны надеяться на лучшее.
Гарольд перестал жевать гамбургер и промокнул рот бумажной салфеткой.
– На лучшее?
– Нужно верить. Я так считаю. Медицина и всякие лекарства тут ни при чем. Просто нужно верить, что человеку полегчает. Человеческий разум на такое способен, что и представить невозможно. В общем, если у вас есть вера, для вас нет ничего невозможного.
Гарольд благоговейно воззрился на девушку. Неведомо как, но она вдруг оказалась в полосе света, словно солнце нарочно передвинулось на нее, ее лицо и волосы озарились ярким сиянием. Вероятно, он смотрел чересчур пристально, потому что девушка пожала плечами и прикусила нижнюю губу.
– Я болтаю ерунду, да?
– Что вы, что вы! Вовсе нет. Наоборот, так интересно. Но я, видите ли, как-то всегда был не в ладах с религией.
– Тут дело не в религии. Я хотела сказать – верить в то, что вы не до конца понимаете, и добиваться любой ценой. Не сомневаться, что можете изменить что-то очень важное.
Она намотала на палец прядь волос. Гарольду пришло в голову, что он еще ни разу не встречался с такой простодушной убежденностью, к тому же у столь юной особы; ее доводы показались ему неопровержимыми.
– И что, ей полегчало? Вашей тете? Потому что вы на это надеялись?
Девушка так быстро накручивала на палец колечко из волос, будто оно невзначай прилипло к коже.
– Она сказала, что одна только эта надежда ее и поддерживала…
– Здесь работает хоть кто-нибудь? – выкрикнул у прилавка человек в светлом полосатом костюме.
Он бренчал о прилавок ключами от машины, хронометрируя потраченное впустую время. Девушка вернулась к кассе, где «полосатый» демонстративно поглядывал на часы. Он поднял руку, согнув запястье, и ткнул в циферблат:
– Через полчаса я уже должен быть в Эксетере!
– Бензин? – спросила девушка, занимая привычное место перед стеллажом с сигаретами и лотерейными билетиками.
Гарольду хотелось еще раз встретиться с ней взглядом, но она больше не смотрела в его сторону, снова поскучнев и потускнев, как будто никакого разговора о тете между ними не было и в помине.
Гарольд оставил деньги за гамбургер на прилавке и направился к двери. Вера? Кажется, так она сказала? Гарольд нечасто слышал это слово, и звучало оно удивительно. И хотя он не знал в точности, что девушка понимает под верой и осталось ли в мире хоть что-нибудь, во что верит он сам, все же она права. Это слово резонировало в его мозгу с ошеломляющей настойчивостью. В свои шестьдесят пять он уже успел почувствовать приближение осложнений: плохо гнущиеся суставы, занудный звон в ушах, слезящиеся от малейшего ветерка глаза, колющие боли в груди – предвестники более опасных недугов. Но откуда нахлынула эта волна чувств, заставившая все тело содрогнуться от притока потаенных сил? Гарольд свернул к шоссе А381, в котрый раз дав себе слово, что следующего почтового ящика ни за что не пропустит.
Кингсбридж понемногу оставался позади. Бывшая улица превратилась в односторонний проезд, вскоре лишившийся даже асфальта. Ветки боярышника, усыпанные остроконечными бутончиками и распустившимися пушистыми соцветиями, нависали над ним, образуя подобие туннеля. Гарольду то и дело приходилось отступать прямо в их гущу, спасаясь от проезжавших машин. Среди водителей попадались одиночки, вероятно, служащие, предположил Гарольд, судя по их застывшим физиономиям, будто из них напрочь выдавили всякую способность радоваться. Встречались и женщины с детьми – тоже с признаками усталости на лицах. Даже пожилые пары, вроде него с Морин, казались какими-то оцепенелыми. У Гарольда мелькнула было мысль проголосовать, но он ее отбросил. Из-за напряженной ходьбы он дышал с присвистом, и ему не хотелось лишний раз никого беспокоить.
Позади него раскинулось море, а впереди простирались холмы и голубели вдали очертания Дартмурской возвышенности. А что там, за ними? Блэкдаунские высоты, Мендипова гряда, Малверны, Пеннинские горы, Йоркширский дол, Чевиот и потом Берик-на-Твиде.
Но вот на другой стороне дороги возник почтовый ящик и, в небольшом отдалении от него, телефонная будка. Поход Гарольда на этом заканчивался. Он уже еле волочил ноги. По пути ему встретилось столько ящиков, что он сбился со счета, – и это не считая двух фургончиков «Ройял мейл» и рассыльного на мотоцикле. Гарольд вдруг подумал о том, сколько всего в жизни он упустил зря. Милые улыбки, дружеские угощения порцией пива, люди и люди без числа – на стоянке у пивоварни, просто на улице – на которых он даже не взглянул. Бывшие соседи, новые адреса которых он не удосужился сохранить. Хуже того, сын, не желающий с ним разговаривать, и жена, чьих надежд он не оправдал. Гарольд вспомнил и отца в доме престарелых, и чемодан матери у дверей. А теперь, через двадцать лет, напомнила о себе женщина, поступившая когда-то как настоящий друг. Выходит, вот как оно бывает? В тот самый момент, когда он решился что-то изменить, оказывается, что уже слишком поздно? И жизнь в конечном счете придется сдать без боя, все равно ведь ее обломки, сказать по правде, ничего не стоят? Осознание собственной беспомощности навалилось на Гарольда тяжким грузом, и он разом ослабел. Нет, просто послать письмо недостаточно. Надо найти способ изменить что-то глобально. Он принялся нащупывать мобильник и тут же понял, что оставил его дома. С посмурневшим лицом, нетвердой походкой Гарольд вышел на дорогу.
Рядом завизжали тормоза, и микроавтобус вильнул в сторону. «Раздолбай хренов!» – выкрикнул водитель, но Гарольд его не слышал. Он невидящим взглядом скользнул по почтовому ящику и, достав письмо от Куини, поспешно открыл дверь телефонной будки.
На конверте он отыскал адрес и телефон, но его пальцы так тряслись, что ему едва удалось нажать нужные кнопки, вводя свой пин-код. Наконец из тягостного безмолвия до него донесся тональный сигнал. Меж лопаток Гарольда стекала струйка пота.
После десяти гудков раздался щелчок, и женский голос с заметным акцентом ответил:
– Хоспис святой Бернадины. Добрый день.
– Будьте добры, я хотел бы поговорить с одной пациенткой. Ее имя – Куини Хеннесси.
В трубке молчали. Гарольд добавил:
– Это очень срочно. Мне нужно убедиться, что с ней все хорошо.
Женщина издала непонятный звук, очень похожий на долгий вздох. Гарольд похолодел: Куини умерла, слишком поздно. Он приставил стиснутый кулак ко рту.
Голос произнес:
– Сожалею, но мисс Хеннесси сейчас спит. Передать ей что-нибудь?
По земле стремительно неслись легкие тени от облачков. Над далекими холмами висела светлая дымка – не сумерки, а следствие необъятности расстояния. Гарольд представил, как Куини дремлет сейчас на одной оконечности Англии, а сам он стоит на другой, в телефонной будке, а также все, что их разделяет, пока неизведанное и о чем можно только догадываться: дороги, поля, реки, леса, болота, горы и долы, и множество людей. Со всеми ими ему еще предстоит повстречаться на пути. Он ничего не обдумывал наперед и не рассуждал. Решение пришло само, вместе с картиной, возникшей в его воображении, и Гарольд даже рассмеялся его внешней простоте.
– Скажите ей, что Гарольд Фрай уже в пути. Ей теперь нужно только ждать. Понимаете, я иду ее спасти. Я буду идти и идти, а она пусть живет. Передадите?
Голос пообещал. Может быть, еще что-нибудь? Знает ли он часы приема, ограничения для парковки?
Гарольд повторил:
– Я не на машине. Я хочу, чтобы она жила.
– Простите, вы что-то сказали о вашей машине?
– Я иду пешком. Из Южного Девона до самого Берика-на-Твиде.
Послышался беспомощный вздох:
– Ужасная связь… Куда вы идете?
– Пешком! – заорал он в трубку.
– Ясно, – неторопливо произнесла женщина, словно делая себе на листке пометку. – Пешком. Я ей скажу. Еще что-нибудь передать?
– Я отправляюсь прямо сейчас. Пока я в пути, она должна жить. Пожалуйста, передайте ей, что на этот раз я ее не подведу.
Гарольд повесил трубку и вышел из кабинки. Сердце в груди колотилось так, словно оно слишком разрослось и ему не хватает там места. Дрожащими руками Гарольд отклеил клапан конверта и вынул листок с ответом. Приставив его к стеклянной стене кабинки, он наспех черкнул постскриптум: «Жди меня. Г.» – и опустил письмо, тут же забыв об его существовании.
Он пристально посмотрел на ленту убегавшей вдаль дороги, на суровую стену Дартмурской возвышенности, потом перевел взгляд на свои тапочки для парусного спорта и задался вопросом, что же такое, черт побери, он только что натворил.
Над его головой захохотала и захлопала крыльями чайка.
3. Морин и телефонный звонок
У солнечного дня имелись свои выгодные стороны: на свету лучше проступала пыль, а выстиранное белье сохло едва ли не быстрее, чем в сушильном барабане. Морин уже вымыла, вытерла и отполировала до блеска все поверхности в доме, истребив на них любые живые микроорганизмы. Она успела постирать и высушить простыни, нагладила их и перестелила постели – свою и Гарольда. Какое облегчение, что муж в это время не путался под ногами: за полгода, как он вышел на пенсию, он почти не выходил из дома. Но свершив наконец все подвиги по хозяйству, Морин вдруг забеспокоилась, а потом и встревожилась. Она позвонила Гарольду на мобильник, но знакомые переливы маримбы донеслись с верхнего этажа, а вслед за ними – его запинающийся голос на автоответчике: «Вы звоните на сотовый телефон Гарольда Фрая. Очень сожалею, но… он не может сейчас подойти». Долгая пауза посреди фразы наводила на мысль, что Гарольд отлучался за самим собой.
Часы показывали начало шестого. Непредсказуемость была не в характере Гарольда. Даже привычные звуки – тиканье часов в прихожей, гудение холодильника – раздавались в доме громче, чем всегда. Куда же он подевался?
Морин хотела отвлечься разгадыванием кроссворда в «Телеграфе»[6], но оказалось, что Гарольд уже вписал туда все легкие ответы. Неожиданно у нее промелькнула ужасная мысль. Морин представила себе, как Гарольд лежит посреди дороги с отверстым ртом. Такое бывало: у людей случался сердечный приступ, и их потом разыскивали по нескольку дней. Или, может, в конце концов подтвердились ее тайные опасения. Неужели Гарольд, вслед за своим отцом, не избежал Альцгеймера? Тот умер, не дожив и до шестидесяти. Морин кинулась за ключами от машины, на ходу всовывая ноги в туфли для вождения.
А затем ей пришло на ум, что Гарольд, быть может, задержался с Рексом. Обсуждают, наверное, стрижку газона или погоду. Смешной он все-таки, Рекс… Морин снова поставила туфли у входной двери, а ключи повесила обратно на крючок.
Затем она тихо отворила дверь в комнату, за годы супружества получившую название «лучшей». Входя в нее, Морин всякий раз не могла отделаться от ощущения, что хорошо бы накинуть кардиган. Когда-то здесь стоял большой стол и четыре стула с мягкими сиденьями; каждый вечер в комнате ужинали за бокалом вина. Все это лет двадцать как миновало. Стол теперь убрали, а на книжных полках пылились альбомы с фотографиями, которые никто не раскрывал.
– Где ты? – вслух спросила она.
Тюль на окнах создавал преграду между Морин и остальным миром, лишая его цвета и плоти, и она была этому только рада. Солнце уже клонилось к закату. Скоро должны зажечься фонари.
Зазвонил телефон. Морин бросилась в прихожую и рывком сняла трубку.
– Гарольд?
Долгое молчание.
– Это Рекс, Морин. Ваш сосед.
Морин стала беспомощно озираться. В спешке она оступилась, наткнувшись на какой-то угловатый предмет, вероятно, забытый на полу Гарольдом.
– Что случилось, Рекс? У вас опять закончилось молоко?
– Гарольд дома?
– Гарольд?
В голосе Морин сама собой пробилась визгливая нотка. Если он не с Рексом, то где же тогда?
– Да, конечно, дома, – ответила она тоном, совершенно ей не свойственным – надменно-удрученным, точь-вточь какой был у ее матери.
– Я просто забеспокоился, не случилось ли чего. Я и не видел, как он возвратился с прогулки. Он ходил письмо отправлять.
В ее воображении вспышками пронеслись самые гибельные образы: «неотложка», полиция, сама Морин, держащая безжизненную руку мужа, и она не могла решить, нашла ли на нее внезапная дурь или она заранее прокручивает в голове наихудший исход, пытаясь предварить возможный удар. Она повторила, что Гарольд дома, и, не дожидаясь новых вопросов, повесила трубку. Ей тут же сделалось совестно. Семидесятичетырехлетний Рекс так одинок. И наверняка хотел, как лучше. Морин уже собралась ему перезвонить, но Рекс ее опередил: телефон затрезвонил прямо в руках Морин. Она ответила как можно невозмутимее:
– Рекс, добрый вечер.
– Это я…
Невозмутимый голос Морин сорвался на крик:
– Гарольд?! Ты где?
– Я на шоссе В3196. У трактира в Лоддисвелле, – сообщил он на удивление довольным голосом.
От их дома до Лоддисвелла было почти пять миль. Значит, никакого приступа с ним не случилось, он не упал на дороге и не забыл, кто он такой. Возмущение Морин перевесило облегчение. Впрочем, почти сразу у нее забрезжила догадка:
– Ты там не пьешь случайно?
– Выпил лимонаду и чувствую себя превосходно. Давненько мне не было так хорошо. Я тут познакомился с отличным парнем, он продает спутниковые тарелки.
Он умолк, как будто готовясь сообщить нечто судьбоносное.
– Морин, я дал зарок идти. Пешком до Берика.
Она решила, что ослышалась.
– Пешком? До Берика-на-Твиде? Ты?
Гарольда ее вопросы почему-то ужасно развеселили.
– Да! Да! – фыркнул он в трубку.
У Морин пересохло в горле, а ноги едва не подкосились. С трудом обретая дар речи, она произнесла:
– Я что-то не до конца понимаю… Ты идешь навестить Куини Хеннесси?