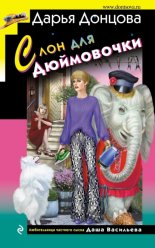Танец кружевных балерин Мартова Людмила

© Мартова Л., 2023
© Оформление. ООО «Издательство
В кружевах ее утопил, мебели incrustе' завел: на столах бронзы, фарфор, на стенах – Тинторетт, Поль Поттер, Ван-Дейк.
М. Салтыков-Щедрин, «Губернские очерки»
Все события вымышлены,
любые совпадения случайны.
Глава первая
В телефоне зазвонил поставленный на полдень будильник, извещая, что отведенное на работу время закончилось. Снежана с некоторым сожалением в последний раз переставила булавки на сколке, аккуратно прикрепила коклюшки, чтобы не перепутались, и встала, разминая уставшую за два часа плетения спину. Критически осмотрела панно, выполненное примерно на три четверти. Интересно, успеет она к первому апреля или нет?
Это крайний срок, когда нужно закончить работу над картиной, которой предстояло стать центральным объектом персональной выставки русской кружевницы Снежаны Машковской не где-нибудь, а в Лозанне. Открытие выставки запланировано на первое июня, а до этого момента все экспонаты еще предстояло оценить, застраховать, доставить в Швейцарию и смонтировать экспозицию в одном из выставочных центров на авеню Бержьер, напротив великолепного замка Больо и расположенного в нем главного музея города Арт Брют.
Скромная потомственная кружевница, владелица небольшого авторского ателье Снежана Машковская даже мечтать о подобном не смела, но ее пробивная тетушка-миллионерша Татьяна Елисеева-Лейзен не видела преград, когда дело касалось чего-то действительно значимого, а организовать для внучатой племянницы персональную выставку казалось ей делом архиважным.
Несмотря на то что в прошлом году швейцарская родственница разменяла девятый десяток, активности ей было не занимать, да и силы характера тоже. Выставка знаменитого вологодского кружева стала идеей фикс, и на ее воплощение в жизнь тетушка не жалела ни денег, ни связей, ни энергии. По задумке, гвоздем всей экспозиции будет панно, выполненное по старинному сколку их общей родственницы, знаменитой в девятнадцатом веке плетеи Таты Макаровой, в котором та зашифровала местонахождение клада.
Старинный сапфировый крест, кровавый след которого тянулся из глубины веков, Тата закопала на кладбище, на могиле своей любимой учительницы Софии Брянцевой. И никто даже думать не мог, что спустя сто пятьдесят лет охота за сокровищем приведет к новому убийству, а раскрыть его поможет Снежана, праправнучка Таты, и она же расшифрует карту, что позволит извлечь крест из земли и передать на хранение в музей[1].
История эта, попав в Интернет, разошлась достаточно широко и вызвала немалый интерес, причем как в России, так и за границей. Снежана подозревала, что это внимание зарубежных СМИ в немалой степени вызвано щедро оплаченной тетушкой рекламой. Тем не менее выставку ее во многом ждали именно потому, что публика оказалась в достаточной степени разогрета детективной историей, связанной с «кружевным убийством».
По сколку-карте Снежана и плела сейчас панно. Под ее ловкими пальцами тонкая нить превращалась в изображение Горбачевского кладбища, одного из старинных некрополей Вологды, рядом с действующим Лазаревским храмом, чьи купола уходили в небо на кружевном рисунке. Из-за необходимости полностью закончить работу выставку пришлось отложить.
Сплести картину размером сто семьдесят пять на сто восемьдесят пять сантиметров, то есть почти два на два метра, было не так-то просто, особенно если учесть, что Снежана ждала ребенка. Теперь Танечке, названной в честь Таты Макаровой и Татьяны Елисеевой-Лейзен одновременно, только что исполнилось год и восемь месяцев.
За коклюшки Снежана садилась в любую свободную минуту, но их выпадало не так уж и много, поскольку она не оставляла работу в ателье практически ни на день. Да и ребенок требовал постоянного внимания, а семья для Снежаны, поздно вышедшей замуж и познавшей радость материнства в тридцать пять лет, была гораздо важнее какой-то там выставки. Пусть даже и в Лозанне.
В Швейцарии она, конечно, побывала, поскольку тетка настояла, чтобы именно туда они с Зиминым отправились в свадебное путешествие. Снежана тогда была на четвертом месяце беременности, быстро уставала, у нее отекали ноги, все время хотелось спать и отчего-то плакать, а потому она радовалась, когда двухнедельный отпуск следователя Зимина подошел к концу и им пора уже возвращаться домой.
В Лозанне на несколько месяцев задержалась мама, тактично оставившая дочь с мужем наедине в пустой квартире и наслаждающаяся видами швейцарской природы и компанией Елисеевой-Лейзен, с которой они необычайно сблизились. Ирина Григорьевна вернулась домой перед самыми дочкиными родами и помогала ей с ребенком все это время. Мамина помощь была неоценима, без нее Снежана не могла бы ни работать, ни готовиться к выставке, ни просто справиться с Танюшкой, которая, к счастью, росла спокойным и здоровым, но все-таки непоседливым и крайне любознательным ребенком.
Снежана бросила взгляд на стоящую на рабочем столе фотографию, с которой улыбалась ее кудрявая дочка, и поспешила на кухню, чтобы разогреть обед. Сейчас мама с Танюшкой придут с прогулки, нужно будет накормить маленькую капризулю, а потом уложить спать, после чего спуститься в ателье, где на два часа назначена встреча с новой заказчицей.
Детектив, в который Снежана попала почти три года назад, прославил ее и в родном городе, и в обеих российских столицах, так что клиентский поток в ателье заметно вырос. Что ж, она не против, деньги семье нужны, а что работать приходится много, так ленивой она никогда не была и усердного труда не боится.
Правда, нужно было признать, что ее трудолюбие и, как следствие, высокий доход стали причиной охлаждения мужа. Михаилу, привыкшему, что он главный и за все отвечает, не нравилось, что вклад жены в семейный бюджет значительно солиднее, чем его следовательская зарплата.
Если бы он мог, то запретил бы Снежане работать, пеняя ей, что ребенку следует уделять больше внимания. Вот только не было у него в рукаве этого козыря. Во-первых, несмотря на неплохую, а с учетом премии отличную зарплату, четверть ее съедали алименты, и на оставшуюся часть никак не могла просуществовать семья из четырех человек с маленьким ребенком, неработающей пенсионеркой и единственным кормильцем. А во-вторых, сам он уделять внимание ребенку не мог совсем из-за адовой своей работы, которая заставляла срываться с места и днем, и ночью, и в выходные, и в праздники.
Как ни крути, Танюшка росла на руках у мамы и бабушки, а доходы Снежаны позволяли ни в чем себе не отказывать, в разумных пределах, разумеется. Зимин злился, Снежана это видела, но сделать ничего не мог, а оттого раздражался еще больше, и это постепенно разъедало всю существующую между ними нежность и доверие тоже. И как Снежана ни ломала голову, придумать лекарство от этой разрастающейся ржавчины не могла.
В довершение ко всему на рождественские каникулы и Новый год из Германии приехала Ксюша, почти семнадцатилетняя дочь Зимина от первого брака, к концу длинных выходных в полной семейной идиллии заявившая, что возвращаться к матери и ее новому мужу пока не намерена, а собирается остаться с отцом.
– Ксюша, тебя там что, обижают? – осторожно спросил Зимин, и за этой его сдержанностью, нарушаемой лишь мгновенно заигравшими на щеках желваками, Снежана увидела холодное бешенство, не сулящее новому мужу его бывшей жены ничего хорошего. – Скажи мне, Пауль совершил что-то плохое в отношении тебя?
– Пауль? – Ксюша фыркнула так энергично, что обрызгала стену какао, сваренным ей Ириной Григорьевной. – Пап, да он тютя. От него только и услышишь: данке, бите, фэрцайунк! Нет, просто мне там скучно. У меня все подруги тут. И у нас с ними интересы общие, понимаешь? А там как было все чужое, так и осталось.
– Но мама же привыкл. – Зимин говорил все так же осторожно, видимо не совсем понимая, как дочь отнесется к его словам, а главное, как отреагирует на всю эту ситуацию Снежана.
Дочь опять фыркнула, правда, не так энергично. По крайней мере, стена от какао не пострадала.
– Мама! Ей все нравится. У нее новая жизнь, новый муж, новая работа. И скоро будет новый ребенок.
Так, причина неожиданного демарша становилась понятна. Бедная девочка переживает, что после того, как появится малыш, матери не станет до нее никакого дела.
– Ксюша, мама будет тебя любить всегда. Всю свою жизнь. Ты это понимаешь? – Муж отчаянно смотрел на Снежану, словно надеялся, что она поможет ему какими-то особенно убойными аргументами. Она молчала, потому что лезть в его отношения с дочерью считала неправильным. – Никакие другие дети этого не изменят. У меня же тоже есть Танюшка, но ты не сомневаешься, что я тебя по-прежнему люблю?
– Сомневаюсь, – сверкнула глазами девушка. – Ты же не хочешь, чтобы я с тобой жила.
– Ксюша, я изначально хотел, чтобы мама, уезжая, оставила тебя со мной. И ты это знаешь. Тогда ты первая рвалась за границу, мечтая жить и учиться в Германии. Так что твой упрек как минимум несправедлив. Если ты серьезно хочешь остаться здесь, то, разумеется, я буду этому рад. А вот мама – не уверен. Поэтому изначально нам нужно получить ее согласие, а уже потом говорить обо всем остальном.
Первая жена, как ни странно, оставить дочь у отца согласилась.
– Я так устала от ее капризов, – сказала она нервно, – а в моем положении расстраиваться и переживать вредно. Пусть какое-то время поживет у тебя, глядишь, потом и образумится. Ей до университета еще два года, она же класс пропустила, когда сюда переехала. Разумеется, высшее образование она будет получать в Германии, это даже не обсуждается, но время еще есть, так что пусть тебе нервы помотает, а не мне. Деньги мне можешь не переводить. Тем более что слезы это, а не деньги. Триста евро в любом случае мне погоды не делают.
– Ты всегда умела виртуозно унижать, – процедил Зимин сквозь зубы. – И то, что наша дочь от тебя сбегает, во многом объясняется именно этим фактором. Решено, она останется у меня.
– И что? Твоя молодуха не возражает? – скептически осведомилась первая жена. – Ой, извини, я все время забываю, что она всего на пару лет младше меня. Ты хоть с ней посоветовался, Зимин? Или, как всегда, единолично принял решение, наплевав на мнение окружающих? У вас так-то тоже ребенок.
– Я разберусь, Маша, – сообщил Зимин и шмякнул телефон на стол, чувствуя, что впадает в бешенство.
Он всегда впадал в бешенство, когда разговаривал с первой женой. Снежана это знала. К тому, что Ксюша останется жить с ними, она отнеслась спокойно. Разумеется, ей и в голову не пришло спорить. Это его дочь, часть его прошлой жизни, которая неотделима от самого Зимина. К чему Снежана оказалась не готова, так это к тому, что муж примет решение обосноваться со старшей дочерью в их старой квартире, стоявшей пустой два с половиной года, с того самого момента, как он переехал к ней.
– Зачем, Миш? – спросила она, когда Зимин озвучил ей свое неожиданное решение. – У нас большая квартира, неужели мы все не разместимся в четырех комнатах?
– И как ты себе это представляешь? – спросил он довольно нервно. – Одна комната – наша спальня, вторая – Ирины Григорьевны, в третьей твоя мастерская. Мы что, оставим Ксюшу жить в гостиной? Так это не годится. Одно дело – провести на диване каникулы, другое – спать на нем постоянно. И компьютерного стола там нет, и шкафа, чтобы вещи развесить. К той квартире она привыкла, там все родное. И комната у нее своя, и вещи многие остались, и до старой школы пять минут ходу.
Снежана не хотела спрашивать, но все же спросила, понимая всю унизительность положения, в котором оказалась.
– А как же я, Танюшка? Ты понимаешь, что нельзя жить на две квартиры и оставаться полноценной семьей? Ты куда собираешься приходить со своих дежурств? К которой из дочек?
– Снежана, не нагнетай, пожалуйста, – сквозь зубы попросил Зимин. – Я не бросаю ни тебя, ни Танюшку. Просто у вас налаженная привычная жизнь, и моя задача отца наладить такую же для Ксюши. Ей непросто дался наш с Машей развод, ты же видишь, что она не прижилась в чужой стране и страшно переживает, что у родителей новые семьи и дети. Ей кажется, что ее стали меньше любить, и хотя это не так, в переходном возрасте недалеко до беды.
– Миша, твоей старшей дочери скоро семнадцать лет. Ее переходный возраст давно позади. Да, жизнь вокруг изменилась, но не мы с Танюшкой тому виной. Я появилась в твоей жизни, когда вы с Машей были уже в разводе. Я ничего ни у кого не отняла.
– Тебя в этом никто и не обвиняет.
– Да, но наказывает. Без вины. Вместо того чтобы встроить Ксюшу в твою новую семью, ты ее разрушаешь. Миша, а тебе не кажется, что ты просто стремишься вернуться в прошлое, потому что осознал, что совершил ошибку, женившись на мне? Там, в старой жизни, в прошлой семье, тебе было лучше, спокойнее и проще. И ты реконструируешь прошлое, пусть и в усеченном виде, без Маши, но все же прошлое, в котором ни мне, ни Танюшке нет места.
Муж помолчал, то ли обдумывая, что она сказала, то ли собираясь с силами.
– Ты знаешь, наверное, это правильно, какое-то время нам пожить отдельно, – наконец проговорил он через силу. – Я действительно считаю, что Ксюше это пойдет на пользу, а ты этого практически не заметишь. Ты же знаменитость и деловая леди, у которой день расписан по минутам. Когда я возвращаюсь с работы и падаю тебе под бок, ты мимоходом интересуешься, как дела, а потом уходишь в мастерскую, где сидишь за своими чертовыми коклюшками до часу ночи. Даже твоя мать интересуется мною с большим энтузиазмом, чем ты.
Снежане стало так обидно, что даже дыхание перехватило. Ну не может же муж не видеть, насколько ей трудно все успевать. На ней и управление ателье, и выполнение самых ответственных заказов, и подготовка к выставке, и Танюшка. Да, она действительно сидит за плетением до глубокой ночи, но лишь потому, что днем у нее не хватает на это времени. И спит она не больше шести часов, а то и меньше. И упрекать ее в холодности к мужу нечестно и несправедливо, особенно если учесть, что сам он приходит домой не раньше девяти вечера, и такой уставший, что даже говорить не может.
– Хорошо, будем считать, что ты прав, – спокойно ответила она, проглотив слезы. – Разумеется, дверь моего дома всегда будет для тебя открыта, если ты захочешь увидеть Танюшку.
– Дверь ТВОЕГО дома, – саркастически заметил Зимин. – Не НАШЕГО, а именно ТВОЕГО. Ты так и не дала мне возможности считать этот дом своим. И нет ничего странного в том, что я хочу вернуться к себе домой.
– Хочешь – возвращайся, – сказала Снежана и ушла в комнату-мастерскую. Звон коклюшек всегда ее успокаивал.
Через пару дней Зимин и Ксюша переехали в свою квартиру, налаживая новый совместный быт, а Снежана осталась с мамой и Танюшкой, обреченно осознавая, что на самом деле в ее ежедневном укладе практически ничего не изменилось. Отсутствие Зимина на повседневной жизни никак не сказывалось.
– Наверное, надо признать, что я не создана для семейных отношений, – со вздохом делилась она с мамой в последний день января, когда, уложив Танюшку спать, они сидели на кухне за ароматным чаем.
Ирина Григорьевна заваривала удивительный чай, колдуя над ним, добавляя какие-то травы и смешивая разные сорта. К чаю прилагались брусничное варенье и ватрушки с творогом, испеченные тоже Ириной Григорьевной. Нет, без мамы Снежана бы совершенно точно пропала.
– Проект под названием «Замужество» завершился полным крахом, – продолжила она. – И единственное, чему надо искренне радоваться, так это тому, что у меня теперь есть Танюшка. За это я буду Мише благодарна до конца моих дней. Если бы не он, так и сидела бы я бездетной старой девой.
– На мой взгляд, ты слишком драматизируешь ситуацию, – ответила мама степенно. – Ничего страшного не случилось. Произошло лишь то, что вы – два эгоистичных одиночки – не можете пойти навстречу друг другу, отказавшись от каких-то привычек и личного комфорта. Это вполне нормальный процесс притирки, который всгда бывает, когда сходятся люди зрелые, имеющие опыт прошлой жизни без своей второй половинки. Но это, разумеется, пройдет. Дело в том, что вы действительно любите друг друга, а в таком случае все рано или поздно налаживается.
– То есть ты считаешь, что это я виновата в сложившейся ситуации? – Снежана ушам своим не верила.
И это говорит ее мудрая и добрая мама, всегда выступавшая на стороне дочери?
– Я этого не говорила. Я сказала, что ты ТОЖЕ виновата. Надеюсь, обида и гордыня позволяют тебе понимать смысловую разницу?
– И в чем именно я не права?
– В том, что ты задвинула интересы своего мужа на последнее место. – Она заметила, что Снежана готова протестовать, и остановила ее повелительным движением руки. – Нет, я все знаю про твою занятость. Но семейная жизнь – это постоянный компромисс. Так уж устроены мужчины, что им важно чувствовать себя в центре вселенной. Вернее, быть этой вселенной. А Миша никогда ею не был. Он лишь одно из светил в созданном тобой созвездии и далеко не самое яркое. Тебе кажется, что ты все ловко устроила, жонглируя разными делами одновременно и равномерно распределяя время. Вот только ему этого мало.
– И от чего я должна была отказаться? – саркастически спросила Снежана. – От ребенка, от тебя, от бизнеса, приносящего деньги, или от персональной выставки в Лозанне?
– Господи боже ты мой. Иногда мне не верится, что я воспитала такую глупенькую дочь. – Мама наклонилась и в противовес своим словам поцеловала Снежану в лоб. – Да ни от чего не нужно отказываться. Дело всего-навсего в смысловых акцентах. Не в том, что ты делаешь, а как ты это подаешь. Помнишь этот замечательный анекдот про то, чем крыса отличается от хомяка?
– У нее пиар плохой, – буркнула Снежана.
– Вот и у тебя плохой пиар, моя девочка. Ты не сумела показать своему мужу, насколько он важен и значим для тебя. Ты, наоборот, стремилась ему показать, какая ты смелая, самостоятельная, решительная, готовая закрывать собой все амбразуры. А мужчины этого не любят. Им важно чувствовать себя защитниками. Особенно в вашей ситуации.
– А что в нашей ситуации такого особенного? – Снежана слушала с искренним интересом. Давно у них с мамой не выходило поговорить по душам, все времени не было.
– Вы познакомились и сошлись на том, что ты попала в беду, а Миша тебя спас. Ему и дальше было важно тебя спасать, но ты всячески от этого уклонялась, показывая ему, что все его усилия ничего не стоят. Спасибо, сами справимся. Что же удивительного в том, что при первой же возможности он кинулся спасать кого-то другого. Ксюшу.
– И на чем тогда основана твоя уверенность, что у нас все наладится?
– На знании жизни. – Мама улыбнулась. Улыбка осветила ее немолодое, но все еще красивое лицо когда-то очень любимой женщины. – Во-первых, я точно знаю, что твой муж тебя любит. Поверь, я на собственном опыте знаю, как это бывает, и могу отличить любовь от временного увлечения. А во-вторых, он кинулся удовлетворять свой инстинкт защитника, спасая свою дочь, а не какую-то другую женщину. И это как нельзя лучше подтверждает правоту моего первого постулата.
– И что делать? – спросила Снежана. Закручинившись, она подперла рукой щеку – ни дать ни взять сестрица Аленушка.
– Ждать. Бог любит терпеливых. Совсем скоро твой муж поймет, как сильно ему тебя на хватает, и когда это произойдет, ты должна будешь сделать первый шаг навстречу, потому что мужчине очень трудно признаться, что он совершил дичайшую глупость.
– И как долго ждать?
Снежана вздрогнула, вдруг представив себе долгую жизнь, в которой больше не будет следователя Зимина. Нет, пожалуй, такой жизни она не хотела.
– Кто ж знает. – Мама пожала плечами. – Если тебе повезет, то судьба подкинет ситуацию, в которой он будет вынужден снова броситься тебе на помощь. Тогда осознание придет быстрее. А если нет, то оно все равно придет. Скажем, когда спасение Ксюши перейдет в рутинную фазу и вместо глобальной цели опять возникнет обыденность, невыносимая оттого, что рядом нет тебя. А Ксюша, кстати, девочка хорошая. Мне понравилась.
– Пока что эта хорошая девочка оттяпала у Танюшки папу в свою полную собственность.
– Это так кажется. – Мама вдруг засмеялась. – Уверяю тебя, папа в полной и безраздельной собственности ей точно не нужен, потому что в скором времени он будет требовать, чтобы Ксюша ему тоже принадлежала полностью и безраздельно, а это совершенно точно не входит в планы этой юной леди. А что касается Таточки, – Ирина Григорьевна называла внучку именно так, – так она ровным счетом ничего не потеряет, ведь ее вечно занятой отец будет стремиться проводить с ней каждую свободную минуту. Она же чудо и прелесть, и твой Зимин от нее без ума.
Снежана в правдивости конструкции «твой Зимин» была не уверена, но верить маме очень хотелось. С того разговора прошло уже почти три недели, а с того момента, как муж переехал в отдельную жизнь, – полтора месяца, и пока никаких признаков того, что ситуация поменяется, Снежана не наблюдала. Ее муж звонил каждое утро, выясняя, все ли у них в порядке. В течение дня он старался заехать, чтобы повидать Танюшку, но делал это тогда, когда у него выдавалось свободное время. Иногда утром, иногда днем, иногда вечером.
Если Снежана в это время была дома, то она обязательно выходила к нему, подставляя щеку под дежурный поцелуй. Днем кормила супруга обедом, понимая, что он не успеет поесть в другом месте. Вечером Зимин от еды отказывался, потому что дома его ждал приготовленный Ксюшей ужин. Тогда сердобольная Ирина Григорьевна совала ему пакеты и судочки с пирожками, незаправленными салатами, котлетами или рыбой в кляре, которую Зимин очень любил.
По выходным, если не было дежурства, он забирал младшую дочь и уходил с ней гулять, возвращая домой веселую, разрумянившуюся, заливисто хохочущую Танюшку и становясь за эти два часа словно на пять лет моложе: таким же радостным, беззаботным, улыбающимся и краснощеким. После каждого такого визита на холодильнике обнаруживались оставленные им деньги. Разумеется, Снежана могла без них прожить, но дело было не в деньгах, а в ответственности, которую следователь Зимин нес за свою, нет, не семью, а просто младшую дочь. Они про эти деньги никогда не говорили.
Иногда, возвращаясь из ателье, Снежана обнаруживала мужа сидящим с мамой на кухне. Ирина Григорьевна его кормила, он с благодарностью ел и рассказывал ей что-то, а она слушала с живым и искренним интересом. Она действительно любила зятя. Вот только в отношениях со Снежаной все равно оставались холод и отстраненность, которые никак не проходили. И повод ее спасти все не появлялся, так что приходилось следовать совету мамы и просто ждать. Как она говорила: Бог любит терпеливых? Что ж, постараемся ему понравиться.
Она выключила кастрюлю с разогретым супом и снова бросила взгляд на часы. Десять минут первого, что-то мама с Танюшкой сегодня задерживаются. Раздался звонок в дверь, и, улыбнувшись, Снежана пошла открывать, предвкушая, как подхватит на руки дочь, расцелует в холодные с мороза щечки, начнет раздевать, тормоша и щекоча, а та будет заливаться веселым смехом, обхватывая ручонками мамину шею.
Она повернула ключ, распахнула дверь и слегка оторопела, увидев на пороге не маму и дочку, а соседку со второго этажа, одинокую тихую старушку Лидию Андреевну. Жила та очень замкнуто, не обременяя соседей своей персоной. Несмотря на то что с незапамятных времен они обитали в одном подъезде, в квартире у Лидии Андреевны Снежана никогда не бывала.
Та, будучи женой инженера-химика, работающего на крупных промышленных производствах, вслед за мужем моталась по всему миру, преимущественно по странам социалистического лагеря, разумеется. Когда муж вышел на пенсию, они вернулись домой и, будучи бездетными, тихо жили вдвоем, пока несколько лет назад муж не скончался, оставив Лидию Андреевну одну.
О помощи она никогда не просила, свое общество не навязывала, проблем не создавала, а встретившись в подъезде или на улице, здоровалась вежливо, вот и все. Тем удивительнее сейчас для Снежаны было видеть соседку на пороге.
– Здравствуйте, Лидия Андреевна, – опешив, проговорила она. – У вас что-то случилось?
– В том-то и дело, что я сама не знаю, случилось у меня что-то или нет, – сказала старушка чуть виновато. – Снежана, деточка, мне нужно с вами поговорить.
– Да вы проходите, – спохватилась Снежана. – Что ж на пороге стоять. Сейчас мои с прогулки вернутся, мы вместе с вами пообедаем, а потом я Танюшку уложу, и поговорим.
По-хорошему, потом Снежане нужно бежать на встречу с заказчицей, но отфутболить соседку посчитала невежливым со своей стороны.
– Нет, это долгий разговор, а у вас сейчас времени на него нет. – Лидия Андреевна имела наметанный глаз и неуверенность Снежаны отметила. – Давайте мы договоримся, что когда вы освободитесь, то спуститесь ко мне, и я все расскажу.
По лестнице поднимались мама и Танюшка.
– Хорошо, – согласилась Снежана, – я обязательно к вам зайду сегодня. После ателье. Это часа в четыре-пять будет. Нормально? Не поздно?
– Нет-нет, в моем деле нет ничего спешного, – засуетилась Лидия Андреевна. – Здравствуйте, Ирочка, здравствуй, Танечка.
Дочка уже тянула к Снежане ручки, пытаясь ее обнять. Та присела к малышке, принимая детскую радость. Мама тоже поздоровалась, вопросительно глядя на топчущуюся на площадке старушку. Следующие слова соседки заставили Снежану легонько вздрогнуть, поскольку они неоспоримо свидетельствовали, что восьмидесятидвухлетняя женщина впала в старческий маразм.
– Дело в том, что по ночам в моей квартире раздаются странные звуки, как будто кто-то, стараясь, чтобы его не услышали, ходит по комнатам и простукивает стены. Вы сейчас занимайтесь своими делами спокойно, но в пять часов я буду ждать. Мне нужен совет, девочка. Ваш и вашего мужа. Он же у вас следователь.
На данный момент Снежана сомневалась, что у нее вообще есть муж, зато в том, что обременять себя соседскими галлюцинациями он не станет, наоборот, была уверена на все сто процентов.
– Я обязательно зайду, Лидия Андреевна, – побещала она со вздохом. – Танюшка, пошли раздеваться и мыть ручки. Пора обедать.
Руки делали привычную работу, не нуждаясь в контроле со стороны мозга, позволяя мыслям в голове спокойно плыть по течению. Хотя какое тут, к черту, спокойствие. Мысли были тревожными и требующими принятия решения, которого у Клеменса не было. Как ни крути, а он только что совершил преступление, за которым наверняка последует неминуемая расплата. Пугала его, впрочем, лишь реакция Надежды. Наказания же он не страшился. Странно бояться того, что с тобой уже произошло.
Кроме того, Клеменс знал, что на легкие проделки пленных в лагере смотрели сквозь пальцы. Начальству не хотелось признаваться в том, что оно плохо следит за своими подопечными, а потому без неопровержимых улик здесь практически никогда не наказывали. К примеру, когда в минувшем сентябре несколько его товарищей по несчастью похозяйничали на местных огородах, принеся с собой в качестве трофеев картошку, морковь и лук, из которых была сварена вкуснейшая похлебка, дело спустили на тормозах.
На воришках не сказалось даже то, что огороды, на которые они так неосмотрительно налетели, принадлежали работникам областной прокуратуры. Им об этом сказал начальник лагеря, когда орал перед строем, грозя немыслимыми карами. На имя руководителя отдела по делам военнопленных и интернированных пришла гневная депеша от областного военного прокурора, но существующая между ведомствами вражда и традиционное желание защитить честь мундира и не выносить сор из избы сделали свое дело.
Милицейские, собственно и отвечающие за контроль над заключенными, предложили прокурорским поискать виновных в другом месте, заверив, что охрана военнопленных обеспечена надежно и шнырять ночами по чужим огородам они никак не могут.
Тогда все закончилось строгим внушением и угрозами возможных репрессий в случае, если подобное повторится. Даже к закручиванию гаек и ограничению свободного перемещения не привело.
Сразу после Победы исчезла охрана, до этого водившая пленных на объекты, где они работали. Их, грязных и оборванных, теперь сопровождали какие-то бабушки из домоуправлений, носящие с собой журналы, в которых прорабы расписывались за них, словно за полученное в аренду имущество. А потом пропали и бабушки, и теперь пленные добирались из бараков, в которых жили на окраине города, на заводы, фабрики и стройки самостоятельно.
Того, что они сбегут, никто не боялся. Некуда им было бежать. Но свободное перемещение имело свои плюсы, поскольку позволяло находить себе подработку. Летом – вскопать все тот же огород. Осенью – наколоть дров, зимой – расчистить снег. Семьям, потерявшим на войне мужчин, нужна была помощь по дому. Что-то приколотить, что-то подкрасить. За это давали хлеб или еще какую-нибудь еду, реже деньги.
Клеменс никогда не брал расчет за такую работу. Ни деньги, ни продукты. Ему хотелось верить, что дома, в далеком Лейпциге, кто-то точно так же, из добрых побуждений, помогает его маме и сестрам. О том, что его отец погиб на фронте, он знал из коротких писем, которыми обменивался с родными. Пленным разрешалось раз в месяц отправлять домой письма на двадцать пять слов. Он писал, что жив, здоров и благополучен. Спрашивал, как живут они. И все. Много ли информации вместится в двадцать пять слов, да и зачем волновать мать, рассказывая, что живется тяжко и голодно.
Ее ответные письма были чуть длиннее, но тоже содержали мало информации. «Живы. Вилда перенесла воспаление легких, но, слава богу, уже здорова. Из-за перебоев с газом дома очень холодно, потому и болеют. Урсула бьется с девочками. Ты же знаешь, она теперь вдова. Хелена устроилась на завод, там выдают дополнительное питание, поэтому с продуктами стало полегче. Ты, сынок, главное, себя береги…»
Клеменс берег себя как мог. Только это он сейчас мог сделать для мамы, которая фактически спасла ему жизнь, отсрочив отправку на фронт на год с лишним. Если раньше молодые люди подлежали призыву с двадцати лет, то с 1943 года военнообязанными становились уже с семнадцатилетнего возраста. Клеменсу Фальку исполнилось семнадцать в ноябре сорок третьего, но мама раздобыла где-то медицинскую справку о его слабом здоровье, благодаря чему его долго не трогали, и только в январе сорок пятого, когда под ружье уже забирали шестнадцатилетних, все-таки отправили на фронт, где он почти сразу попал в советский плен.
Клеменс искренне считал себя везунчиком. Во-первых, благодаря маме и волшебной справке его шансы выжить и не стать калекой сильно возросли. Во-вторых, то, что он оказался в плену фактически после первого же боя, как ни крути, тоже уберегло от гибели, а еще отвело от практически неизбежной необходимости самому стать убийцей. Наслушавшись разговоров в лагере для военнопленных, он то и дело мысленно благодарил бога за то, что на его руках нет чужой крови.
В плену, в лагере, который был оборудован в одном из районов старинного русского города, он вдруг осознал и понял, как много несчастий и страданий принес он сам и весь его народ людям. Даже здесь, глубоко в тылу, где нет авианалетов и бомбежек, все было пронизано, пропитано, прошито горем, человеческой бедой, которую невозможно ни избыть, ни забыть, ни простить.
Поначалу во время перемещений по городу его прямо посредине улицы накрывало паникой, казалось, что идущие мимо женщины накинутся на него, выцарапывая глаза, или улюлюкающие мальчишки закидают камнями. Но нет. Взгляды, в том числе горящие ненавистью, были, а насилия не следовало. Зато сострадание встречалось часто, вместе со всеми прилагающимися к нему атрибутами. К их баракам, расположенным в кирпичных отапливаемых цехах недостроенного завода, постоянно приходили местные жители, давали еду и теплые вещи.
И на стройку, куда попал работать Клеменс, тоже приносили хлеб и вареную картошку. А местные строители – начальник строительства и прорабы, вернувшиеся с войны часто покалеченными – хромающими и страдающими от последствий ранений, – делились махоркой и относились без любви и братаний, конечно, но по-человечески. И было в этом столько внутренней силы и достоинства, что у Клеменса сжималось сердце и наворачивались на глаза слезы.
Дом, в строительстве которого он участвовал, находился в самом центре города. Путь от барака на окраине, на территории строящегося крупного льнокомбината, занимал около часа. Стройка, законсервированная на годы войны, недавно вновь заработала, и среди пленных ходили упорные слухи, что в связи с необходимостью освобождать здания уже построенных цехов, в которых они, собственно говоря, и жили, их скоро отправят домой.
Клеменс старался не верить слухам, не позволять им оседать в голове и разъедать душу. Конечно, с одной стороны, он мечтал снова очутиться дома, увидеть маму и сестер, пройтись по улицам Лейпцига, в котором родился и вырос. Пообедать в столовой, где в честь его приезда накрыт праздничный стол и мама достала из буфета старинный прабабушкин фарфоровый сервиз. Где отсчитывают время висящие на стене старинные часы с редким боем, где можно завести музыкальную шкатулку-граммофон, прелестную, бессмысленную, но довольно дорогую вещицу, и под льющуюся механическую музыку словно оживут и затанцуют одетые в кружевную фарфоровую пену четыре танцовщицы-балерины, расставленные на стоящем у окна пианино.
С другой стороны, он знал, что ни сервиза, ни музыкальной шкатулки, ни фарфоровых балерин больше нет. Они были, нет, не украдены, вполне себе открыто взяты расквартированным в их квартире советским офицером, когда он уезжал на родину. Мать и сестры этому соседству, кстати, были даже рады. Офицер их не обижал, заняв самую большую спальню, остальные комнаты оставил в распоряжении Фальков, от щедрот своих делился продовольственным пайком, а его присутствие надежно защищало сестер от посягательств других военных. По тем временам немало.
Вот только, уехав, он забрал из их квартиры все мало-мальски ценное. Мать написала об этом скупо, боясь цензуры, но Клеменс понял и, прочитав, заплакал. Впервые с того момента, как ушел на фронт. Никогда до этого момента не плакал, а тут не смог сдержаться, так жаль ему стало, нет, не всех этих, несомненно, ценных безделушек, а в целом семейного уклада их теплого и любящего дома.
Словно только в этот момент он окончательно понял, что так, как было раньше, с торжественными обедами на фарфоре, музыкой и долгими семейными разговорами, никогда уже не будет. Странно, что это понимание пришло к нему не тогда, когда он узнал о гибели отца или получил известие о полном поражении его страны в той жестокой и бессмысленной войне, которую она сама же и объявила, а когда прочитал об экспроприации антикварных безделушек, которые собирал отец. Хотя не о таких уж и безделушках шла речь.
Это было летом одна тысяча девятьсот сорок шестого года, а сейчас шел февраль сорок восьмого, и двадцатиоднолетний Клеменс Фальк отчаянно надеялся, что его отправят домой, и с тем же отчаянием боялся, что это случится, потому что в его жизни появилась Надежда. Русская девушка Надя Строгалева, которой только-только исполнилось восемнадцать лет и с которой он вот уже несколько месяцев встречался тайком от всех. И от своих, и от чужих.
Свои его бы поняли. Вот только Клеменс интуитивно берег от жадных ушей и глаз то робкое, странное, доселе никогда не встречавшееся, немного болезненное, но очень светлое чувство, которое поселилось у него в груди. Он бы очень удивился, если бы узнал, что это чувство называется любовью. В условиях недавно закончившейся войны и мучительно длящегося плена о любви он даже не думал.
Просто смотреть в глаза этой девочки, так похожие на озера, коих было много вокруг Лейпцига, обнимать ее за тонкую талию, греть замерзшие на морозе руки под ее пальто, робко касаясь вздымающейся от волнения вполне взрослой груди, в свою очередь, согревать ее ручки своим дыханием, а потом накрывать губами ее губы, мягкие, нежные, неумелые, податливые, было таким невозможным счастьем, что у Клеменса начинала кружиться голова. Сладко-сладко.
Они впервые увиделись, когда Надя принесла военнопленным, работающим на строительстве большого жилого дома, несколько краюх хлеба.
– Мама послала, – сказала она.
Клеменс тогда взял у нее этот хлеб, взглянул в распахнутые глазищи и пропал, только и смог, что пролепетать «спасибо» и попросить приходить еще. А она пришла, а потом снова и снова, и он не сразу уяснил, что она ходит к нему, а когда понял, то пропал.
Для чужих их встречи были преступлением. И расплата за него в первую очередь ждала именно Надежду.
– Я теперь «немецкая подстилка», – с горечью проговорила она, когда между ними случилось все, что бывает между мужчиной и женщиной. – Это так ужасно, что я никому не могу о тебе рассказать. Даже маме не могу, хотя она – самый близкий мне человек. И бабушке. И подругам. Меня никто не поймет.
– Я – враг, – горько сказал Клеменс и снова ее поцеловал, потому что находиться с Надеждой рядом и не целовать ее было невозможно. – Я пришел с мечом на вашу землю, и тот факт, что я не успел никого убить, никак меня не оправдывает.
– Они все просто не знают, какой ты, – тихонько ответила девушка. – Если бы они тебя знали, то ничего такого не говорили бы. И меня не осуждали бы.
– А ты знаешь, какой я?
Она засмеялась. Тоненько, звонко. Ее смех пролетел под перекрытиями здания, которое он строил и в котором они тихонечко встречались, когда работа заканчивалась. В недостроенном доме было холодно, но их это не останавливало. Их вообще ничего не останавливало, словно где-то в глубине души оба знали, что их счастье будет очень коротким, и уготованная разлука приближается, и они не в силах это изменить.
– Ты – хороший, – прошептала она и поцеловала его в ответ, словно бабочка коснулась губ своим крылом, пролетая мимо. – Ты очень хороший, Клеменс. И такой мой, что мне даже страшно. Никто и никогда не был настолько моим.
Они говорили по-немецки, которым Надежда владела довольно сносно. Ее бабушка, та самая, про которую она говорила с нежностью и печалью, была учительницей немецкого языка. А еще Надя учила его русскому, и он старался, легко схватывая основы и запоминая слова. Клеменс Фальк вообще был способным учеником и, будучи сыном врача, собирался поступать на медицинский факультет университета. Просто не успел.
Иногда он мечтал о том, что вернется домой и все-таки станет врачом, как погибший отец.
– Давай поженимся, – предложил он как-то Надежде во время одной из встреч. – Тогда ты сможешь поехать вместе со мной. Я покажу тебе свой город, он называется Лейпциг, он очень красивый, познакомлю с мамой и сестрами. Они иногда бывают невыносимыми, но очень добрые. Старшая, Урсула, получила похоронку на мужа еще в сорок втором. Теперь одна воспитывает дочек-близняшек. Ей тридцать пять, а им по четырнадцать. Наверное, совсем уже взрослые. Хелене тридцать. Когда началась война, она собиралась замуж, но не успела, потому что ее жениха забрали на фронт. Он тоже погиб, а она вот уже пять лет не может с этим смириться. Даже слышать не хочет, чтобы встречаться с кем-то еще. А младшая, Вилда, на три года младше меня. Она – твоя ровесница, так что я уверен, что вы подружитесь.
– Как же я уеду. – Надежда даже засмеялась от такого предположения. – У меня тут мама, папа, бабушка. И тоже младшая сестра. Ее зовут Лида, и ей всего семь лет. Лучше ты оставайся. Правда, у нас в прошлом году вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР, запрещающий брак с иностранцами, но папа что-нибудь придумает. Я слышала, как он рассказывал маме, что в Череповце какая-то женщина вышла замуж за военнопленного. Правда, в нашем городе нет мединститута, но можно же и в другой город ухать. После того, как тебя освободят.
Ее детская наивность тронула Клеменса, он тоже громко рассмеялся.
– Ага. Так мне и дадут выучиться тут у вас на врача. Нет, даже если нам и позволят пожениться, то работать я смогу только на подсобных работах. И дело не в том, что мне придется проститься со своей мечтой лечить людей, просто ты такой жизни не заслуживаешь.
Оба замолчали, оглушенные невозможностью счастья.
Именно Надежда, ее тонкие веточки-ручки, ясные глаза, падающий ему на лицо шелк волос не давали Клеменсу в полной мере радоваться возможности скорого возвращения домой. Душа разрывалась надвое между тоской по родине, маме, сестрам, давней мечте и нынешним счастьем, которое дарили ему встречи с Надей.
Сегодня Клеменс впервые очутился у нее дома. День был особенно холодный. Жестокие морозы, неожиданные для февраля, заставили его задубеть еще по дороге на стройку. Ватник, выданный взамен давно истрепавшейся шинели, плохо согревал. Не спасал и поддетый под него тоже уже практически ветхий китель, встающий почти на тридцатиградусном морозе колом и неприятно царапающий кожу. Во время работы Клеменс так и не смог отогреться, хотя тяжелый физический труд и заставлял активно двигаться.
Прибежавшая к концу смены Надежда была одета в котиковую шубку и пуховый платок. При виде дрожащего возлюбленного, с красным носом и трясущимися губами, она горестно взмахнула руками.
– Ты так заболеешь. Знаешь что, пойдем к нам. Отогреешься, а еще я тебя покормлю. Бабушка сварила солянку. Это такой знаменитый русский суп. Я уверена, что ты его никогда не ел. Он очень вкусный, а главное – горячий. Это именно то, что тебе сейчас необходимо.
– Как это к вам? – не понял Клеменс. – Не надо, Надя (у него получалось «Надья»). Твои родители не поймут.
– А они ничего не узнают, – лукаво сообщила девушка. – Они вместе с бабушкой идут сегодня в театр. Начало через пятнадцать минут, так что они уже ушли. Пошли быстрее, и у нас будет часа полтора, которые мы можем быть уверены, что нам никто не помешает. Правда, дома Лида, но она никому ничего не скажет, если я ее попрошу.
Клеменс твердо знал, что идти к Наде домой нельзя. Это было неправильно. Могло случиться что угодно: отменят спектакль, станет плохо бабушке, и если родные Надежды вернутся раньше времени, случится непоправимое. Но он так замерз и проголодался, что тепло квартиры с протопленной печью, исходящий горячим паром неведомый суп под названием «солянка», а главное – возможность обнять Надежду на чистых белых простынях, где можно будет совсем-совсем раздеть ее, чтобы увидеть, запомнить, впитать в себя каждый сантиметр ее тела, манили тем искушением, которое молодой человек был не в силах преодолеть.
– Пойдем, – решился он наконец, заставив замолчать голос разума. – Если ты уверена, что это для тебя безопасно, то пойдем.
От возводимого, в том числе и его руками, здания до деревянного домика, половину которого занимала семья Надежды, идти не больше пяти минут. Клеменс точно это знал, потому что после каждого их свидания провожал ее до дома. Зимние ранние сумерки способствовали тому, чтобы эти прогулки оставались незаметными для чужого глаза, хотя уже сейчас он тосковал из-за того, что наступающая вскоре весна лишит их надежного прикрытия.
За неполных три года, что он находился здесь, Клеменс узнал, что такое знаменитые белые ночи, и до этого времени ему нравились весна и лето, когда не мерзнешь и наслаждаешься светом в окне. Было в этом что-то трогательное и очень романтичное. Но сейчас подбирающиеся к его счастью белые ночи казались неминуемым злом.
Отец Надежды был каким-то большим начальником, поэтому дом их располагался в самом центре города, практически напротив того самого театра, в который отправилась ее родня. Надя как-то сказала, что вроде бы именно в доме, на стройке которого они и познакомились, ее отцу и его семье должны дать новую квартиру.
Пока же они жили в деревянном строении, которое приходилось отапливать дровами, но тем не менее жить здесь было престижно. Еще бы, семья из пяти человек занимала четыре комнаты, одна из которых отводилась под общую гостиную, во второй располагалась спальня родителей, в третьей спали бабушка и Лида, а четвертая, совсем маленькая, но все-таки отдельная, отводилась самой Наде.
– В новом доме тоже четыре комнаты обещали, – рассказывала Надя, когда они болтали, обнявшись, чтобы согреться, после того таинства, которое теперь регулярно происходило между ними. – На третьем этаже, папа сказал. Бабушка переживает, что ей тяжело подниматься будет.
Клеменс знал, что четырехкомнатные квартиры в доме, который он строил, располагались лишь в одном подъезде. Потолки здесь высокие, а потому подниматься на третий этаж для пожилой женщины, разумеется, будет тяжело. Однако на первом, судя по планировке, намеревались устроить магазин, а квартира на втором, видимо, предназначалась кому-то более высокого ранга, чем отец Надежды. Не четвертый, под самой крышей, уже хорошо. Сам он за день взбегал по широкой, но достаточно крутой лестнице сотни раз и не чувствовал усталости.
Сейчас, не замеченные соседями, они нырнули за деревянную дверь, ведущую в некое подобие подъезда в деревянном доме, где жила семья Строгалевых, после чего Надя отперла дверной замок своим ключом и втянула Клеменса в темную прихожую, щелкнув выключателем.
– Раздевайся и проходи в гостиную. Это вон там, – шепнула она ему, стаскивая ботики на меху. – Я Лиду предупрежу, чтобы она сидела в их с бабушкой комнате и не выходила.
Клеменс стянул валенки, в которых ходил, и портянки, которые наматывал поверх носков для большего тепла, порадовался, что носки на нем сегодня целые и чистые, пристроил на вешалку у входа свой ватник и шагнул в указанные Надеждой двери. В комнате, которую она назвала гостиной, было темно, но он постеснялся искать выключатель, тем более что яркий свет может сделать его присутствие здесь заметным с улицы.