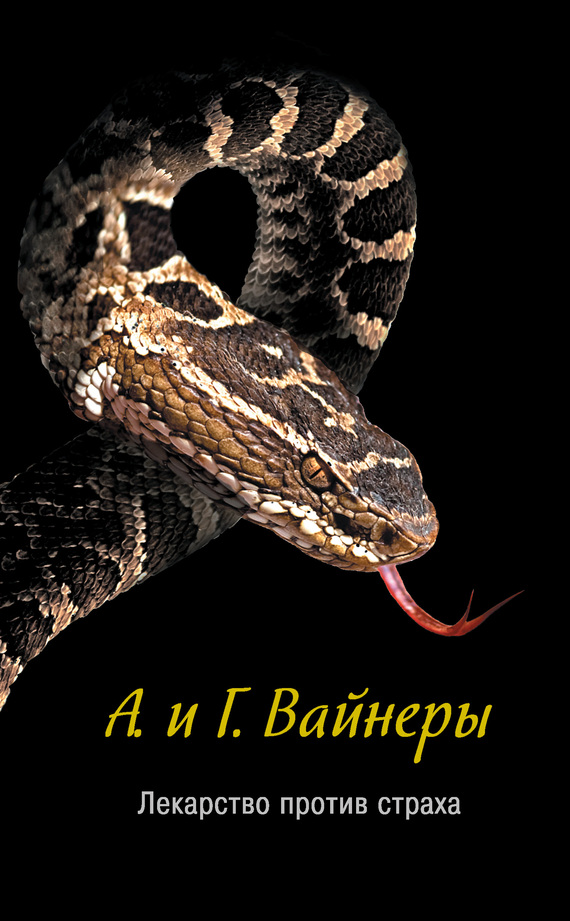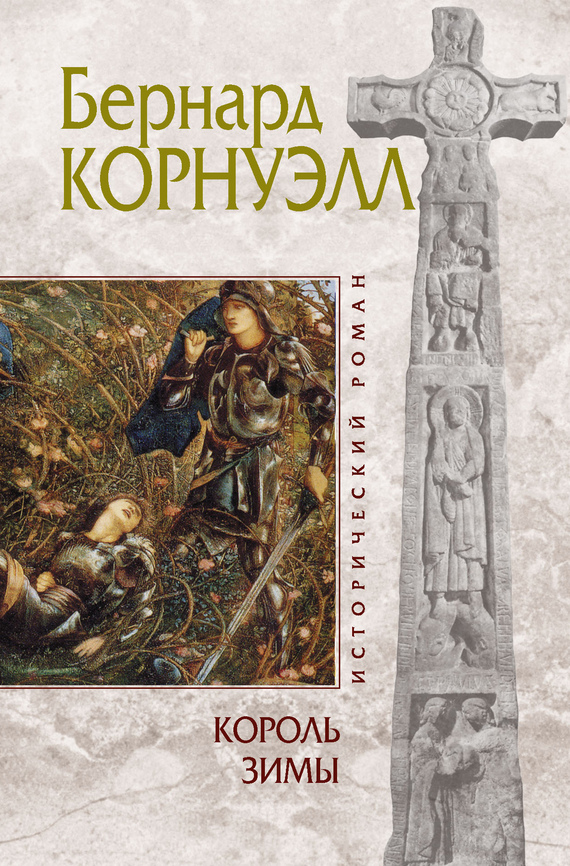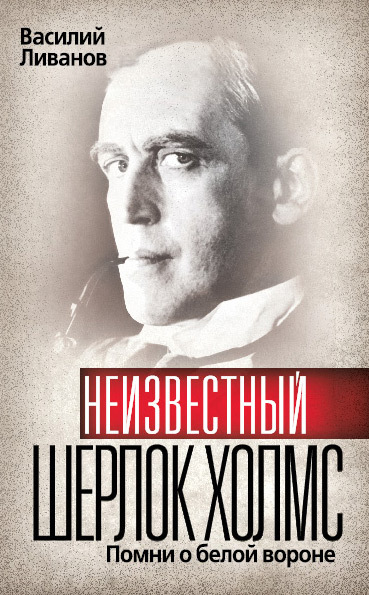Каббала Уайлдер Торнтон

– Нет, но в прошлую пятницу она показала нам Кронпринца во «Фраскатти».
– О, это вам повезло!
Впервые в жизни она начала водиться с художниками и имела у них наибольший успех. Созданный горем фон, по которому она живописала свои картины и который в те дни сообщал ее искусству особое волшебство, они видели гораздо ясней, чем фабриканты. Художники неизменно примечали его, и любовь к княгине подталкивала их к тому, чтобы делать ей удивительные подношения, хотя великое оцепенение ее души и не позволяло Аликс в ту пору по достоинству их оценить.
Какое-то время мне казалось, что она наслаждается происходящим. Смех, которым она встречала некоторые события тех дней, звучал так естественно. Более того, заметив ее сближение с несколькими необыкновенными людьми, я проникся надеждой, что дружба с синьорой Давени или с Дузе75, или с Беснаром76 сможет утешить ее и примирить с неизбежным. Однако в один из вечеров мне внезапно открылось, насколько пустыми были ее попытки найти спасение в джунглях.
После месячного отсутствия Джеймс Блэр написал мне из Испании, что вынужден хотя бы на неделю вернуться в Рим. Он обещал ни с кем не встречаться, держаться боковых улочек и убраться из города по возможности скорее.
Я отправил ему письмо, в котором выбранил его, как только умел. «Поезжайте куда-нибудь еще. Подобными вещами не шутят.»
Он не менее сердито ответил, что вправе рассчитывать на свободу передвижения не меньшую той, которой пользуются прочие люди. Нравится мне это или не нравится, но в следующую среду он возвратится в Рим, и ничто не сможет ему помешать. Блэр шел по следам алхимиков. Он пытался выяснить, осталось ли что-либо от их старинных тайных обществ, поиски вели его в Рим. Не имея возможности предотвратить приезд Блэра, я употребил всю свою энергию на то, чтобы по меньшей мере скрыть его. Я позаботился даже, чтобы мадемуазель де Морфонтен на субботу и воскресенье увезла Аликс в Тиволи, и чтобы большую часть остальных утр она позировала Беснару для портрета. Однако в области духа существует некий закон, требующий возникновения трагических совпадений. Кому из нас не приходилось сталкиваться с его проявлениями? И к чему в таком случае осторожничать?
Сарептор Базилис, провидец, ради встречи с которым Блэр возвращался в Рим, занимал три комнаты в верхнем этаже старого дворца, стоящего на Виа Фонтанелла ди Боргезе. Ходили слухи, будто он способен заставить молнию сверкать над своей левой рукой; что когда он в своих медитациях достигает экстаза, его зримо окружают изломанные дуги дюжины радуг; и что поднимаясь к нему по темной лестнице, приходится пробиваться сквозь подобные пчелиным рои приветливых призраков. В первой из комнат, где и проходили встречи с провидцем (по средам для адептов, по воскресеньям для начинающих), всякий мог с благоговением созерцать никогда не закрывавшуюся круглую дырку в кровле. Под дыркой располагалось оцинкованное углубление для сбора дождевой воды, в середине углубления стоял стул великого учителя.
Долгие медитации и пребывание в экстатическом трансе безусловно добавили его лицу красоты. Под гладким розовым челом медленно и неуловимо перемещались синевато-зеленые глаза, не лишенные способности вдруг становиться пронзительными; у провидца были также кустистые белые брови и борода, как у блейкова Творца. Вся его частная жизнь, по-видимому, сводилась (если не считать долгих пеших прогулок) к тому, что он день и ночь сидел под дырой в крыше, преклоняя ухо к шепчущему посетителю, что-то неторопливо записывая левой рукой или взирая в небеса. Многое множество людей самых разных профессий искало встречи с ним и всемерно его почитало. Думать о нуждах практических ему не приходилось, поскольку почитатели, услышав духовный глас, оставляли в цинковой вмятине внушительного вида пакеты. Кто приносил вино, кто хлеб, кто коричневые шелковые рубашки. Единственным свойственным человеку занятием, привлекавшим его внимание, была музыка, – говорили, что в те вечера, когда в театре «Аугустео» дают симфонические концерты, он обычно стоит у входа и ждет, пока кто-нибудь из прохожих, опять-таки услышав духовный глас, не купит ему билет. Если такого не подворачивалось, он, не питая горьких чувств, уходил своей дорогой. Провидец и сам сочинял музыку, гимны для пения без аккомпанемента, которые слышал, по его увереньям, во сне. Они записывались в обозначениях, смахивающих на наши, но не настолько, чтобы допускать дальнейшую транскрипцию. Я проломал несколько часов голову над партитурой одного из них, озаглавленного «Зри, как роза рассеянья обагряет зарю». Этот мотет для десяти голосов, хор ангелов последнего дня Творения, начинался без затей – пять линеек, скрипичный ключ, – но как прикажете интерпретировать внезапно возникавшее во всех партиях усыхание пяти линеек до двух? Я смиренно задал учителю этот вопрос. Он ответил, что воздействие, оказываемое музыкой в это мгновение, может быть выражено лишь посредством решительного отказа от обычного нотного письма; что экономия линеек знаменует собой проникновенность тона; что нота, на которой покоится мой большой палец, это ми, лиловатая ми, схожая по свойствам с чуть нагретым аметистом… музыка бессильна выразить… ах… роза рассеянья, она обагряет. Поначалу абсурдность его речей и поступков злила меня. Я изобретал способы спровоцировать его на очередную нелепицу. Я выдумал историю о пилигриме, подошедшем ко мне в нефе собора Сан-Джовани ин Латерано и сказавшего, что Господь повелевает мне отправиться вместе с ним в Австралию, в колонию прокаженных.
– Дорогой Учитель, – восклицал я, – как мне узнать, не в этом ли мое истинное предназначение?
Ответ оказался туманным. Я услышал, что Судьба есть мать решимости, и что предназначение будет явлено мне не через рассуждения, а через события. Сразу за этим мне было приказано не совершать поспешных шагов, но приложить ухо мое к лютне вечности и строить дальнейшую жизнь в гармонии с космическими обертонами. За год его посещали тысячи женщин из всех слоев общества, с самыми разными проблемами, и каждой он предлагал утешительную метафору. Они уходили с сияющими лицами; для них в этих фразах содержалась и глубина, и красота; они записывали их в дневники и повторяли про себя в минуты усталости.
Помогали Базилису две миловидные женщины, сестры Адольфини. Лизе, судя по всему, было лет тридцать, а Ванне около двадцати восьми. По их рассказам, они повстречались с ним в Итальянском квартале Лондона, где состояли служанками в балетной школе. Унижения и нужда почти лишили их сходства с человеческими существами. Каждый вечер в одиннадцать, расшнуровав последние туфельки учениц ночного класса, навощив полы, доведя до блеска перекладины и подтянув к потолку светильники, они отправлялись в расположенное по соседству «Кафе Рома», чтобы выпить по чашечке кофе, заедая его хлебом. Вот здесь им и выпало встретиться с Базилисом, помощником фотографа, вынашивающим грандиозные планы. Он был вице-президентом отделения общества Розенкрейцеров в Сохо – горстки клерков, официантов и склонных к идеализму парикмахеров, находивших возмещение обид, претерпеваемых ими в течении дня, в величии и блеске, которые они приписывали себе по ночам. Они сходились в погруженных в полумрак комнатах, приносили клятвы, возлагая ладонь на сочинения Сведенборга, читали друг другу доклады о получении золота и его метафизическом значении и с великой важностью избирали один другого на должности архи-адепта и magister'а hieraticorum77. Они вели переписку с подобными же обществами Бирмингема, Парижа и Сиднея и посылали кое-какие суммы последнему из магов, носившему имя Орзинда-Мазда с горы Синай. Свою власть над женским умом Базилис как раз и обнаружил, пристрастившись беседовать в кафе с двумя бессловесными сестрами. Широко раскрывая глаза, они слушали его рассказы о некоем работнике из-под Рима, случайно проникшем в гробницу Туллиолы, дочери Цицерона, и увидевшем висящую в воздухе неугасимую лампаду, фитиль которой питался непосредственно от Вечного Принципа; о сыне Клеопатры Цезарионе, сохраняемом в светозарном «золотородном масле», как то и поныне можно увидеть в одном находящемся в Вене подземном святилище; о том, что Вергилий вовсе не умер, но до сих пор проживает на острове Патмос, питаясь листьями одного удивительного дерева. Эти полные чудес истории, апокалиптические глаза рассказчика, волнующие ощущения, возникающие от того, что с тобой разговаривают без малейшей злобы, и вермут, которым он их угощал от случая к случаю, совершенно околдовали сестер. Они обратились в его безропотных рабынь; на деньги, отложенные ими, он открыл Храм, в котором его дарованиям суждено было познать необычайный успех. Девушки бросили балетную школу, чтобы стать для своего господина хранительницами очага. У них впервые появился досуг, который в сочетании с достаточным количеством пищи, с привилегией служения Базилису, с его доверительностью и любовью, лег на их плечи бременем почти невыносимого счастья. Ощущение счастья соразмерно смиренности, присущей человеку, смиренность же девиц Адольфини была столь всепроникающей, что места для изъявлений благодарности или удивления попросту не оставалось; даже достатку не удалось лишить их тела костлявости, а любви – умягчить жесткость их черт; даже явившийся следствием кое-каких осложнений с лондонской полицией переезд Базилиса в Рим, родной город его служанок, не произвел на них решительно никакого впечатления. Можно с уверенностью сказать, что и хозяин никогда не выказывал сестрам признательности за их молчаливую и искусную службу. Даже в любви он сохранял безразличие: сестры всего лишь помогали ему достичь того состояния нежного пресыщения чувств, без которого никакие философские медитации невозможны.
Вот под этой дыркой в небо мы и сидели с Блэром в половине двенадцатого ночи, ожидая, когда начнется публичный сеанс медитации. Мы пришли заранее и теперь, прислонясь к стене, наблюдали за кучкой посетителей, поднимавшихся по одному к открытой исповедальне, которую в данном случае представляло собой ухо учителя. Мелкий чиновник со слезящимися глазами и дрожащими руками; дородная дама среднего сословия, стискивающая большую хозяйственную сумку и быстро-быстро говорящая что-то о своем nepote78; маленькая, худенькая работница, возможно горничная, засовывающая в рот скомканный носовой платочек, чтобы заглушить рыдания. Глаза Базилиса редко задерживались на лицах просителей; взгляд его, когда он отсылал их, произнося несколько размеренных, важных фраз, не обнаруживал ничего, кроме отстраненной безмятежности. Спустя какое-то время, женщина помоложе, с лицом, скрытым густой вуалью, быстро пересекла комнату, направляясь к стоящему рядом с ним пустому стулу. Женщина, видимо, бывала здесь и раньше, ибо времени на приветствия тратить не стала. Она начала о чем-то просить его, явно раздираемая сильными чувствами. Слегка удивленный ее горячностью, он несколько раз прерывал ее словами «Mia figlia»79. Укоризны лишь распалили ее, и когда она, наконец, ладонью отбросила с лица вуаль, чтобы придвинуть его вплотную к лицу мудреца, я увидел, что это Аликс д'Эсполи. Ужас пронизал меня; я схватил Блэра за руку, знаками показывая, что нам нужно бежать. Но в это мгновенье княгиня, сделав гневный жест, словно она пришла не просить у мудреца совета, но объявить ему о своем решении, поднялась и повернулась к дверям. Взгляд ее с безошибочной точностью пал на нас, и мятежный свет в нем погас, сменившись страхом. На миг мы трое как бы повисли на одной ниточке ужаса. Затем княгиня все же собрала достаточно сил, чтобы искривить мучительно сжатые губы в подобье улыбки. Она подчеркнуто поклонилась каждому из нас по очереди и почти величественно покинула комнату.
Я немедленно вернулся домой и написал ей длинное письмо, прибегнув в нем к полной откровенности, как хирург в решающую минуту прибегает к ножу, махнув рукой на все предположения и догадки. Ответа я не получил. И дружбы нашей как не бывало. Мне еще предстояло часто видеться с нею, и под конец нам даже случалось мило беседовать, но любовь ее не упоминалась ни разу и глаза, смотревшие на меня, навсегда остались затянутыми пеленой безразличия.
После той ночи, когда княгиня столкнулась с нами у Базилиса, она прервала свои социальные изыскания так же внезапно, как начала. К розенкрейцеру она больше не приходила. Я слышал, что она пыталась найти утешение в том, что остается доступным нам во всех наших скорбях: она углубилась в искусство; карабкалась по стремянкам, уважительно устанавливаемым для нее в Сикстинской капелле, и сквозь лупу разглядывала фрески; вновь занялась своим голосом и даже немного пела на публике. Она отправилась в Грецию, но неделю спустя безо всяких объяснений вернулась. Какое-то время она провела в лечебнице – остриженная, бродила на цыпочках по палатам.
В конце концов, все утихло – и биение крыльев, и удары грудью о прутья клетки. Началась вторая стадия выздоровления: душевная мука, столь непомерная, что обратилась в телесную, заставив ее метаться, стихла теперь настолько, что можно было спокойно подумать. Вся прежняя живость покинула ее, она тихо сидела в гостиных друзей, вслушиваясь в разговоры.
И вот, мало-помалу, в ней стали проступать прежние чудесные качества. Сначала в обличии редких и неловких сарказмов, больше похожих на обмолвки; потом в виде сокрушенных рассказов, выставлявших ее в дурном свете; затем постепенно в ее разговор вернулись тонкость ума, энергия и самым последним – юмор.
Вся Каббала трепетала от радости, прикидываясь, впрочем, что ничего не замечает. И только однажды ночью, когда Аликс, сидя за столом, впервые вновь начала замысловато поддразнивать Кардинала по поводу его приобретенных в Китае привычек, только однажды он, когда пришло время подняться из-за стола, взял ее ладони в свои и глубоко заглянул ей в глаза с улыбкой, и осуждавшей ее за долгую отлучку, и приветствующей ее возвращение. Княгиня слегка покраснела и поцеловала его сапфир.
Я, мало что смыслящий в подобных вещах, полагал, что великая страсть миновала, и со страхом ждал минуты, когда замечу интерес, проявляемый княгиней к очередному северянину. Но одно незначительное происшествие показало мне, насколько глубокой может быть сердечная рана.
Как-то вечером, на вилле в Тиволи мы стояли с ней на балконе, с которого открывается вид на водопады. Всякий раз что она оставалась со мной наедине, очарование ее как-то никло; казалось, она страшится, что я попытаюсь вызвать ее на откровенность: уголки ее рта напрягались. Прославленный датский археолог, покинув комнаты, присоединился к нам и принялся рассуждать о водопадах и связанных с ними классических аллюзиях. Внезапно он прервал сам себя и, повернувшись ко мне, воскликнул:
– Да, меня ведь просили кое-что вам передать! Как же я мог забыть! Я познакомился в Париже с одним из ваших друзей, молодым американцем по фамилии Блэр, – постойте-ка, Блэр, я не ошибся?
– Вы не ошиблись, доктор.
– Какой замечательный молодой человек! Много таких среди американцев? Вы, княгиня, с ним навряд ли знакомы?..
– Нет, – ответила Аликс, – я тоже знаю его.
– Какой ум! Это вне всяких сомнений величайший из прирожденных ученых, какого я когда-либо встречал, и поверьте, быть может, величие его тем выше, что он ничего не пишет. И какая скромность, княгиня, – скромность великого ученого, сознающего, что знания, которые способен вместить разум одного человека, это не более чем пылинка. Я провел над его блокнотами целых две ночи и, честное слово, чувствовал себя так, будто встретился с Леонардо, вот именно, с Леонардо.
Мы оба стояли, как зачарованные, вслушиваясь в хвалы, волна за волной наплывающие на нас, и я не сразу заметил, что княгиня, храня на лице счастливую улыбку, без чувств оседает на пол.
Часть четвертая. Астри-Люс и Кардинал
Среди членов Каббалы бытовало неясное представление, будто я погружен в сочинение пьесы о Блаженном Августине. В рукопись никто из моих друзей ни разу не заглядывал (я и сам время от времени удивлялся, обнаруживая ее на дне моего сундука), но все относились к ней с чрезвычайным почтением. Особенно часто осведомлялась о ней мадемуазель де Морфонтен, приближавшаяся к моим бумагам исключительно на цыпочках, бросая на них несмелые косвенные взгляды. Именно об этой пьесе мадемуазель и упоминала в записке, полученной мною вскоре после бегства испуганного Блэра: «Не попытаетесь ли Вы так устроить Ваши дела, чтобы на несколько недель приехать ко мне на виллу? До пяти часов вечера здесь всегда очень тихо. Вы сможете трудиться над Вашей поэмой.»
Настало время и мне вкусить немного покоя. Я только-только вынырнул из бури безрассудных страстей Маркантонио и Аликс. Долгое время я просидел с запиской в руке, мои настороженные нервы умоляли меня проявить осмотрительность, удостовериться, что за приглашением не скрыто новых ночных истерик. Вот место, где до пяти часов вечера всегда очень тихо. Я, впрочем, предпочел бы иметь гарантии относительно пяти часов утра. «Вы сможете трудиться над Вашей поэмой». Да, пожалуй, единственная докука, которая может воспоследовать от этой удивительной женщины, кроется именно здесь, – она будет каждое утро спрашивать, как подвигается третий акт. Что же, пусть пристает ко мне с пьесой, мне это пойдет только на пользу. А какие чудесные вина хранятся в ее погребах. Женщина она, конечно, сумасшедшая, тут и спорить не о чем. Но сумасшедшая на благородный манер; такие встречаются раз в миллион лет. Я написал ей, что приеду.
Что могло быть успокоительнее первых проведенных там дней? Солнечных утр, с каждым из которых пыль все более плотным слоем ложилась на листья олив; утр, в которые уступчатый склон холма казался припудренным; когда в сад не долетало ни звука, кроме крика погонщика на дороге, воркования голубей, взбиравшихся, переступая, на конек домишки садовника, и загадочно замедленного звучания водопада, бронзового звучания. Одиноко сидя в виноградной беседке, я завтракал, а затем проводил день, бродя по холмам или слоняясь средь стульев с высокими спинками, стоявших в богатой курьезами библиотеке Астри-Люс.
В первые послеполуденные часы уже ощущалось приближение обеда. Некие струны официальной чопорности ощутимо подтягивались до тех пор, пока не начиналась сама церемония, взрываясь, подобно фейерверочной петарде, заполняющей все вокруг ослепительным светом и чарующими подробностями. Из того крыла дома, где находилась кухня, часами доносилось жужжание, словно из пчелиного улья; потом в коридорах поднималась беготня служанок, ведающих одеванием и прической, слуг, зажигающих свечи, и слуг, отвечающих за цветы. Хруст гравия под окнами объявлял о появлении первых гостей. Дворецкий, надев золотую цепь, занимал вместе с лакеями положенное место у дверей. Из своей башни спускалась мадемуазель де Морфонтен, слегка подкидывая пятками шлейф платья, чтобы проверить его податливость. Сидевший на балконе струнный квартет начинал играть вальс Глазунова, совсем тихо, словно повторяя про себя недавно заученное. Вечер обретал все большее сходство с поставленным Рейнхардом80 праздничным действом. Мы проходили в обеденную залу. Там во главе стола, за горами фруктов и листьями папоротника или за каскадами хрусталя и цветов восседала хозяйка, облаченная, как правило, в желтый атлас, ее высоколобое, некрасивое лицо освещала улыбка полубезумного изумления. Голову хозяйки обыкновенно венчала прическа с торчащими из нее во все стороны перьями, отчего она более всего походила на продрогшую птицу, занесенную сюда с Анд самым холодным из тихоокеанских ветров.
Я уже описывал обыкновение мисс Грие парить над своим столом, рассадив гостей так, чтобы ей был слышен каждый шепот самого удаленного из них. Астри-Люс придерживалась процедуры прямо противоположной и слышала из сказанного за столом столь немногое, что даже почетнейший из гостей зачастую терял надежду привлечь к себе ее внимание. Она казалась внезапно захваченной оцепенением; глаза ее смотрели куда-то в потолок, как у человека, пытающегося расслышать хлопанье далекой двери. На другом конце стола обычно сидел кто-либо из Каббалистов: мадам Бернштейн, сжавшаяся в комочек под роскошной меховой пелериной, похожая на хворую шимпанзе и поворачивающая то вправо, то влево лицо, которого не покидала одобрительная, дружеская гримаска; герцогиня д'Аквиланера, истинный портрет кисти Морони81 – платье в пятнах, чем-то испачканное лицо, непонятным образом приводящее на ум сразу всех бесподобных в своем беспутстве и буйстве баронов ее рода; или Аликс д'Эсполи, делающая редкостной красоты руками пассы, обращая каждого из гостей в приятнейшего, остроумного и полного энтузиазма собеседника. Мисс Грие, вынужденная править собственными празднествами, появлялась редко. Нечасто удавалось пригласить и Кардинала, поскольку общество для него приходилось подбирать с бесконечным тщанием.
Почти каждый вечер, после того, как последний из гостей покидал холм или отправлялся в постель, и последний из слуг завершал поиски еще не приведенной в должный порядок мелочи, мы с Астри-Люс спускались в библиотеку и вели долгие беседы за рюмочкой выдержанного французского коньяка. Тогда-то я и начал понимать эту женщину, тогда я увидел, в чем мои первые суждения о ней были ошибочными. Она отнюдь не была ни глупой старой девой, обладавшей несметным богатством и вынашивавшей роялистскую химеру, ни чувствительной дурочкой из благотворительного комитета, – нет, она представляла собой христианку второго столетия. Робкую религиозную девочку, так слабо связанную с окружающим ее миром, что в любое из утр она могла, проснувшись, не вспомнить, как ее зовут, и где она живет.
Мне Астри-Люс всегда казалась примером того, насколько бесплодна добродетель без разумения. Благочестие как бы плотным облаком обволакивало это милое существо; рассудок ее никогда не уклонялся надолго от помыслов о Создателе; каждое ее побуждение являло собою саму добродетель: но в голове у нее было пусто. Ее благие деяния были бесчисленны, но бестолковы, она становилась легкой добычей всякого, кто додумывался написать ей письмо. По счастью, жертвовала она немного, ибо не могла различить границы между скупостью и расточительностью. Я думаю, она была бы очень счастлива, доведись ей родиться среди слуг: она понимала смысл служения, видела в нем красоту, и если бы ей еще выпало побольше унижений и испытаний, то лучшей пищи для души ей не пришлось бы и желать. Святость без препятствий невозможна, а ей никак не удавалось отыскать ни одного. Она то и дело слышала о греховности гордыни, сомнения и гнева, однако ни разу не ощутила ни малейшего их приступа и потому миновала ранние стадии духовной жизни в состоянии полнейшего недоумения. Она ощущала себя испорченной, греховной женщиной, но не понимала, как взяться за собственное исправление. Леность? Каждое утро, еще до появления горничной она по часу проводила на коленях. Так трудно, так трудно обрести добродетель. Гордыня? В конце концов, после напряженного исследования собственной души она, как ей показалось, отыскала в себе ростки гордыни. И отыскав, набросилась на них с яростью. Ради искоренения порочных наклонностей она заставляла себя публично совершать пугающие поступки. Тщеславное любование собственной внешностью или богатством? Она намеренно грязнила рукава и лиф своего платья, терпеливо снося молчаливый испуг друзей.
Писание она понимала буквально, – я собственными глазами видел и не единожды, как она, снимала плащ и отдавала его бедняку. Я видел, как она прошла несколько миль с подругой, попросившей проводить ее до дороги. Теперь мне стало ясно, что поражавшие ее приступы рассеянности были уходами в себя ради поклонения и молитвы, уходами, которые порой порождались событиями попросту смехотворными. Я больше не удивлялся, отчего ее омрачают любые упоминания о рыбе и рыбной ловле; я сообразил, что греческое слово «рыба» представляет собой монограмму имени Спасителя, и потому действует на нее, как зов муэдзина на магометанина. Кто-то из заезжих гостей позволил себе непочтительно отозваться о пеликане, – мадемуазель де Морфонтен немедленно удалилась к своему внутреннему алтарю – возносить молитвы о том, чтобы гостю не пришлось горестно каяться из-за неуважения, проявленного к одному из ярчайших Его олицетворений. Несколько позже я столкнулся с одним из самых удивительных примеров подобного рода. Как-то раз она приметила на столике у меня в прихожей письмо, адресованное мисс Ирен Х. Спенсер, школьной учительнице-латинистке из Гранд-Рапидс, переплывшей океан, чтобы своей рукой прикоснуться к Форуму. В тот же миг Астри-Люс стала настаивать на встрече с нею. Я так и не рассказал мисс Спенсер, по какой причине она удостоилась изумительного завтрака, почему пригласившая ее женщина, затаив дыхание, слушала рассказ о ее незатейливых путевых впечатлениях, и с какой стати ей в пансион была назавтра прислана золотая цепочка, увешанная сапфирами. Мисс Спенсер была правоверной методисткой и весть о том, что эти ее ИХС означают нечто, только повергла бы ее в ужас.
Но какой бы странной ни казалась мадемуазель де Морфонтен, она никогда не выглядела смешной. Столь полное самоотречение по одной лишь чрезмерности своей могло стать заменой разума. Она определенно обладала способностью ронять время от времени замечательные по проницательности суждения, суждения, порождаемые интуицией и минующие кривые коридоры нашего рассудка. Порой она могла быть невыносимой, порой – выказывать почти чудотворное понимание чьих-либо нужд. Люди, до такой степени несхожие, как донна Леда и я, питали к ней любовь, то почти снисходительную, как к неразумному дитяти, то благоговейную, как к существу, чьи возможности беспредельны. Так ли уж точно знали мы, у кого гостили? Что если в нее – буквально, буквально! – воплотился…?
Таким было существо, понимание которого пришло ко мне во время поздних бесед в библиотеке, за рюмочкой выдержанного коньяка. Разговаривали мы неспешно, то и дело умолкая, и в сущности ни о чем, но моему многое уже повидавшему инстинкту не потребовалось долгого времени, чтобы прийти к убеждению, что моя собеседница хочет поделиться со мной чем-то для нее чрезвычайно важным. Скоро я понял, что покоя мне не видать. Явственные затруднения, с которыми сталкивалась Астри-Люс, стараясь перейти к сути дела, только усиливали мой страх перед близящимися откровениями. Вскоре, однако, вместо того, чтобы пытаться избегнуть этого разговора, я начал его провоцировать; я норовил, так сказать, отворить разговору жилы, полагая, что смогу помочь Астри-Люс, не сходя с места, если застану ее проблему врасплох. Но нет. Счастливый миг все не наступал.
Как-то вечером она отрывисто поинтересовалась, сильно ли помешает моей работе поездка в Анцио – на несколько дней. Я ответил, что съездил бы с большим удовольствием. Об Анцио я всего только и знал, что это один морских курортов в нескольких часах езды от Рима, что там находится одна из вилл Цицерона, и что неподалеку расположен Неттуно. С некоторой тревогой в голосе она добавила, что нам придется поселиться в отеле, да еще и очень плохом, но сейчас не сезон и к тому же у нас найдутся способы восполнить недостатки обслуживания. Она позаботится, чтобы я не испытывал чрезмерных неудобств.
Итак, в одно из утр мы погрузились в большой, неказистый автомобиль, который она держала для путешествий, и покатили на запад. Заднее сиденье использовалось в качестве складского помещения. Там можно было различить горничную, prie-Dieu82, подлинное панно работы Фра Анжелико, ящик вина, пятьдесят книг и некоторое количество оконных занавесок. Позже я обнаружил, что у нас также в изобилии имелась икра, foie83, трюфели и составные части редкостных соусов – всем этим она, демонстрируя пугающее непонимание моей натуры, намеревалась дополнить то, что в состоянии был предложить нам туристский отель. Машину она вела сама, и вела так, что сразу становилось ясно: Небеса давно от нее отвернулись. Единственную остановку мы сделали в Остии, – чтобы я мог осмотреть то самое место, в котором разыгрывалась последняя сцена моей несчастной пьесы. Мы прочитали вслух страницу из Августина, и я молча дал обет отказаться от каких бы то ни было помышлений о том, чтобы ее переложить.
В первый наш вечер в Анцио с моря дул холодный ветер. Виноградные лозы и ветви кустарников хлестали по стенам домов, в кафе по ту сторону площади лампы безрадостно мотались над мокрыми столиками, и никуда нельзя было деться от заунывного плюханья волн о стену набережной. Однако нам обоим такая погода была по душе. Около шести мы решили пройтись до Неттуно с тем, чтобы в половине десятого вернуться к обеду. Мы завернулись в прорезиненные плащи и отправились в путь, сгибаясь навстречу ветру и брызгам, но испытывая удивительную приподнятость. Сначала мы двигались молча, однако достигнув того участка дороги, что укрыт высокими стенами вилл, Астри-Люс наконец начала разговор:
– Я уже говорила вам, Сэмюэль (вслед за княгиней вся Каббала называла меня Сэмюэлем), что главная надежда моей жизни – увидеть Францию под королевским правлением. Насколько невозможным кажется это сейчас! Никто не понимает этого лучше, чем я. Но ведь и все, что я люблю, представляется совершенно невероятным. И когда мы начнем подготавливать признание божественного права королей догматом Церкви, именно кажущаяся несвоевременность этой меры и поможет нам больше всего. Сколько злобы, какое глумление она вызовет! Даже важные деятели Церкви устремятся в Рим, чтобы умолить нас не подрывать подобным шагом распространение католицизма. Начнутся споры. Во всех газетах и журналах поднимутся крики, насмешки, жалобы, и само основание демократического правления, все безумие республиканизма выставится напоказ. Европа очистится от яда, который ее отравляет. Мы не боимся споров. Народ обратится к Богу и станет просить, чтобы им правил тот королевский дом, какой выберет Он. – Однако, я говорю об этом не для того, чтобы склонить вас на нашу сторону, Сэмюэль, я лишь подвожу нас к другой теме. Вы протестант, вас не раздражают такие разговоры? Я вас не утомила?
– Нет-нет, продолжайте. Мне очень интересно, – откликнулся я.
В это мгновение дорога снова вывела нас к кромке воды. Мы постояли у парапета, глядя на шумное море, бившееся о камни, на которых обычно занимались стиркой деревенские жители. Пошел дождь. Вцепившись в железный поручень, Астри-Люс смотрела на пыль, летящую над волнами, и безмолвно плакала.
– Быть может, – продолжила она, когда мы возобновили наш поход, – вы в состоянии вообразить десятую часть того разочарования, с которым я смотрю, как стареет Кардинал и я тоже, как народы все глубже погрязают в заблуждениях и никто ничего не предпринимает. Он может помочь нам. Мне кажется, что он именно для того и создан. Я помню о его трудах в Китае. Он проявил истинный героизм. Но насколько более великий труд ожидал его в Европе! Годы проходят, а он так и не покидает Джаниколо, читая и гуляя по саду. Европа гибнет. А он не желает ударить пальцем о палец.
На сей раз я почувствовал себя глубоко тронутым. Дождь, ее слезы, лужи, удары волн о парапет разбередили мои чувства. Каждый из голосов природы твердил: «Европа гибнет». Я бы и сам остановился и с наслаждением выкрикнул что-нибудь несусветное, но нужно было прислушиваться к голосу, звучавшему рядом со мной:
– Я не могу понять, отчего он не пишет. Возможно, мне и не дано этого понять. Я знаю, он верит, что становление универсальности Церкви неотвратимо. Я знаю, он верит, что Католическая Корона – это единственно возможный способ правления. Но он не хочет даже пошевелиться, чтобы помочь нам. Мы все упрашиваем его написать книгу о Церкви и Государстве. Подумайте, Сэмюэль, с его ученостью, логикой, стилем – вы когда-нибудь слышали его проповеди? С его полемической иронией, изумительными завершениями речей! Что бы тогда осталось от Бозанкета84? Конституции всех республик, какие есть на свете, пришлось бы попросту выбросить, – простите меня, если я кажусь неуважительной по отношению к вашей великой стране, – выбросить, как раздавленную яичную скорлупу. Это была бы не просто еще одна вышедшая из-под печатного пресса книга: она обратилась бы в cтихийную силу; произошло бы мгновенное рождение идеи в тысячах умов. Ее бы сразу канонизировали и стали переплетать в одной обложке с Библией. А он проводит день за днем среди кроликов и розовых кустов, читая историю того, историю другого. Я хочу сделать это, пока я жива, я хочу подтолкнуть великого человека к выполнению его задачи. И вы можете мне помочь.
Меня трясло от возбуждения. Воздух наполнился божественным абсурдом. Вот человек, не боящийся прибегать к превосходным степеням. Сходить с ума, так уж на широкую ногу. Трудновато будет спуститься в обычную жизнь после таких опьяняющих угроз всем президентам, какие существуют на свете, да заодно уж и переплетным мастерским Британского библейского общества. Я попытался придумать, что мне сказать в ответ. И промямлил нечто насчет того, что я готов.
Она не заметила моего несоответствия ситуации.
– Мне кажется, – продолжала она, – что я открыла одну из причин, по которой он не питает охоты присоединиться к нам. Но сначала расскажите мне, как к нему относятся известные вам жители Рима? Какие разговоры ходят о нем среди людей, которые близко его не знают?
Тут я испугался. Неужели и она тоже слышала? Как могли доползти до нее эти странные слухи?
Нет, от меня она ничего не узнает. Махнув рукой на добросовестность и честность, я пересказал ей все благоприятные для Кардинала отзывы, которые слышал. Простых людей пленяла мысль о том, что не считая тех случаев, когда ему приходится выполнять свои высокие обязанности, он тратит на жизнь шестьдесят пять лир в неделю; что он говорит на двенадцати языках; что он любит поленту; что он безо всяких церемоний посещает некоторые римские дома (и ее в частности); что он с исключительной точностью перевел на китайский язык «Исповедь»85 и «Подражание»86. Я знал римлян, которым до того приятна была самая мысль о нем, что они приходили на холм Джаниколо с единственной целью – заглянуть в калитку его сада, и слонялись вокруг дома Кардинала в надежде, что детям представится случай поцеловать его перстень.
Астри-Люс слушала меня молча. Под конец она сказала, с еле заметным неодобрением в голосе:
– Вы щадите меня, Сэмюэль. Но я все знаю. О нем рассказывают и другие истории. Враги Кардинала, не покладая рук, подрывают его престиж. Мы-то знаем, что в Риме нет человека добрее, скромнее и благороднее его, но среди простых людей у него репутация чуть ли не монстра. Кое-кто намеренно и неустанно распространяет подобные слухи. И Кардиналу известно о них: из пересудов слуг, из выкриков на дороге, из анонимных писем – источников сколько угодно. Ему кажется, что он живет во враждебном мире. И это трагедия его старости. Вот почему он не желает писать. Тем не менее, мы еще в силах спасти его. – Но послушайте! Вон там почтовая лавочка. Давайте купим сигарет и поищем место, где можно присесть. Я чувствую себя такой счастливой, разговаривая об этом.
Мы запаслись сигаретами и отправились на поиски ближайшей винной лавки. За следующим поворотом дороги желание, охватившее нас, вызвало из небытия требуемое заведение – это был продымленный, негостеприимный туннель, но мы уселись, каждый со стаканом кислого, похожего цветом на чернила вина, и продолжили составление заговора. Астри-Люс заявила, что если бы дурная слава пристала к имени Кардинала вследствие каких-то его действительно неблаговидных поступков, то нам нечего было бы и надеяться развеять ее. Забредая в зыбкие области слухов, правда становится несокрушимой. Однако она знала, что в данном случае пятна на репутации Кардинала возникли вследствие хорошо организованной кампании и питала уверенность, что кампания противоположного толка все еще способна эту репутацию обелить. Прежде всего, наши враги воспользовались свойственным итальянцам предубеждением против всего, что идет с Востока. При виде китайца итальянца пробирает дрожь сладкого ужаса, – точь в точь как американского мальчика при упоминании люка, открывающегося прямо в реку. Кардинал возвратился с Востока пожелтевшим, морщинистым. Походка какая-то не такая. Вот вам и основания, чтобы пустить по трастеверинским трущобам слушок насчет того, что он держит дома странные изображения, что поздней ночью можно слышать, как жутко визжат его животные (в саду было полным-полно кроликов, уток и цесарок), что кое-кому случалось видеть, как его китайские слуги принимают навевающие ужас позы. Да и сама скромность его жизни будоражила воображение. Ведь все же знали, что он баснословно богат. Рубины величиною с кулак и сапфиры размером с шишаки на дверных ручках, – куда они все подевались? А ты когда-нибудь подходил к калитке этой самой виллы Вей-Хо? Ну так пойдем в воскресенье, сходим. Если как следует потянешь носом воздух, учуешь странный такой запах, но только имей в виду, что потом несколько дней будешь спать на ходу и видеть всякие сны.
Нам предстояло переменить все это. Мы сидели в лавчонке, подбирая членов комитета по реабилитации Кардинала. Понадобятся журнальные статьи, заметки в газетах. Близится его восьмидесятилетие. Значит, будут подарки. Мадемуазель де Морфонтен готова пожертвовать церкви, состоящей под его покровительством, запрестольный образ, написанный Рафаэлем. Но самое главное – отправить в народ наших агентов, чтобы они рассказывали о достоинствах Кардинала, о его простоте, его пожертвованиях больницам, пусть намекают даже на его сочувственное отношение к идеалам социализма; он должен стать Народным Кардиналом. У нас в запасе есть анекдоты о том, как он отчитывал невежественных членов Конклава, как защитил бедняка, укравшего церковный потир. Придется также внушить трастеверинцам иное отношение к Китаю. И так далее. Необходимо укрепить дух Кардинала, дабы Кардинал мог укрепить дух Европы.
Когда мы возвратились в отель, Астри-Люс выглядела помолодевшей лет на десять. Судя по всему я был первым, кому она поведала о своих мечтах. Ей до того не терпелось взяться за дело, что она вдруг спросила меня, не стану ли я возражать, если мы уложимся и этой же ночью вернемся в Тиволи. Лучше приступить к нашим трудам прямо с утра. На самом-то деле ей, чтобы уснуть, были необходимы волнения и усталость, порождаемые вождением автомобиля – ее жутким вождением. И мы вновь погрузили в машину горничную, Фра Анжелико, ингредиенты соусов, кошку и около двух часов утра вернулись на виллу Горация.
Кардиналу не следовало знать о том, что мы возводим леса вокруг его имени, собираясь подновить краски, однако необходимо было уговорить его не совершать в дальнейшем кое-каких поступков, возбуждающих в публике особенную враждебность. Тем же самым утром Астри-Люс робко попросила меня пойти повидать его. Ей казалось – она и сама не знала почему, – что теперь, когда я осведомлен о ее надеждах, моим глазам станут доступны какие-то важные детали.
Я нашел его, как и всякий мог найти в любой из солнечных дней любого года, сидящим в саду с книгой на колене, с лупой для чтения в левой руке, с ручкой в правой, с капустным кочаном и кроликом у ног. Рядом на столе возвышалась стопка книг: «Гештальт и действительность» Шпенглера, «Золотая цепь», «Улисс», Пруст, Фрейд. Поля их уже покрыла паутина писаных зелеными чернилами замечаний, свидетельствующих о пристальности внимания, способной смутить и величайшего из авторов.
Увидев меня, идущего по усыпанной ракушками тропке, он отложил увеличительное стекло.
– Eccolo, questo figliolo di Vitman, di Poe, di Vilson, di Gugliemo James – di Emerson, che dico!87 С чем пожаловали?
– Мадемуазель де Морфонтен хочет пригласить вас пообедать у нее в пятницу вечером, нас будет только трое.
– Очень хорошо. Замечательно. Что еще?
– Какой подарок вы хотели бы получить ко дню рождения, святой отец? Мадемуазель де Морфонтен просила меня тактично выспросить…
– Тактично! Сэмюэлино, прогуляйтесь до дома, до задних комнат и скажите сестре, что вы остаетесь завтракать. Для меня готовят китайское блюдо из овощей. Вы присоединитесь ко мне или предпочтете немного ризотто с пюре из каштанов? Впрочем, вы можете купить себе что-нибудь поосновательнее внизу, под холмом. Как себя чувствует Астри-Люс?
– Очень хорошо.
– Небольшая хворь пошла бы ей на пользу. Мне с ней как-то не по себе. Знаете есть доктора, которые чувствуют себя не в своей тарелке, когда им приходится разговаривать со здоровыми людьми. Они слишком привыкли к умоляющим глазам пациентов, спрашивающим: «Буду ли я жить?». Вот так и мне неуютно рядом с человеком, который никогда не страдал. У Астри-Люс глаза, словно бы сделанные из голубого фарфора. У нее честное, чистое сердце. Конечно, приятно проводить время в обществе человека с честным и чистым сердцем, но о чем с ним разговаривать?
– А как же Святой Франциск, он…?
– Так он был распутником в юности или думал, что был. Senta!88 Кто способен, не согрешив, понять, что такое религия? кто способен, не познав страданий, понять, что такое литература? кто способен понять, что такое любовь, не узнав безответной любви? Ecco!89 Первые признаки того, что Астри-Люс попала в беду, появились всего лишь месяц назад. Есть один Монсиньор, которому ее миллионы понадобились для возведения церквей в Баварии. Каждые два-три дня он взбирался на ее холм в Тиволи и шептал ей в ухо: «И богатящихся отпустил ни с чем».90 Бедняжку охватил трепет, так что очень скоро Бавария получит несколько огромных соборов, уродливых настолько, что описанию они не поддаются. О, да известно ли вам, что в Библии для каждого человека отыщется текст, способный его потрясти, совершенно так же, как для каждого здания существует музыкальная нота, способная разрушить его? Моего я вам не открою, но если хотите, могу сообщить, чем пронять Леду д'Аквиланера. Она женщина чрезвычайно злопамятная, и говорят, во время чтения «Отче наш» всегда начинает скрипеть зубами при словах: «Как и мы прощаем должникам нашим».
Тут он рассмеялся долгим безмолвным смехом, сотрясавшим его тело.
– Но разве Астри-Люс не была всей душой предана матери? – спросил я.
– Нет, она не испытала чувства потери. Ей было только десять лет. Она опоэтизировала свою мать, вот и все.
– Святой отец, как случилось, что присущая ей прямолинейная вера не привела ее в монастырь?
– Она обещала умирающей матери, что посвятит жизнь возведению Бурбонов на французский престол.
– Святой отец, неужели вы можете смеяться над ее преданностью делу, которое…?
– Нам, старикам, позволительно смеяться над вещами, которых вы, только начинающие изучать человеческую природу, можете не удостоить даже улыбкой. Ах-ах-ах, правление Бурбонов! Вы бы удивились, посвяти я всю свою жизнь восстановлению браков между сестрой и братом в правящей верхушке Египта? То-то и оно! Шансов на успех здесь примерно столько же.
– Святой отец, а почему бы вам не написать еще одну книгу? Смотрите, у вас тут почти все великие книги, написанные в первой четверти моего столетия…
– И должен сказать, до крайности глупые.
– Так почему бы вам не даровать нам еще одну? Великую книгу, отец Ваини. О самом себе, что-то вроде «Опытов» Монтеня – о Китае, о ваших зверьках, об Августине…
– Остановитесь! Нет, нет! Перестаньте сию же минуту! Вы пугаете меня. Неужели вам непонятно, что безумное чаянье будто я способен написать книгу, было бы в моем случае первым признаком старческого слабоумия? Да, я могу сочинить нечто, превосходящее всю эту грязь, которую нам предлагает ваш век (резким ударом он своротил башню из книг, кролик взвизгнул, с трудом ускользнув от опасности быть раздавленным «Этюдами» Швейцера). Но Монтенем, Макиавелли, э… Свифтом мне не стать никогда. Какой это ужас, вообразить, что в один прекрасный день вы, придя сюда, застанете меня пишущим. Да оградит меня Господь от подобного безрассудства. Ах, Сэмюэль, Сэмюэлино, хорошо ли это с вашей стороны – явиться поутру к старому крестьянину и пробудить в нем все его грубые, гордые помыслы. Не надо, не поднимайте. Пусть их пачкают кролики. Что происходит с этим вашим двадцатым веком…? Вам угодно, чтобы я хвалил его потому, что вы расщепили атом и согнули луч света? Что ж, я готов, готов. – Можете сказать нашим богатым друзьям, но только тактично, что я хотел бы получить ко дню рождения китайский коврик, выставленный сейчас в витрине магазина на Корсо. Я нарушил бы приличия, сказав больше того, что если двигаться к Пополо, магазин будет слева. – Пол в моей спальне с каждым утром становится все холоднее, а я всегда обещал себе, что к восьмидесяти годам заведу у кровати коврик.
Что же пошло не так?
В течение первого часа все складывалось прекрасно. Кардинал всегда ел очень мало (никогда не прикасаясь к мясу) и до нелепого медленно. Если суп отнимал у него десять минут, то рис требовал уже получаса. Можно с уверенностью сказать, что зародыш последовавших вскоре осложнений присутствовал в самих характерах двух друзей. Они были столь несхожи, что человеку, слушавшему их разговор, начинало казаться, будто перед ним играют утонченную комедию. Прежде всего, Астри-Люс совершила ошибку, упомянув баварского Монсиньора. Она подозревала, что Кардинал не питает симпатии к каким бы то ни было могущим возникнуть у нее планам помощи Церкви в подобных делах, и ей не терпелось обсудить с ним вопрос о том, как ей распорядиться своим богатством, однако Кардинал не пожелал дать ей ни малейшего совета. Он избегал этой темы с неисчерпаемой изобретательностью. При настроениях, царивших в ту пору в Риме, было чрезвычайно важно, чтобы он ни в коей мере не влиял на эту сторону жизни своих друзей. Тем не менее он не скрыл от Астри-Люс своей уверенности в том, что она, решая эту проблему, наделает глупостей. Ему было больно видеть, как столь мощное орудие прогресса гибнет, попадая в руки церковных администраторов.
Нам следует помнить и о том, что дело происходило в канун его восьмидесятилетия. Мы уже видели, какую насмешливую горечь вызывало у него это событие. Как сам он сказал впоследствии, ему следовало бы умереть в тот миг, когда он оставил свою работу в Китае. Прошедшие с той поры восемь лет были сном, становившимся чем дальше, тем пуще запутанным. Жизнь – это борьба, и вдали от поля сражения в сознании Кардинала происходили пугающие перемены. И вера – это тоже борьба, а поскольку бороться ему более не приходилось, обрести веру было не в чем. Да и бесконечное чтение как-то сказалось на нем… Но прежде всего нам следует помнить об ужасе, овладевавшем Кардиналом при мысли, что народ Рима ненавидит его. Умерев, он оставит после себя память, в которой не будет места ни любви, ни достоинству. Анонимное письмо поведало ему, что даже в Неаполе детей приводят к послушанию угрозами отдать их Желтому Кардиналу, который сдерет с них кожу. Будучи молодым, над такими слухами можно и посмеяться, но старея, становишься чувствительным к холоду. Он уходил из мира, где при его имени содрогались от страха, в другой, утративший некогда присущую ему ясность очертаний, но еще способный даровать хотя бы то утешение, что оттуда не увидишь, как люди исподтишка плюют на возведенные в превосходную степень слова, составляющие твою эпитафию.
Я и опомниться не успел, как мы оказались втянутыми в ожесточенную перепалку по поводу сущности молитвы. Нам с Астри-Люс всегда хотелось послушать рассуждения Кардинала на отвлеченные темы. Она часто пыталась вызвать его на спор насчет обращения к святым или того, как часто следует ходить к причастию. Кардинал шепнул мне однажды, что ей хочется выдоить из него материал для календаря, для тех слащавых наставлений, которые она покупает во дворце Святого Сульпиция. Каждое его слово ей представлялось священным. Она, не колеблясь, поместила бы Кардинала в витражном окне церкви рядом со Святым Павлом. Так что прошло несколько мгновений, прежде чем она усмотрела в его словах нечто странное. Может быть, в этом и состоит Доктрина Церкви? Если что-то в его речах представляется ей непонятным, нужно лишь очень постараться и уловишь смысл. Истина, новая истина. Вот она и слушала, поначалу с удивлением, затем со все возрастающим ужасом.
Кардинал ухватился за парадокс, состоящий в том, что молящемуся нельзя ни о чем просить. Диалектика его творила чудеса. Он решил прибегнуть к сократовскому методу и задавал Астри-Люс вопросы. Несколько ее правоверных посылок потерпели крушение. Дважды он уличал ее в ереси, осужденной Церковными Соборами. Она попыталась уцепиться за послание Святого Павла, но послание развалилось прямо у нее в руках. Она в третий раз вынырнула на поверхность и получила по голове извлечением из писаний томистов. На прошлой неделе Кардинала призывали к смертному одру некой донны Матильды делла Винья, теперь он приволок эту несчастную донну Матильду сюда, в качестве аргумента. О чем, в сущности говоря, молятся остающиеся жить? Впрочем, Астри-Люс не трудно было сбить и с позиций покрепче. Ей становилось страшно. Наконец, она встала:
– Я не понимаю. Не понимаю. Вы шутите, святой отец. Как вам не стыдно, зная, как я ценю каждое ваше слово, говорить подобные вещи, чтобы меня смутить?
– Хорошо, тогда просто послушайте, – не унимался Кардинал. – Я стану спрашивать Сэмюэля. Поскольку он всего-навсего протестант, сбить его будет несложно. Сэмюэль, вправе ли я предположить, что Бог предназначил донне Матильде умереть в самом скором времени?
– Да, святой отец, ибо она умерла в ту же ночь.
– Однако мы считали, что если мы помолимся со всей искренностью, то сможем заставить Его передумать.
– Но… мы же вправе надеяться, что в крайней нужде наша молитва может…
– Тем не менее, она умерла. Выходит, мы не были достаточно искренни! Хорошо! Итак, иногда Он снисходит к молящемуся, а иногда нет, от христиан же ожидается, что они станут усердно молиться на случай, если нынче Он пребывает в благодушном настроении. Каково! Какова мысль, а, Астри-Люс!
– Святой отец, я не могу оставаться здесь и слушать, как вы ведете подобные разговоры…
– Нет, но каковы представления! Послушайте. Возможно ли, чтобы Он вдруг передумал? Лишь потому, что мы, перепуганные смертные, смиренно ждем от Него нагоняя? О! Вами владеет идея торговой сделки. Менялы так и не покинули храма!
Тут Астри-Люс, став совершенно белой, вернулась на арену, чтобы отчаянно рискнуть еще раз:
– Но, святой отец, вы же знаете, что Он откликается на просьбы достойных католиков?
И со слезами на глазах негромко добавила:
– Ведь вы же были там, святой отец. Если бы вы всей душой пожелали, вы бы могли изменить…
Он полупривстал из кресла и закричал, и глаза его были ужасны:
– Неразумное дитя! О чем ты говоришь? Я? Разве я не ведал утрат?
Она бросилась перед ним на колени:
– Вы сказали все это, чтобы меня испытать. Но каков же ответ? Я не отпущу вас, пока вы не скажете. Святой отец, вы же знаете, что молитва не остается без ответа. Но ваши хитроумные вопросы совсем сбили меня… сбили меня… Каков же ответ?
– Перестань, дочь моя, сядь и сама ответь мне. Думай!
Это протянулось еще с полчаса. Я приходил все в большее недоумение. Сама по себе проблема молитвы скоро осталась далеко позади. Теперь оспаривалось уже представление о благодетельной силе, правящей миром. Для Кардинала это было упражнением в риторике, он изощрялся в ней, подталкиваемый и своим темпераментным скептицизмом, и скрытым негодованием по адресу Астри-Люс. На умного верующего задаваемые им вопросы не оказали бы никакого воздействия. Для Астри-Люс они были губительны, поскольку ей, женщине, не умеющей размышлять, приходилось на сей раз заниматься именно этим. Ей очень хотелось проявить себя глубоким мыслителем, и как раз желание оказаться не тем, кем она была, обрекало ее на неудачу.
Так оно и продолжалось. Теперь Кардинал на каждое новое предложение отвечал выкриком: «Сделка! Сделка!» и показывал, что ее молитвы порождаются страхом или жаждой комфорта. Астри-Люс выбивалась из сил. Я зашел за ее кресло и умоляющим жестом попросил Кардинала остановиться. Неужели он мучил ее из одного лишь каприза? Сознавал ли он, насколько она ему предана?
В конце концов она, казалось, узрила свет.
– У меня все спуталось в голове. Но я поняла, какого ответа вы от меня ждете. Нельзя просить об имуществе, просить за людей, просить облегчения от болезней, но можно просить о духовных свершениях, например, о преуспеянии Церкви…
– Тщета! Тщета! Сколько лет мы молимся о некоем благе? И что говорит нам статистика? – Я разумею обращение Франции.
Астри-Люс, заплакав, встала и покинула комнату. Я собрался было сказать ему нечто протестующее.
– Она глупа, Сэмюэлино. Нельзя назвать твердыми убеждения, которые легко опрокинуть соломинкой. Нет, поверьте мне. Это пойдет ей во благо. Я слишком долго был исповедником, чтобы ошибиться в подобном случае. У нее духовные представления школьницы. Следует приучить ее к более грубой пище. Поймите, она никогда не испытывала страдания. Она благочестива. Но, как я уже говорил вам вчера, случилось так, что она не ведала бед.
– И все же, Ваше Преосвященство, я знаю ее достаточно хорошо, чтобы понимать – в эту минуту она у себя в часовне припадает к ограждению алтаря. Несколько недель она будет пребывать в унынии.
Однако именно в этот миг Астри-Люс вернулась. Она была крайне возбуждена и двигалась с нарочитой грацией.
– Вы извините меня, если я сейчас лягу спать? – спросила она. (Ни разу больше она не назвала его «святым отцом».) – Пожалуйста, оставайтесь, побеседуйте с Сэмюэлем.
– Нет-нет, мне пора. Но прежде позвольте сказать вам одну вещь. Подлинные истины трудны. Поначалу они пугают. Но зато стоят всех остальных.
– Я подумаю над тем, что вы сказали, – я… я… Вы простите меня, если я спрошу вас о чем-то?
– Да, дитя мое, о чем?
– Пообещайте, что не станете шутить.
– Я вовсе не шутил.
– Я и в самом деле слышала, как вы говорили, что молитвы людей добродетельных не…? Впрочем, спокойной ночи. Простите меня, я пойду.
И они разошлись.
Я отправился спать встревоженным. Меня беспокоила Астри-Люс? Неужели ей предстоит лишиться веры? И что в этом случае делать мне, случайному свидетелю? Утрата веры всегда выглядит со стороны смешной, особенно если теряющий ее человек пребывает в добром здравии, богат и вполне в своем уме. Вот в утрате какого-либо из последних трех качеств и впрямь есть свое величие; Астри-Люс следовало бы сначала лишиться хоть одного из них, а затем уж терять веру. Вера не такая вещь, которую теряют в безоблачную погоду.
От беспокойного сна меня пробудил вежливый, но настойчивый стук в дверь. Стучал Альвиеро, дворецкий.
– Госпожа спрашивает, не могли бы вы одеться и спуститься к ней в библиотеку, если вас не затруднит?
– Что случилось, Альвиеро?
– Не знаю, синьорино. Госпожа не спала всю ночь. Она была в церкви, молилась.
– Хорошо, Альвиеро, я через минуту спущусь. Который час?
– Половина четвертого, синьор.
Быстро одевшись, я поспешил в библиотеку. Астри-Люс сидела там, все в том же платье. Лицо ее побелело, осунулось; прическа растрепалась. Она встала и пошла мне навстречу, протягивая руки.
– Вы простите, что я за вами послала, правда? Мне нужна ваша помощь. Скажите, вам тоже стало не по себе от странных вещей, которые Кардинал наговорил после обеда?
– Да.
– И у вас, протестантов, есть на этот счет свои представления?
– О да, мадемуазель де Морфонтен.
– А идеи, высказанные им, новы? Или все так думают?
– Нет, не все.
– Ах, Сэмюэль, что же со мной случилось? Я согрешила. Я согрешила сомнением. Найду ли я когда-либо покой? Сможет ли Господь снова принять меня после того, как мной овладели подобные мысли? Конечно, конечно, я верю, что мои молитвы не останутся без ответа, но я утратила… утратила представление о причине, по которой я верила в это. Должен же существовать ключ ко всему. Может быть, всего одно слово. Нужно только найти один маленький довод, который сделает все естественным. Разве не странно? Я заглянула в них (она указала на стол, заваленный раскрытыми книгами: «Библия», Паскаль, «Подражание»), но, видимо, не смогла отыскать нужное место. Присядьте, дорогой мой друг, и попробуйте объяснить мне, какие есть доводы в пользу того, что Бог слышит наши слова, и отвечает на них.
Я говорил довольно долго, но ничего не достиг. Возможно, я даже ухудшил положение. Я говорил ей о своей убежденности в том, что она по-прежнему верует. Я показал, что сам факт ее страданий свидетельствует о силе веры. Я боролся с ней целый час, к исходу которого она вроде бы несколько успокоилась, и взяв меховую накидку, ушла в свою холодную часовню, чтобы до утра усердно молиться о ниспослании веры.
Около десяти она отыскала меня в саду и попросила прочесть записку, которую собиралась послать Кардиналу. Ей нужно было знать мое мнение об этой записке. «Дорогой Кардинал Ваини, я всегда буду почитать Вас превыше всех моих друзей. Я думаю, что Вы любите меня и желаете мне блага. Но Вы, с Вашей огромной ученостью и обширностью интересов, забыли, что тем из нас, кто не столь умен, приходится изо всех сил цепляться за наши детские верования. Со вчерашнего вечера я пребываю в невыразимой тревоге. Я хочу просить Вас об услуге: снизойдите к моей слабости настолько, чтобы не касаться в моем присутствии вопросов веры. Мне очень больно просить Вас об этом. Я прошу Вас поверить, что в моей просьбе не содержится какой-либо личной неприязни. Я надеюсь, что еще смогу обрести достаточно сил, чтобы снова разговаривать с Вами на подобные темы.»
Записка, вернее ее содержание, произвела на меня тяжелое впечатление. Я робко посоветовал выпустить последнее предложение. Она переписала письмо и отправила его с посыльным.
Вскоре настал последний день моего пребывания на вилле. Астри-Люс пришла ко мне в комнату для прощального разговора.
– Сэмюэль, вы были со мной в самые печальные дни моей жизни. Я не могу отрицать, что существование лишилось для меня всякого интереса. Я по-прежнему верую, но не так, как раньше. Быть может, я жила неправильно. Теперь мне ясно, что каждое утро я просыпалась, полная несказанного счастья. Оно редко покидало меня. Я никогда раньше не понимала, что все, во что я верю, само по себе невероятно. Я с гордостью говорила об этом, не сознавая, как следует, что говорю. Теперь настало время, когда я слышу голос, произносящий: «Молитвы не существует. Бога не существует. Существуют люди, деревья, миллионы тех и других, умирающих каждую минуту». – Вы еще приедете повидаться со мной, не правда ли, Сэмюэль? Очень тягостно вам было жить в моем доме?
Добравшись до моего римского жилища, я обнаружил три письма от Кардинала с просьбами немедленно прийти повидаться с ним. Едва я вошел в калитку, как он нетерпеливо устремился мне навстречу.
– Как она? С ней все в порядке?
– Нет, святой отец, она в большой беде.
– Пойдемте в дом, сын мой. Я должен с вами поговорить.
Когда мы вошли в его кабинет, он закрыл за собою дверь и, заметно волнуясь, произнес:
– Я хочу сказать вам, что повинен в грехе, в великом грехе. Мне не будет покоя, пока я не попытаюсь исправить причиненный мною вред. Вот, посмотрите, посмотрите, какое письмо она мне прислала.
– Я его видел.
– Это письмо не позволяет мне объяснить, что я имел в виду. Неужели для меня не существует способа успокоить ее?
– Способ остался только один. Вы должны вернуть ее доверие, прежде чем снова касаться подобных тем. Вы должны приходить в ее дом так, словно ничего не случилось…
– Ах, но она никогда меня больше не позовет!
– Да нет, она приглашает вас всех на ближайший обед – Аликс, донну Леду, мосье Богара.
– Слава Богу! Благодарю Тебя, Господи, благодарю Тебя, благодарю Тебя, благодарю…
– Могу я говорить безо всякой оглядки, Ваше Преосвященство?
– Да. Я несчастный старик, ни на что не способный, кроме ошибок. Говорите, как вам удобнее.
– Когда вы будете у нее, постарайтесь не допускать никаких замечаний на религиозные темы. Я умоляю вас, не пытайтесь оправдаться в ее глазах с помощью каких-нибудь правоверных высказываний. Она может неверно понять всего одно слово и решить, будто вы опять ополчились против ее веры. Это очень серьезно. Ваши воззрения неортодоксальны, святой отец, и любая ортодоксальная фраза прозвучит в ваших устах неискренне, а это хуже всего. Но если вы станете просто приходить к ней, с любовью, она расстанется с ужасом, который вы ей внушаете…
– Ужас! Я!
– Да, и постепенно, возможно, год спустя, вам, быть может, и удастся…
– Но я могу не прожить столько времени!
– "Es muss sein"!91
Эти слова затронули в нем юмористическую жилку, и он сокрушенно пропел бетховенскую фразу, прибавив:
– Все дороги жизни ведут к этому:
«Es muss sein». Мне следовало остаться в Китае. (Тут он на некоторое время примолк, тяжко вздыхая и глядя на свои желтые руки.) Господь счел за лучшее лишить меня разума. Я идиот, падающий в любую канаву. Ах, если бы я давным-давно умер, – но теперь мне нельзя умереть, не оправдавшись. Подайте мне ту красную книгу, она за вашей спиной. Существуют две пьесы о стариках, Сэмюэлино, которые мне, старику, с каждым днем становятся все дороже. Это ваш Лир и…
Он раскрыл «Эдипа в Колоне» и начал медленно переводить:
– "Великодушный сын Эгея, к богам одним старость и смерть никогда не приходят. Прочих же всех сокрушает всевластное время. Сила земли иссякает и сила тела. Гибнет вера. Родится неверие. И между друзей правдивости дух не сохраняется вечно…" – и склонив голову, он выпустил книгу, позволив ей упасть на пол. «Es muss sein».
Я не пошел на тот обед. Мы с мисс Грие обедали в городе, но около десяти поехали в Тиволи, чтобы побыть в дружеском обществе. Дорогой я сдержанно обрисовал отношения, в которых теперь находились двое из ее лучших друзей.
– Ох, до чего же он глуп! – воскликнула она. – До чего жесток! Как много всего он забыл! Неужели он не понимает, что дело не в отвлеченном вопросе, останутся безответными ее молитвы или не останутся, дело в том, может ли она получить ответ на ОДНУ из молитв? На ее молитву о Франции… Или он не верит, что подобные вещи могут быть для человека реальными?
– Он считает, что небольшая доза сомнения пойдет ей на пользу. Он говорит о ней, как о женщине, которая никогда не страдала.
– Он впадает в старческое слабоумие. Я так сердита, что того и гляди заболею.
Тут наша машина вильнула в сторону, пропуская другую, летевшую к Риму. Это был большой, неказистый автомобиль, в котором обычно путешествовала мадемуазель де Морфонтен. Внутри сидел Кардинал.
– Вот и он, – воскликнула мисс Грие. – Должно быть, они разошлись сегодня пораньше.
– Что-то случилось, – сказал я.
– Да, очень на то похоже, помилуй нас, Господи. Если бы все было в порядке, Аликс возвращалась бы вместе с ним. Наша чудесная компания распадается. Аликс нам больше не доверяет. Леда теряет присущее ей здравомыслие. Астри-Люс ссорится с Кардиналом. Лучше мне оставить Рим и вернуться в Гринуич.
Приблизившись к вилле, мы окончательно убедились, что случилось нечто из ряда вон выходящее. Парадная дверь стояла настежь. В коридоре у закрытых дверей гостиных толпились и перешептывались слуги. При нашем появлении одна из этих дверей отворилась, выпустив Аликс, донну Леду и мадам Бернштейн, которые поддерживали плачущую Астри-Люс. Они повели ее по лестнице наверх. Мисс Грие, не расспрашивая слуг о том, что случилось, мягко, но настоятельно велела им разойтись по своим комнатам. Мы прошли в гостиную – как раз вовремя, чтобы увидеть покидающего ее через другую дверь мосье Богара. Вид у него был потрясенный. Мы посидели в молчании, полные мрачных предчувствий. И я, и она вдруг ощутили легкий запах пороха и дыма, взгляд мой наткнулся на дырку в стене под потолком, на полу под которой образовался маленький холмик белой пыли. Тут в гостиную торопливо вошла мадам Бернштейн, поплотнее закрыла за собой дверь и устремилась к нам.
– Нужно, чтобы об этом не узнала ни одна живая душа. Мы обязаны сохранить все втайне! Но как такое могло случиться? После этого уже все возможно. Какое счастье, что в комнате не было слуг, когда она…
Мисс Грие несколько раз задала ей один и тот же вопрос: что же произошло?
– Не знаю, ничего не знаю. Я уже не верю ни глазам своим, ни ушам, – восклицала мадам Бернштейн. – Астри-Люс, должно быть, сошла с ума. Вы, Элизабет, поверите мне, если я скажу, что мы сидели вот здесь за кофе, мирно беседовали… Смотрите, смотрите! Я только теперь заметила эту дырочку в потолке! Ну, не ужас ли!
– Прошу вас, Анна, прошу вас, расскажите, что здесь стряслось?
– Я и рассказываю. Мы сидели за кофе, негромко разговаривали о том о сем, как вдруг Астри-Люс подошла к пианино, вытащила из цветов револьвер и пальнула в добрейшего Кардинала.
– Анна! Он ранен?
– Нет. Пуля и близко от него не прошла. Но какой кошмар! Что могло подтолкнуть ее к такому поступку? Мы же все были друзьями – такими добрыми друзьями! Я ничего не понимаю.
– Сосредоточьтесь, Анна, припомните: она что-нибудь сказала после того, как выстрелила, – или перед тем?
– Так это и есть самое странное. Вы мне не поверите. Она крикнула: «Здесь дьявол. Дьявол вошел в эту комнату». Это Кардиналу-то!
– О чем он говорил?
– Да ни о чем! О самых обычных вещах. Мы рассказывали друг другу истории про крестьян. И он тоже что-то такое рассказал о крестьянах, с которыми встречался во время прогулок за воротами Святого Панкрацио.
Стремительно вошла Аликс.
– Элизабет, идите к ней, поскорее. Она хочет вас видеть. Она там одна.
Мисс Грие поспешила прочь.
Аликс повернулась ко мне.
– Сэмюэль, вы лучше нас знаете дворецкого. Не могли бы вы пойти и объяснить ему, что у Астри-Люс был нервный припадок? Что ей померещился в окне грабитель, и она в него выстрелила. Для Кардинала очень важно, чтобы ни малейшего намека на случившееся не вышло наружу.
Покинув гостиную, я отыскал Альвиеро. Дворецкий сознавал зыбкость моих объяснений, но поскольку он был всей душой предан Каббале в целом, я верил, что ему удастся приукрасить историю настолько, что слуг она убедит.
Аликс не понимала, что стоит за выстрелом, однако помнила разговор, приведший к нему. Кардинал рассказывал следующую незамысловатую историю, случай, свидетелем которого он стал во время одной из своих прогулок за городской стеной:
– Крестьянин хотел отучить шестилетнюю дочку от привычки плакать. Как-то после полудня он взял ее за руку и завел в середину заболоченной пустоши, густо заросшей высоким, выше ее роста, крепким тростником. Здесь он вдруг бросил ее руку и сказал: «Ну что, будешь еще реветь?» Ребенок, уже испугавшийся, собрал остатки гордости и наперекор отцу заплакал. «Ну ладно, – закричал отец, – нам в доме плохие дети не нужны. Оставайся здесь, пусть тебя тигры съедят. Прощай.» С этим он отскочил в сторону, скрывшись из глаз ребенка, отправился в стоявшую на краю пустоши винную лавку и просидел там около часа, играя в карты. Девочка, рыдая, блуждала от кочки к кочке. Через некоторое время отец вернулся и, любовно взяв ее за руку, отвел домой.
Вот и все.
Все-то все, но Астри-Люс так и не удалось, в отличие от всех нас, ожесточить свое сердце настолько, чтобы спокойно выслушивать рассказы о жестокости и несправедливости. Она, быть может, и не знала утрат, но дурные дела, совершаемые людьми, всегда с великой силой действовали на ее воображение. Другие, услышав такой анекдот, разве что вздыхали, сочувственно поджимали губы да улыбались, радуясь благополучному его завершению. Но для Астри-Люс в нем содержалось живейшее напоминание о том, что Бога, чье дело – присматривать за миром, помогая обиженным и павшим духом, – больше не существует. Его убил Кардинал. Не осталось никого, кто мог бы унять мучения забитой до смерти лошади. У котят, которых мальчишки с размаху швыряют о стену, нет никого, кто мог бы заступиться за них. Страдающего пса, который не спускает взгляда с лица хозяйки и лижет ей руку, пока глаза его заволакивает мутная пелена, утешить, кроме нее, больше некому. Рассказ Кардинала не был случаен: в нем крылся намек на то, о чем они говорили на прошлой неделе. Язвительный намек. Кощунство. Взгляни, каков мир без Бога, говорил он. Привыкай. А потеряв Бога, найти Дьявола не составляло для нее никакого труда! Вот он, торжествует, в этой надрывающей сердце истории. Астри-Люс подошла к пианино, вытащила из цветов револьвер и выстрелила в Кардинала, крича: «Здесь дьявол. Дьявол вошел в эту комнату».
В ту ночь Кардинал, пока он ехал домой, продолжал повторять про себя: «Выходит, все это правда!». Потребовался выстрел Астри-Люс, чтобы показать ему, что вера давно стала дня него занятной игрой. Можно громоздить один силлогизм на другой, положив в основание пустоту. Он напряженно пытался припомнить, на что походила вера, которой когда-то он обладал. Он так и этак вертел перед своим внутренним взором молодого священника в Китае, изгоняющего дьявола, который одолел семьи нескольких мандаринов. Это он был тем священником. Ах, если бы вернуться той же дорогой назад! Он должен уехать в Китай. Если он сможет взглянуть на лица, озаренные покоем, который он сам даровал их владельцам, ему, возможно, удастся вернуть себе этот покой. Но бок о бок с надеждой стояло ужасное знание: не существует слов для выражения его убежденности в своей вине, ибо повинен он в величайшем из всех грехов. В сравнении с тем, что он натворил, убийство – просто детская игра.
Не в меньшей мере сказался выстрел и на Астри-Люс. Она опомнилась, испытывая ужас от того, что могла ранить Кардинала, затем ее охватил страх, что он никогда ее не простит, и страх этот оказался сильнее страдания, которым была ее жизнь без веры. Мне выпало доставлять от одного к другой и обратно их первые письма, полные любви и тревоги. В тот день, когда Астри-Люс и Кардинал обнаружили, что живут в мире, где подобные вещи могут быть прощены, что не существует проступков, настолько тяжких, чтобы любовь не смогла их понять и забыть о них, в тот день для них началась новая жизнь. Их примирение так и не облеклось в слова, но до самого конца осталось в простом обличьи надежды. Они жаждали вновь увидеть друг друга, однако свидание было уже невозможным. Оба мечтали об одной из тех долгих бесед, которых не дано вести никому из живущих на этой земле, но которые так легко воображаются в полночь, когда человек одинок и мудр. Не существует ни слов, достаточно сильных, ни поцелуев, достаточно властных, чтобы исправить созданный нами хаос.
Он получил разрешение возвратиться в Китай, и через несколько недель отправился в плавание. Спустя пару дней после выхода из Адена, он заболел лихорадкой и понял, что скоро умрет. Позвав к себе капитана и судового врача, он сказал им, что если они погребут его в море, на них, быть может, обрушится негодование Церкви, но что они тем самым выполнят заветнейшее из его желаний. Он принял все меры, чтобы вина за столь вопиющее нарушение правил легла на него одного. Лучше, много лучше быть выброшенным в волны Бенгальского моря, на потребу проплывающей мимо акуле, чем лежать, грешнику из грешников, под мраморной плитой с неизбежным «insignis pietate»92 и неотвратимым «ornatissimus»93.
Часть пятая. Сумерки богов
Когда наступило время и мне расстаться с Римом, я отвел несколько дней на то, чтобы отдать последнюю дань приличиям – как их понимают в этом городе. Я послал записку Элизабет Грие, назначая на канун моего отъезда последний долгий ночной разговор. «Есть несколько вопросов, – написал я, – которые мне хочется Вам задать, и на которые никто больше ответить не сможет». Затем я пошел на виллу Вей-Хо и около часа провел с сестрой Кардинала. Цесарки были теперь не так голосисты, как прежде, а кролики все еще бродили по саду, высматривая, не мелькнет ли где фиолетовая сутана. Я съездил в Тиволи и сквозь железные ворота в последний раз осмотрел виллу Горация. Она уже выглядела так, будто несколько лет никто в ней не жил. Мадемуазель де Морфонтен возвратилась в свои французские владения и жила совершенной затворницей. Говорили, что она не распечатывает писем, но я все же послал ей несколько прощальных слов. Я даже провел полдня в душных комнатах дворца Аквиланера, где донна Леда под большим секретом поведала мне последние новости касательно скорого замужества дочери. По-видимому, молодому человеку не удалось предъявить никаких кузин и кузенов, принадлежащих даже к самым легковесным из европейских дворов, он был просто-напросто итальянцем, но зато владел дворцом, устроенным на современный манер. Наконец-то и в доме Аквиланера появится ванная комната. Как летит время!
Самой значительной данью из упомянутых была поездка к могиле Маркантонио. Я отыскал ее вблизи сельского кладбища, лежащего невдалеке от виллы Колонна-Стьявелли. В освященной земле мальчику было отказано, но мать, полная любви и смятения, придумала соорудить из камней и вересковых деревьев ложную стену, хотя бы по видимости включавшую его могилу в число тех, чьих владельцев Церковь полагает безопасным рекомендовать для участия в Судном Дне. Здесь я присел и приготовился к размышлениям о нем. Возможно, я был единственным человеком на свете, понимавшим, что привело его сюда. Последняя дань дружбы и состояла в том, чтобы поразмышлять о юноше. Но пели какие-то птицы, на ближнем поле крестьянин с женой ковырялись в земле, пекло солнце. Сколько я ни старался, мне не удавалось сосредоточиться на моем друге; я без труда припоминал его облик, размышлял о его растраченной жизни, но подлинно элегические воспоминания ускользали от меня, Маркантонио. Пристыженный, я возвратился в Рим. Впрочем, я провел за городом восхитительный день; погода тем июнем стояла незабываемая.
Было и еще одно знакомство, которого я не мог обновить: я не мог пойти повидаться с Аликс д'Эсполи. При каждой нашей случайной встрече ее опущенные долу глаза говорили мне, что продолжительных бесед у нас с ней никогда больше не будет.
Грустным оказалось и прощание с моим жилищем. Мы с Оттимой провели несколько часов, укладываясь, склонив над ящиками головы, полные мыслей о близкой разлуке. Она возвращалась в ресторанчик на углу. Задолго до того, как я купил билет, она начала молиться за тех, кто подвергает себя опасностям моря, и отмечать ветреные дни. После изнурительной борьбы с собой я решил оставить ей овчарку. Преданность Курта делилась между нами поровну; в Европе или в Америке – он все равно будет тосковать по отсутствующему другу. Оттиме и Курту предстояло стариться вместе, заполняя общую жизнь знаками трогательного взаимного внимания. Готов поклясться, что еще до того, как я на последнюю ночь перебрался в отель, Курт знал, что я его покидаю. В том, как он отнесся к неизбежному, присутствовало благородство, которого мне недоставало. Он положил одну лапу мне на колено и в глубоком смущении посмотрел сначала направо, потом налево. Вслед за этим он лег, поместив между лапами морду, и дважды гавкнул.