Шайтан-звезда (Книга первая) Трускиновская Далия
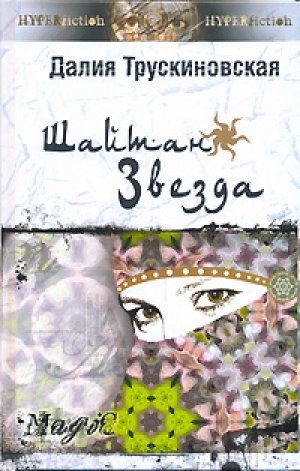
– Точнее говоря, моей тетке Бертранде и мне. Но она уже стара, и вернулась в монастырь, и уже давно спит. Она – родная сестра матери моего отца, а отец уже немолод, так сколько же ей лет? Я не знаю этого. Знаю только, что она ненавидит меня так, как только может одна женщина ненавидеть другую. Ей отвратительно все, чем я обладаю, – и она говорит, что неприлично иметь такие длинные и вьющиеся волосы такого нестерпимо черного цвета, такие темные глаза, такие бедра. А ведь моя бабка по матери была из Прованса, и женщины там темноволосы и кудрявы! Еще она говорит, что если бы замок моего отца, где я появилась на свет, не охраняли в ту ночь с таким тщанием, если бы она сама не охраняла покои моей матери, то она бы могла поклясться, что меня демоны подменили в колыбели!
– Нет в тебе ничего от шайтана, о Абриза, – сказал Ади. – И мы переправимся на тот берег, и посидим у твоего костра, а ты, о Джабир, не возражай и не прекословь! Если бы одна из дочерей арабов оказалась в таких обстоятельствах, разве ты из осторожности отказал бы ей в сочувствии?
И, разумеется, все вышло по его желанию. Мы привели коней и переправились, посадив Абризу на круп моего жеребца, потому что аль-Яхмум признавал только Ади, а всех прочих, оскверняющих его спину своей тяжестью, сперва кусал за ноги, как бы предупреждая, а потом сбрасывал самыми диковинными способами.
Но, когда мы вышли к костру, Абриза вгляделась в наши лица.
– Что это значит? – спросила она. – Вы оба – чернокожие? Какие же вы дети арабов?
– Мы родились от черных женщин, и никто не ставит нам этого в упрек, – объяснил Ади. – Нам доверяют командовать войсками, а когда мы вернемся в столицу, то будем сидеть с нашим царем в диване. И его вельможи охотно отдадут нам в жены своих белых дочерей.
Но она покачала головой.
– Мне всегда говорили, что лишь демоны черны лицом, – сказала нам она. – И мудрые люди рассказывают, что в дальних странах живут черные, похожие на диких зверей, и они поклоняются шайтану.
– Это зинджи, а мы поклоняемся Аллаху великому, могучему, – возразил Ади. – Правда, многие правоверные считают, что в Судный день у всех грешников почернеют лица, но когда это свершится, тогда и увидим.
– И многое можно сказать в защиту черноты, – вмешался я. – Разве не знаешь ты, о Абриза, что сказано в Коране: клянусь ночью, когда она покрывает, и днем, когда он заблистает! И если бы ночь не была достойнее, Аллах не поклялся бы ею и не поставил бы ее впереди дня. Разве не знаешь ты, что чернота – украшение юности, а когда нисходит седина, уходят наслаждения и приближается время смерти? И разве не прекрасны стихи:
- Нет, белых я не люблю, от жира раздувшихся,
- Но черных зато люблю я, тонких и стройных.
- Я муж, что сажусь верхом на стройно-худых коней
- В день гонки; другие пусть на слонах выезжают.
Девушки Абризы, испуганные нашим появлением, встали по ту сторону костра и слушали нас, не понимая наших слов. Но Абризе не было до них дела – стихи снова заворожили ее.
– Прибавь, о Джабир… – попросила она.
– И сказал любимец Харуна ар-Рашида, поэт Абу-Новас о возлюбленном:
- Явился он ко мне в рубашке черной,
- И пред рабами он предстал во мраке.
- И молвил я: «Вошел ты без привета,
- И радуется враг мой и завистник.
- Твоя рубашка, кудри и удел мой —
- То черно, и то черно, и то черно».
– Прибавь, о Джабир, – снова попросила Абриза.
– И еще в числе достоинств черноты то, что из нее делают чернила, которыми пишут слова Аллаха, – немедленно отвечал я, – и черны также мускус и амбра. И как прекрасны слова поэта:
- Не видишь ли ты, что мускус дорого ценится,
- А извести белой ты за дирхем получишь куль?
- Бельмо в глазу юноши зазорным считается,
- Но, подлинно, черные глаза разят стрелами!
Абриза рассмеялась.
– Ты убедил меня, о Джабир, но что же делать теперь мне, белокожей? – спросила она. – Может быть, потому ваши женщины закрывают лица, что они – белые, а у арабов ценится черная кожа?
Тут рассмеялся и Ади.
– Нетрудно вступиться за тебя, о госпожа, и победить в споре, клянусь Аллахом! – воскликнул он. – Ведь сказал другой поэт:
- Не видишь ли ты, что жемчуг дорог за белый цвет,
- А угля нам черного за дирхем мешок дают.
- И лица ведь белые – те прямо вступают в рай,
- А лицами черными геенна наполнена.
– Прибавь, о Ади! – повернувшись к нему, велела Абриза, и лицо ее было радостным.
– А Абу-Новас так приветствовал возлюбленного:
- Явился он ко мне в рубашке белой,
- Его зрачки и веки были томны.
- И я сказал: «Вошел ты без привета,
- А я одним приветом был доволен».
- Он молвил: «Споры брось ты, ведь Господь наш
- Творит невиданное бесконечно.
- Моя одежда, как мой лик и счастье:
- То бело, и то бело, и то бело».
– Как жаль, что я не могу принять участие в этом споре! Если бы я знала подходящие стихи… – она вздохнула. – Теперь я вижу, как мало знаю! И если бы я лучше владела вашим языком, то сама сочинила бы подходящие стихи… А какие еще у тебя доводы, о Ади?
– В белизне множество достоинств, и снег, что так ценится на пирах, нисходит с небес белым, и мусульмане гордятся белыми тюрбанами! – отвечал он.
– Когда моему отцу предложили возглавить паломников, а это немалая честь, он взял нас всех с собой, тетка Бертранда на этом настояла, – помолчав, сказала Абриза. – И мы долго плыли на венецианской галере. А потом матросы закричали, и мы вышли на палубу, и я увидела вдали берег, и белые города на склонах гор, и золотые купола ваших мечетей… И всякий раз, вспоминая вашу землю, я буду видеть эту безупречную белизну на зелени гор…
Но напрасна была эта тоска, и Абриза отмахнулась от нее, словно от надоедливой мухи, и окликнула девушек, и велела им расстелить скатерть поверх ковра, и бросить к ней кожаные подушки, и позаботиться о вине.
Девушки подали скатерть, и на ней было все, что скачет, летает и спаривается в гнездах: куропатки, перепелки и прочие виды птиц, и они разложили кушанья и процедили вино, а сами отошли в сторону. Мне не понравилось их поведение, я тогда уже ждал для Абризы зла от последствий этой ночи. Они перешептывались и переглядывались, показывая на нас с Ади пальцами, и я предупредил Абризу, а она позвала девушек, и усадила их, и угостила, так что вскоре они охмелели и стали смеяться, петь, хлопая в ладоши, и даже две из них сплясали.
И мы провели в обществе Абризы и ее девушек лучшую из ночей, читая стихи и беседуя о прекрасном, но близился рассвет – и нам пришлось расстаться без надежды встретиться вновь, ибо мы – правоверные, а она – христианка.
Но начертал калам, как судил Аллах! Мы преломили хлеб, и разделили трапезу, и пили из одного кубка, а это связывает людей, и налагает на них обязательства.
А когда мы расстались, то Абриза и девушки пошли к пустым кельям, вырубленным в скалах, чтобы провести там остаток ночи до утра, а мы, Ади и я, переправились через реку и вернулись к своим всадникам. И увели их подальше от монастыря, и продолжилась наша полная опасностей жизнь, и то мы нападали на франков, то они – на нас.
И вот однажды мы сидели в палатке, и вдруг входит невольник и с поклоном говорит Ади:
– О господин, ты посылал Мансура ибн Джубейра с сотней всадников проверить, не приближаются ли франки, и вот он возвращается, а с ним – всадник, одетый как франк, и этот всадник ехал в одиночестве, когда Мансур ибн Джубейр встретил его, и он утверждает, что у него есть к тебе дело!
– Приведи его, – сказал Ади, а потом повернулся ко мне и добавил: – Как прекрасно было бы, если бы это Абриза прислала к нам гонца!
– Не мечтай о несбыточном, – строго отвечал я ему. – Аллах даровал нам одну приятную ночь, а что сверх того – то уже лишнее, ибо мы – правоверные, а она – христианка.
И тут вводят того человека, и вдруг мы видим – это Абриза!
И на ней было полное одеяние вооруженного франка – и плохо сделанная кольчуга до колен, которая на самом деле не кольчуга, а кожаная рубаха с нашитыми на нее колечками, и франки называют это бедствие из бедствий обертом, и льняная стеганая рубаха под ним, достигающая середины голени, а называется она блио, и кольчужные чулки, которые шнуруются сзади. Сверх всего этого, чтобы металл не раскалялся от солнечного жара, на ней была белая накидка без рукавов и с разрезами по бокам, которую они называют гамбизон. На груди этой накидки был нашит красный крест. Поверх нее Абриза опоясалась мечом, тупым, как и положено быть мечу у франков, а лука и стрел не имела с собой вовсе.
Ее волосы были собраны по бокам и плотно уложены в кольчужный капюшон, лежавший на ее спине, так что она даже при опасности не могла бы теперь надеть капюшон на голову.
– Я прискакала к тебе, о Ади, потому что больше не у кого мне искать помощи и поддержки! Одна из моих девушек оказалась изменницей, и она донесла тетке, что я провела ночь в обществе двух сарацинских рыцарей, и говорила с ними на их языке, а тетка рассказала об этом отцу, и он сильно рассердился, и когда она посоветовала ему отправить меня в женский монастырь, чтобы я приняла постриг и стала Христовой невестой, он одобрил это! А во мне нет ни силы, ни призвания, чтобы стать Христовой невестой! И я прошу твоего покровительства, о Ади, – ведь ты сын царя!
Все это Абриза выкрикнула, не переводя дыхания. И сразу же опустилась на ковер, ибо дорога измучила ее, а тяжесть варварских доспехов истомила.
Ади мгновенно оказался возле нее, и стал распускать на ней ремни, и избавлять ее от оружия, а я крикнул невольникам, чтобы немедленно принесли прохладительных напитков, И сразу же они подали столик и воду десяти сортов: розовую, померанцевую, сок кувшинок и ивовый сок, и еще что-то в больших и маленьких кувшинах для охлаждения, с толстыми стенками и тростниковыми крышками. И они поставили на столик голубые фарфоровые кружки, а я налил в одну ивового соку, и положил туда ложку снега и кусок сахара, и поднес это Абризе.
Затем Ади стал расспрашивать Абризу об ее обстоятельствах, а я вышел из палатки, и призвал наших военачальников, и приказал им выбрать из своих невольниц красивых девушек, чтобы служить Абризе. И ко мне подошел Мансур ибн Джубейр, а он был самым старшим и опытным среди нас, и он сказал мне:
– О Джабир, я вижу, что привез Ади девушку знатного рода, которая дорога его сердцу. И вот мой совет – не стоит возить ее за собой, подвергая превратностям судьбы. У каждого из нас есть невольницы, которые стали нашей военной добычей, и если обстоятельства переменятся и лишат нас этих невольниц, мы не будем их оплакивать. Если сейчас на наш лагерь напали бы франки, нам пришлось бы спасаться бегством, бросив палатки и невольниц, и нет в этом ничего позорного. Мы отступили бы к нашим главным силам, вернулись и побили франков. Бегство от того, с чем не можешь справиться, – это путь посланников Божьих, ведь пророк сообщает о Мусе, который сказал Фараону: «Я убежал от вас, ибо боялся». Но нигде в Коране не сказано, что бегущий и спасающийся должен при этом возить за собой свой харим, о Джабир!
– Я и сам думал об этом, о Мансур, – отвечал я. – Сказано также в суре «Покаяние»: «А если кто-нибудь из многобожников просил у тебя убежища, то приюти его, пока он не услышит слова Аллаха. Потом доставь его в безопасное для него место. Это – потому, что они – люди, которые не знают». Но куда можем мы отослать эту девушку? Если бы была жива мать Ади, мы отправили бы девушку к ней. Но она умерла, и одному Аллаху известно это дело.
– Она умерла, но царь, отец Ади, жив, – возразил Мансур ибн Джубейр. – И он понимает, как обидел старшего сына, сделав наследником младшего. Царь будет рад совершить что-нибудь такое, от чего сердце Ади повернется к нему. А вместе с этой девушкой мы отправим наших невольниц, и они будут ей служить и охранять ее, так что она будет жить в безопасности. А потом Ади и ты придумаете, где бы поселить ее.
Мы еще обсудили это дело, а потом я вернулся в палатку и увидел, что туда принесли имущество Абризы, притороченное к седлу ее коня. И среди прочих вещей была шкатулка, и Абриза как раз открыла ее и показывала Ади сокровища, которые она привезла с собой.
Оказалось, что она взяла не только свои драгоценности, но кое-что из золотых украшений отца, матери и даже тетки. И она, достав со дна шкатулки ожерелье, сказала:
– О Ади, о Джабир, это ожерелье непременно нужно показать мудрецам! Из-за него тетка возненавидела меня.
А это было ожерелье, в котором золотые цепи переплетаются с серебряными, и мы потрогали его, и поразились безупречной шлифовке, которая до сих пор была недоступна ювелирам франков. Но Абриза сказала, что ожерелью очень много лет, так что неизвестно, какие ювелиры его смастерили.
– Тетка носила его на шее, не снимая, – продолжала Абриза. – И был даже случай, когда к нам в замок пришел нищий, старик с длинной седой бородой. Его покормили и позволили переночевать вместе со слугами. А ночью он прокрался в покои женщин, и пытался снять с теткиной шеи ожерелье, и разбудил ее, и никто не знает, что вышло между ними, но только она позвала слуг и велела им вынести труп старика. А когда отец спросил ее, что все это означает, она сказала, что ни за нее, ни за ожерелье беспокоиться не надо, оно сделано так, что снять его с шеи хозяйки невозможно. Все были в этом уверены – и вообразите же общее удивление, о Ади, о Джабир, когда наутро после моего рождения тетка поднялась из кресла, в котором задремала, – и вдруг ожерелье упало к ее ногам! И больше она никогда уже не смогла его надеть, оно только и знало, что сразу же падало. И тетка говорила со злостью, что это я своим появлением на свет лишила силы и ее, и ожерелье.
А ожерелье на первый взгляд показалось мне зловещим, потому что в него были вделаны только черные камни. Три крупных были посередине, два из них продолговатые, и это агаты, а один, между ними, круглый, и это черный хрусталь. И они были окружены другими камнями, мелкими и хорошо отшлифованными, среди которых я узнал превосходный черный оникс.
Будь моя воля – я бы продал его по частям, а деньги роздал нищим во имя Аллаха. Но Абриза непременно хотела сохранить это ожерелье, и показать его мудрецам, и узнать, в чем его загадка. А если эта девушка чего-то хотела, то она умела настоять на своем. И мы с Ади послали гонца к царю, и известили его, что дочь франкского эмира просит нашего покровительства, и он отвечал согласием, и предложил ей покои в своем дворце. Так что пришлось снаряжать целый караван, и вместе с Абризой в столицу отправили часть военной добычи, и невольников, и невольниц, и ехала она, словно царевна, которую везут к повелителю правоверных.
Когда Абриза узнала о нашем решении, она сперва не захотела отправляться в столицу, убеждая нас, что отлично перенесет тяготы военной жизни.
– Я уверена в тебе, о Ади, и в тебе, о Джабир, – говорила она. – Но я боюсь придворных вашего царя. Ведь я – христианка, и поэтому они могут причинить мне зло.
– Клянусь Аллахом, Каабой и Кораном, что при дворе моего отца ты будешь в безопасности, о Абриза! – сказал ей на это Ади. – В такой же безопасности, как если бы я сам стоял у твоих дверей с обнаженным мечом.
Но Абриза долго колебалась, прежде чем поехать в столицу.
Наконец мы отправили ее и продолжили свои военные подвиги. А лучше бы мы оставили девушку при себе, потому что не прошло и пяти месяцев, как она снова появилась у нас – и в самом бедственном состоянии.
На сей раз она прибыла не в одиночестве, а в сопровождении евнуха из дворцовых евнухов. И когда этот вестник несчастья въехал в лагерь, нам показалось, что везут одну из царских жен, – таким почетом велел он сам себя окружить. Его несли в паланкине, и впереди шли черные рабы, а сзади – белые невольники, и они несли обнаженные мечи, всем видом показывая, что охраняют весьма достойную, благородную и незаменимую особу.
Нам сказали, что у евнуха есть дело к Ади от самого царя, и Ади принял его в палатке, но тот отказался вручать послание царя, потому что никакого послания у него не было. Ади сгоряча вообразил, что евнуха подослали враги из придворных, чтобы убить его, и бросился на евнуха, и мне с трудом удалось отнять у него этого несчастного. И тогда только этот глупец завопил, что нужно немедленно внести в палатку его паланкин, ибо там под коврами спрятана женщина из царского харима.
Мы подумали было, что это одна из бывших невольниц матери Ади, которой известны обстоятельства ее смерти, и велели воинам стеречь евнуха, а сами пошли к паланкину, и сорвали с него занавески, и позвали невольницу. Но откликнулась нам Абриза.
Она выбралась из-под дорогих армянских ковров, и бросилась ко мне, не закрывая лица, и обняла меня, а на Ади даже не посмотрела. И ее лицо пожелтело, и стан стал грузным, и по всем приметам было видно – она беременна.
Поскольку Абриза не желала разговаривать с Ади и даже смотреть на него, я должен был куда-то отвести ее, чтобы мужчины не смотрели на ее лицо. Но своей палатки у меня не было, я жил вместе с Ади, и я окликнул Мансура ибн Джубейра, и он предоставил мне свою палатку. Туда я отвел Абризу, и усадил ее на ковер, и положил ей под бока подушки, набитые кусочками беличьих шкурок, и вытер ей слезы, – словом, утешал ее, как мать утешает ребенка, а Ади в это время ходил взад и вперед перед палаткой, ожидая печальных новостей.
И вот что рассказала мне Абриза:
– Твой брат поклялся Аллахом, Каабой и Кораном, что во дворце его отца я буду в безопасности, а со мной там совершили злое дело, о Джабир. Ты видишь, в каком я состоянии. И удивительно еще, что я осталась жива! Не знаю, кто рассказал наследнику старого царя, Мервану, о моей красоте, только он стал подсылать ко мне женщин, и просить о свидании, и не было дня, чтобы я не находила у себя подарка от него. И я спросила у невольниц, которых приставил ко мне царь, как мне быть, и они развели руками, потому что этот юноша, у которого только прорезались усы, чванлив, взбалмошен, изнежен и избалован, потому что царь ни в чем ему не отказывает. Тогда я написала письмо к царю, и уговорила евнуха отнести это письмо, но ничего не изменилось. А одна старая женщина сказала мне: «Царевич Мерван ненавидит старшего брата, и он на все готов, лишь бы оскорбить и унизить царевича Ади! А его мать во всем ему потакает и помогает». И тут я поняла, что попала в ловушку. Как это мог Ади послать меня в столицу и поселить во дворце, зная, что там меня встретят его враги?
На это я ничего не мог ответить. Мы оба были уверены, что царь станет для Абризы защитой и опорой.
И она поведала мне, как подкупленная невольница одурманила ее банджем, из тех видов банджа, от которых человек сперва веселится, а потом впадает в полусонное состояние, так что плохо сознает, что с ним делают, и не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Она с плачем рассказала мне, как очнулась и поняла, что над ней было совершено насилие. А потом она стала очень осторожна, и заставляла невольниц пробовать еду и питье, но было уже поздно. Абриза почувствовала себя скверно, и пожаловалась невольницам, и те определили, что она понесла. И бедная девушка хотела избавиться от плода, и женщины принесли капустные семена, и жгли их, и дымом через трубку окуривали ее фардж, но плод не вышел, и вода с перцем тоже оказалась бессильной, и корица с красной миррой – равным образом.
Я впервые услышал, какие снадобья используют женщины, чтобы изгнать плод, и поразился их количеству и разнообразию, а также их бесполезности.
И свой рассказ Абриза завершила тем, что подкупила евнуха, отдав ему все свои драгоценности, и он тайно вывел ее из харима, и вывез из города в своем паланкине, и доставил в лагерь к Ади, а по дороге они едва избежали столкновения с франками.
Я позвал невольников, приказал им поставить для Абризы палатку, и снести в нее все самое лучшее, что найдется из утвари и ковров, а сам пошел к Ади и осведомил его о случившемся. И Ади понял, почему Абриза не хочет видеть его.
– Я поклялся и не сдержал клятву, о Джабир, и мне остается только умереть! – воскликнул он. – Где это видано, чтобы благородный жил после того, как клятва нарушена? Клянусь Аллахом, я должен искупить свою вину!
– А кому станет лучше, если ты умрешь, о Ади? – спросил я. – Ты избавишься от всех бедствий этого мира, а Абриза, пострадавшая по твоей вине, останется без покровителя.
– Есть ли спасение, о Джабир? – спросил он.
– Прежде всего спасают честь, о Ади, – отвечал я. – Нельзя, чтобы ребенок Абризы родился без отца. А так как его отец – твой развратный братец, то нужно отдать за него Абризу, и пусть ребенок будет наследником престола после Мервана! Это – наилучшее, чего мы можем достичь, клянусь Аллахом!
– Нет, о Джабир, – возразил он, – и не говори об этом, потому что я худшей из женщин не пожелаю такого мужа, как Мерван. Но ты навел меня на хорошую мысль. Ступай и передай Абризе, что, раз ее честь из-за меня понесла ущерб, я сам женюсь на ней!
Оправдать нас обоих может лишь то, что мы выросли среди всадников, из женщин имели дело только с невольницами и понятия не имели, как надо разговаривать с дочерьми благородных. Я поспешил в палатку, чтобы обрадовать Абризу этим известием, но она наотрез отказалась выходить замуж за Ади, и, что мне теперь кажется особенно странным, – лишь потом она заговорила о том, что он верует в Аллаха, а она – в Ису. Сперва же Абриза ответила отказом совсем по другой причине.
– О Джабир, как это ты позабыл, что Ади – из благородных арабов, и если бы свахи нашли для него женщину, которая раньше принадлежала другому, он бы не принял такую невесту! – сказала она. – Не надо во имя искупления вины лишаться гордости, о Джабир, иначе гордость жестоко за себя отомстит. Если я соглашусь стать женой Ади, он потом поймет, что этот брак для него – унижение, и не простит мне этого унижения, и неизвестно, что между нами случится!
Я согласился с ней, и пошел к Ади, и передал ее слова. Но он повторил свою просьбу, и я вернулся, и снова выслушал отказ, но доводы Абризы на сей раз были более пространны. И я ходил взад и вперед, так что невольники, стоявшие и сидевшие у входа в палатку Абризы, стали пересмеиваться, а в голове у меня совсем помутилось от речей, которые я передавал от Ади к Абризе и от Абризы к Ади.
Наконец нам стало ясно, что ни за Ади, ни за кого другого Абриза выходить замуж не хочет. И это происходит из ее гордости, так как она предвидит упреки будущего мужа, а вовсе не потому, что она хочет пощадить гордость Ади. Так поняли мы ее отказ. А может, ей не хотелось иметь мужа, черного лицом, и упрекать ее в этом было нелепо.
– О Джабир! – сказал мне тогда Ади. – О мой брат! Я нарушил клятву, но мы с тобой связаны обетом братства и дружбы, и вот настал час тебе сделать то, что должен был бы сделать во искупление своего греха я.
– На голове и на глазах! – отвечал я ему. – Все, чего ты потребуешь, я сделаю беспрекословно, если только это поможет в беде.
– Ты оставишь войско, и возьмешь Абризу, и повезешь ее в безопасное место, и вы поселитесь в небольшом городе, и пусть она там родит ребенка, – сказал Ади. – И ты ради меня откажешься на это время от воинских подвигов, и будешь охранять Абризу так, как должен был бы ее охранять я, потому что мне она доверилась! И пусть знает, что я отдаю ей лучшее, что у меня есть, – друга, который дороже брата, клянусь Аллахом!
Разумеется, мало радости льву пустыни и гор в том, чтобы охранять изнеженную газель. Но я понял, что хотел сказать этим Ади, да хранит его Аллах. Он пожелал, чтобы я разделил с ним груз неисполненной клятвы, – и в этом было величайшее доверие, какого только я мог от него пожелать.
И я оделся в одежду черного раба, и взял Абризу, которая так и не пожелала встретиться с Ади, и невольников, и верблюдов, и одну старуху, чьи близкие погибли от мечей франков, так что у нее никого не осталось. И мы двинулись в поисках безопасного места, и нашли этот город, и сняли здесь дом сперва на год, а потом и на другой год. Здесь Абриза прожила, пока не исполнились ее месяцы, и тогда она села на седалище родов – а во время беременности она была праведна и хорошо соблюдала христианское благочестие, и молила Всевышнего, чтобы он наделил ее здоровым ребенком и облегчил ей роды, и Аллах принял ее молитву. Но о том, что она христианка, никто из соседей не знал.
И все мы со страхом ожидали часа родов, потому что Абриза сперва не хотела этого ребенка и говорила о нем дурно. И все же, увидев сына, она обрадовалась, и стала его растить, и, казалось нам, ни о чем больше не беспокоилась.
А мой брат Ади прислал нам несколько посланий с темным смыслом, после чего от него не было ни письма, ни гонца, ни иного известия. И мы жили в мире и согласии до того дня, когда Абриза, пойдя в хаммам, остановилась послушать тебя, о почтенный Мамед, и услышала нечто, взволновавшее ее, и пожелала купить твою книгу, о Саид.
А я, живя мирной жизнью горожан, разленился и утратил тот нюх к опасности, которым всегда отличался. И я раскаялся, когда от раскаяния уже не было пользы, и остался в пустом доме, как бедуин, рыдающий у покинутого становища, откуда увезли его возлюбленную. Впрочем, я не верю, что бедуины в те времена так красноречиво рыдали, их жалобы похожи на бейты опытных поэтов, а Аллах лучше знает.
Вот какова моя история, о Саид, о Мамед, и ты, о Ясмин. Я не оправдал доверия моего брата и позволил похитить Абризу и ее ребенка. И я не знаю, где теперь Ади, чтобы известить его о несчастье…
– Где бы Ади ни находился, он вряд ли сможет нам помочь, – рассудительно сказал Саид. – Не хочешь ли ты, чтобы он бросил войско, и сел на коня, и прискакал сюда, чтобы вместе с нами слоняться по дорогам и грызть ячменные лепешки? Нет, нам незачем сейчас искать твоего брата, о Джабир, а найти нужно совсем другого человека. Скажи, куда отправился тот евнух, который тайно вывел Абризу из дворца?
– Ради Аллаха, зачем тебе этот жирный евнух? – изумился Джабир. – Уж не хочешь ли ты нанять его, чтобы он охранял Ясмин?
– Я открою тебе страшную тайну, о Джабир, – отвечал Саид. – Дело в том, что я сам состою под ее охраной и защитой! Не прошло и десяти дней, как она мужественно отогнала от меня пьяного банщика, который шел за мной следом до самого жилища и грозил Судным днем, если я немедленно не доскажу ему историю о том, как Харун ар-Рашид возлежал на ложе с тремя невольницами, и что из этого вышло.
– А что это за история? – невольно улыбнувшись, спросил Джабир.
– Рассказывают, о Джабир, что однажды ночью повелитель правоверных Харун ар-Рашид лежал с тремя невольницами, и две были из Мекки и Медины, получившие замечательное образование, а третья была из жительниц Ирака и до той поры славилась лишь своей красотой. И та невольница, что из Мекки, растирала ему руки, а невольница из Медины растирала ему ноги и протянула руку к его товару. Невольница из Мекки, увидев это, оттолкнула ее и сама вознамерилась прикоснуться, а мединка сказала ей: «Разве ты не знаешь, что пророк, да благословит его Аллах, сказал – кто оживит землю мертвую, тому она принадлежит!» Невольница из Мекки возразила ей, говоря: «Неужели тебе не рассказывали, что пророк, да приветствует его Аллах, говорил – дичь принадлежит тому, кто ее поймал, а не тому, кто ее поднял!» А иракская красавица… Однако, уже темнеет, о Джабир. Мы увлеклись приятной беседой, а ведь и тебе, и нам предстоит долгий путь. Нам нужно добраться до караван-сарая, а тебе…
– Постой, о рассказчик, ты не сказал, что совершила иранская невольница! – возмутился Джабир.
– Мало ли что совершают женщины? Разве красивая невольница – святой подвижник, чтобы рассказывать на дорогах о ее деяниях? – ворчливо осведомился Саид.
– Я не отпущу тебя, пока не узнаю, чем закончилась эта история! – воскликнул Джабир.
– Вот точно такие же слова и твердил тот пьяный банщик! Так на чем же я остановился, о правоверные?
– На том, что мединка и мекканка к месту и кстати привели слова пророка Мухаммеда, а невольница из Ирака…
– Невольница из Ирака… Что же она такого совершила? Ради Аллаха, не торопи меня, о Джабир, мысли мои разбежались, я знаю множество историй о невольницах и их повелителях, и знал бы ты, как трудно вспомнить, что натворила именно эта красавица!
Саид запустил руку под тюрбан и почесал в голове. Джабир, сидевший перед ним, подался вперед, глядя прямо в губы рассказчику.
– Вспомнил, клянусь Аллахом, вспомнил! – обрадовался Саид. – Эта баловница оттолкнула и мединку, и мекканку, протянула руку к наилучшему достоянию повелителя правоверных и воскликнула: «Это будет мое, пока не окончится ваш спор!»
Джабир расхохотался. Но Мамед, напротив, сразу же надулся.
– Почему ты не учил меня таким коротким и увлекательным историям, о Саид? – сварливо осведомился он. – Почему ты заставлял меня читать длинные, как бессонная ночь, повествования с бесчисленным количеством царевичей, царевен, джиннов, старух, гулей, маридов и прочей нечисти? Ведь такими историями я заработал бы куда больше!
– Не успеешь начать такую историю, как глядь – а она уже кончилась, о Мамед! И правоверные, посмеявшись, разошлись, причем никому и в голову не пришло заплатить тебе за такой короткий рассказ хоть даник, не говоря уж о дирхеме, – объяснил Саид. – Эти истории рассказывают бесплатно на пирах и в собраниях, когда нужно развеселить угрюмого. Но вернемся к нашим делам. Где вы с Ади оставили евнуха, о Джабир? Как его звали? Куда он направил свои благородные стопы? Прежде, чем мы расстанемся, ты должен рассказать мне все об этом замечательном, одаренном многими достоинствами евнухе, чтобы я смог его отыскать. А ты, о Мамед, слушай внимательно, потому что тебе предстоит искать его вместе со мной! Или ты собрался покинуть меня, вернуться в город и отдаться в руки городской страже, чтобы она привела к повелителю правоверных его беглого поэта? Безопаснее всего для тебя, о Мамед, сопровождать меня и Ясмин в этих поисках. Ну так куда же подевался евнух?
– Во всяком случае, в царский дворец он не вернулся, – подумав, сообщил Джабир. – Пока я не увез из лагеря Абризу, он был при ней. И потом сопровождал нас некоторое время. Пожалуй, если поможет Аллах, я вспомню, где он с нами расстался и в какую сторону направился со своими невольниками. А что тебе от него нужно, о Саид? Он ведь ничего не знает о судьбе Абризы…
– Ты же сказал, что Абриза отдала ему все свои драгоценности за то, чтобы он вывел ее из дворца, о Джабир, – напомнил рассказчик. – И он, судя по всему, взял их с благодарностью и увез с собой.
Тут Саид замолчал. И молчал он довольно долго – пока Джабир, который сидел, понурившись, не поднял голову и не посмотрел ему в глаза, удивленный затянувшимся молчанием.
И глаза их встретились.
И чернокожий великан прочитал во взгляде рассказчика решимость, равную собственной. Еще несколько дней назад это удивило бы его, ибо уличные рассказчики обычно люди ненадежные, склонные к запретному и не обладающие ни смелостью, ни благородством, ни стойкостью духа – ничем, кроме зычной глотки и цепкой памяти. Но Джабир уже понял, что Аллах свел его с необычным рассказчиком, испытавшим достаточно скверного в жизни, чтобы знать подлинную цену и суровому слову, и беззаботному смеху.
Джейран поняла, что уже не спит. Она лежала на мягком ковре, раскинувшись, наслаждаясь ароматом дорогого курения – может быть, даже настоящего какуллийского алоэ. Но она еще не поставила для себя преграды между сном и явью, так что сон стремился перетечь в явь.
И это был прекрасный, изумительный сон, в котором сбылось все, о чем говорила ей на стоянке веселая Фатима.
– Ты вернешься в этот город с немалыми деньгами, о Джейран, и снимешь дом, и купишь персидские ковры, сундуки и дорогую утварь. Ты приобретешь также двух невольниц, опытных в домашнем хозяйстве и не очень молодых, таких, что умеют ходить за детьми, – толковала она. – И ты найдешь надежную старуху, которая понимает в сватовстве, и расспросишь ее о юношах, которые хотели бы жениться. А может, это будет не юноша, а муж в зрелом возрасте, ласковый нравом, обладатель черных глаз и сходящихся бровей. И ты пошлешь к нему старуху, и она посватает тебя за него, и опишет твою красоту и прелесть, и обо всем с ним договорится, о Джейран! И вы позовете кади и свидетелей, и составите договор, и сыграете свадьбу, и тебя будут семь раз открывать перед твоим мужем в разных нарядах, и он войдет к тебе…
Тут Джейран и почувствовала, что слова пышной красавицы сразу же начинают сбываться. Ибо она уже видела, как перед ней склонилась в поклоне хитрая старуха, и она уже сказала старухе:
– Пойди, о матушка, посватай меня за хозяина нового хаммама, у которого еще нет жены…
И старуха поклонилась ей с большим почтением, сказав:
– На голове и на глазах, о доченька!
Причем хитрая старуха даже не спросила, как зовут хозяина нового хаммама, где он живет, и откуда известно, что он имеет склонность к женитьбе. Откуда-то она это уже знала, и поспешила, а к Джейран подошли две молодые невольницы, чтобы показать ей новое платье из дорогого шелка, цветом между шафраном и апельсином, и шелковый мосульский изар, и расшитые туфли, отороченные золотым шитьем, и пару золотых браслетов для ног, и браслеты для рук на замках с большими жемчужинами, и жемчужные серьги, и платок из полосатой парчи…
А за дверьми вдруг послышался шум, и Джейран, растерявшись и уронив все свои драгоценности, кинулась за шелковую занавеску, где и застыла, полуголая, прижимая к груди разноцветные наряды.
И она никак не могла понять – как это вышло, что старуха удалилась совсем недавно, а вот уже ведут в дом жениха, окруженного толпой, и у дверей уже сидят на скамье приглашенные певицы, и немедленно откуда-то донеслись ароматы свадебного пира…
Джейран выглянула – и увидела под белоснежным тюрбаном темное, тонкое, смолоду нежное, с годами отвердевшее, но красивое лицо немало повидавшего в жизни мужчины, которому, по ее соображениям, было около тридцати пяти лет. Он вошел, обвел комнату темными, глубоко посаженными глазами, увидел разбросанные впопыхах ткани и украшения, усмехнулся и довольно погладил сухой смуглой рукой небольшую черную бородку. Это воистину был он – возлюбленный, о котором Джейран мечтала десять лет!
На мгновение ей стало страшно – ведь бывали же случаи, когда мужчина, заключив с женщиной брачный договор, входил к ней, впервые глядел ей в лицо – и отсылал ее к родителям нетронутой! О подобной неприятности толковал и Коран. А ведь Джейран всегда была нехороша собой, что бы там ни говорила умница Фатима. И она безумно боялась, что возлюбленный войдет к ней, и увидит ее, и немедленно от нее откажется…
Джейран не любила смотреться в зеркала. И она схватилась за бронзовую ручку, и с отчаянием повернула к себе зеркало – неужели и впрямь уродство ее настолько велико, что дела не поправить даже основательным приданым? Она посмотрела – и не узнала собственного лица. Там, в зеркале, была красавица, на щеках которой лежали два искусно выложенных локона, словно два скорпиона, и к каждому на золотой ниточке был привязан самоцвет, с насурьмленными глазами и черными волосами, и слегка раскрытыми устами, и сходящимися бровями, и она была совершенна по качествам, и походила на нежную ветвь или стебель базилика. И щеки ее были овальны, и глаза – темнее ночи, и улыбка ее похищала разум.
Немедленно Джейран вспомнила, кто и как привязан к ее локонам самоцветы, и ее новое лицо мгновенно стало привычным, и она позвала невольниц, чтобы помогли ей надеть первое платье, в котором она появится перед знатными гостьями, которые уже спешили к ее дому…
И свадьба промелькнула, и настал миг, когда невольницы оставили Джейран в спальне на ложе из бамбука с ножками из слоновой кости, и со смехом убежали, пожелав того, о чем она не решалась раньше и думать. И он вошел, и улыбнулся, и протянул руки, и приблизил Джейран к себе… и было все, что ей обещали умудренные опытом женщины, хотя было как бы в радужном тумане… и они провели ночь до утра в наслаждении и в радости, одетые в одежды объятий с крепкими застежками, в безопасности от бедствий дня и ночи…
А потом Джейран проснулась и удивилась, что возлюбленного супруга рядом с ней больше нет.
Она приподнялась на локте – и увидела, что лежит в богато убранном помещении, стены которого увешаны дорогими коврами, и дверь на эйван открыта, и дверная занавеска откинута, а солнце, заглядывая, играет на крутых боках медного кувшина, стоящего посреди подноса, и кувшин окружен мисками с рисом, сваренным в молоке и посыпанным сахаром, с поджаренной тыквой в меду и с лепешкой-кунафой из лучшей пшеничной муки, на которую не пожалели масла.






