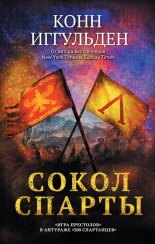Повести л-ских писателей Зарубин Константин

Саша переспросила, когда я замолчал:
– Ты потерял книгу?
Как будто из всего, что я рассказал, она услышала только первое предложение. Я подтвердил, что потерял книгу. Еле ворочая наждачным языком, начал повторять ключевые детали. Соревнования, поражение, метро, сумка… Потом заткнулся. Саша что-то сказала тихо. Я не расслышал с первого раза.
– Что?
Она повторила:
– Я тебя ненавижу. Ненавижу. Ненавижу.
Я, вероятно, всё-таки заставил себя поднять глаза, посмотреть ей в лицо, потому что помню, как у неё губы дрожали. Но она не плакала. И не смотрела на меня. И не сказала больше ни слова. Просто пошла вверх по Карла Маркса и свернула налево, в сторону Институтской. Почему-то наверх в сторону Институтской она пошла, а не вниз на Крещатик, где остановка. Мне долго не давало покоя это обстоятельство. Совершенно случайное, конечно… Хотела уйти прочь от меня поскорее, не важно куда, вот и пошла. Но я ломал голову, искал тайный смысл…
Саша звонила потом моей матери. Сказала, что, к сожалению, больше не сможет давать мне уроки. Сослалась на свою учёбу, про книгу ничего не сказала. Мать ей, конечно, не поверила. Они с бабушкой были свято убеждены, что Саша бросила со мной заниматься, потому что я к ней приставать начал. «Полез небось лапать, кобелёныш!» Мать, наверное, до сих пор так думает.
Бокс я окончательно бросил только через год, уже в девятом классе. Но обратите внимание, что я вообще пошёл в девятый класс! Последнюю четверть восьмого закончил с кучей четвёрок, в том числе по физике. Даже тройки получились солидные, без натяжек. У Маргариты Сергеевны, нашей классной, не было никаких претензий.
А по литературе украинской знаете, как я получил тройку за восьмой класс? Я пересказал все «Повiстi» в письменном виде. Просто вот всё, что помнил, взял и записал по-украински. На половину общей тетради хватило. Сначала я не для школы писал, я начал писать, чтобы с ума не сойти в тот вечер, после встречи с Сашей. Вернулся из центра, украл тетрадку у Веруни, вооружился словарём и сел строчить, воображая, что Саша ещё придёт и я ей покажу, докажу, что «Повiстi» потрясли меня не меньше, чем её. Я надеялся, что она увидит, как я пытаюсь сберечь потерянную книгу, да ещё и на языке оригинала, на её родном языке, и она простит меня. А потом мы снова встретимся у метро на Карла-Марла, и дойдём-таки до скверика, и будем смеяться над всей этой историей, и Саша повторит свои три «ненавижу», только теперь в шутку, подтрунивая надо мной…
На исходе мая я сумел наконец поверить, что она больше не придёт. Я отнёс тетрадь в школу и сдался на милость нашей учительницы украинской лит-ры. «Юлия Михайловна, я книгу по-украински прочитал! Несколько раз! Это лучшая книга в истории книг! Я написал художественный пересказ, употребляя глагол “уподібнювати”!» А наша украинка добрая была, сжалилась над придурком. Полистала тетрадь, похвалила меня и поставила «тверду трiйку».
Тетрадь, кстати, она оставила себе, якобы «для отчётности». Может, имеет смысл поискать эту тетрадь? Саму книгу вы всё равно не найдёте. Вы уж поверьте мне. Я пробовал. Я столько лет пробовал…
Улица Институтская до 1993 года называлась улицей Октябрьской революции. Но это мелочь. Я простоты ради тоже говорю иногда, что в детстве жил на Кирочной, хотя в моём детстве она была Салтыкова-Щедрина.
Гораздо более серьёзная проблема в другом. Вы, как говорится, будете смеяться, но едва ли не единственный львовский писатель-фантаст, у которого выходили официальные советские публикации на русском или украинском, – Станислав Лем. Фантаст Владимир Кузьменко, написавший трилогию «Древо жизни», тоже жил во Львове, но его первая публикация датирована 1991 годом. Возможно, есть какие-нибудь журнальные публикации забытых авторов. До них я ещё не добрался.
Для порядка отмечу, что ни единого следа книги под названием «Фантастичнi повiстi львiвських письменникiв» найти не удалось. Сюрприз, сюрприз.
Что касается учительницы свидетеля Цихненко. Вероятность того, что она сохранила тетрадь с пересказом Цихненко, невелика, но, по-моему, есть. Дадите отмашку – отправлюсь в Киев первым же постковидным рейсом. Цихненко учился в 204-й школе. Учительницу украинской литературы звали Юлия Михайловна. Даже если тетрадь не сохранилась, поговорить с Юлией Михайловной и с другими учителями Цихненко было бы весьма любопытно. Лишь бы они живы были.
Свидетель № 5
Год и место рождения: 1936, Ленинград.
В 1937–1959 гг. проживала во Фрунзе, Киргизская ССР.
В 1959–2008 гг. проживала в Ленинграде/Санкт-Петербурге.
С 2008 г. живёт в Вильнюсе. (Приписано ручкой: Умерла в Вильнюсе 21.04.2020. Насколько я понял, не от ковида.)
Профессия: инженер-радиотехник, поэтесса, переводчица художественной литературы с украинского и литовского языков (литовский – второй родной, от матери).
Дата наводки: 30 октября 2019.
Воспоминания получены 8 ноября 2019.
Книгу, которую вы ищете, я видела в начале восьмидесятых. Точный год назвать не сумею. Могу, как это делают историки, обозначить «не ранее» и «не позднее». Было это не ранее восемьдесят второго, потому что в восемьдесят втором у меня вышел третий сборник стихов, из которого я как раз и читала на встрече в Сланцах. И было это не позднее аварии на Чернобыльской АЭС. Вы сейчас поймёте почему.
Сборник Карминовой «На берегу весеннего дождя» вышел в феврале 1982 года.
Надо при этом учесть, что от встречи до Чернобыля наверняка прошло не менее полугода, потому что она успела отодвинуться куда-то на периферию памяти. Отчётливо помню: когда поползли слухи об атомной катастрофе, один кошмарней другого, я долго не могла сообразить, где же мне уже попадались все эти слова, такие жуткие и такие чарующие одновременно. «Ликвидаторы», «четвёртый энергоблок», «эвакуация Припяти». Да-да, именно Припяти! За название города готова поручиться. Моя родня со стороны отца жила в Иванкове, это менее ста километров от Припяти. Двоюродная племянница даже одно время в детском саду там работала. Немудрено, что мне врезалось в память название той повести: «Припять, планета Земля».
Итак, делаю вывод, что книгу я листала где-то между весной восемьдесят второго и осенью восемьдесят пятого. Назвать более точную дату, к моему великому сожалению, не могу. Даром что целых четыре генеральных секретаря уместились в этот интервал. Наверное, другие, сознательные товарищи на моём месте легко бы вспомнили, какой из неустанных борцов за мир у нас тогда красовался на портретах. А я бросила году в семьдесят пятом и новости смотреть, и газеты читать, и даже думать о них обо всех. Так и жила как бы вне истории, пока Сахарова не вернули из ссылки. Помню, именно возвращение Сахарова меня растормошило. Подумала: батюшки-светы! И вправду тронулся куда-то лёд.
Последняя зацепка, которую могу добавить по времени, – буйно разросшиеся лопухи у библиотеки. Запомнились мне эти пышные лопухи, припорошенные дорожной пылью. Значит, зима и ранняя весна исключены. Да и поздняя осень, пожалуй, тоже.
Чтобы не засорять Ларе Михайловне память, я не упоминал никакого Сашу Лунина, пока не получил её мемуары в надёжном писчебумажном виде. Только про Болонью спросил, но это как обычно.
Саша, напомню, читал тетради Павлика в первой половине 1985 года. Учитывая, что Павлик переписывал книгу «сколько-то месяцев» (см. ниже) и утонул летом 1985-го, а утонув, едва ли мог лично вернуть книгу в библиотеку, получается, что сборник появился в Сланцах не позднее самого начала того же года.
На момент гибели Павлику было пятнадцать. Если брать нижнюю границу, предложенную Карминовой (весна 1982-го), то Павлик впечатлился «Повестями» в возрасте одиннадцати лет. С одной стороны, вроде маловато для глубоких литературных переживаний. С другой стороны, Саше в 85-м было столько же, а я сужу по себе. Пусть те товарищи, которые в двенадцать лет громко хвастались на ул. Салтыкова-Щедрина в г. Ленинграде, что прочитали всю мамину библиотеку, предложат альтернативную оценку!
Приглашение в Сланцы мне оформила Лидия, директор библиотеки. По отчеству – что-то на «эн»: то ли Никитична, то ли Никифоровна. Фамилию я позабыла. Вероятно, можно в Сланцах навести справки.
Поехала я, кажется, охотно. Как поэт я никогда особым вниманием избалована не была – не Ахмадулина, поди. Я ведь и не писала стихов лет до тридцати. Училась на радиотехническом в ЛЭТИ, три года отработала по специальности. И так вышло (совершенно случайно, через одну знакомую моей первой свекрови), что занялась художественным переводом с литовского.
Литовский мне достался от матери – сугубо разговорный, бытовой, но всё же близкий к литературному. Мама была из образованной каунасской семьи. Мой дедушка, мамин отец, был убеждённый коммунист и занял сторону большевиков во время советско-литовской войны девятнадцатого года. Когда большевистское наступление провалилось, он вместе с семьёй бежал в Петроград. Долго работал в партийном аппарате. В тридцать шестом (я только-только родилась) дедушку арестовали. Уже после войны до нас дошли слухи, что он умер в пересыльном лагере. А отца моего, украинского большевика, расстреляли в тридцать седьмом. Нас с мамой и братом Борей тогда же выслали в Киргизию.
Интересно, что Боря (он был на шесть лет меня старше) вырос без литовского. А со мной мама в ссылке заговорила на родном языке. Думаю, это была своего рода защита от действительности, отчаянная слабенькая попытка хоть что-нибудь контролировать в своей судьбе, хоть куда-то скрыться. Бегство в пространстве было исключено, а вот в родную речь всегда можно было ненадолго сбежать. Мы с мамой так и проговорили по-литовски до самой её смерти. Только при посторонних обычно переходили на русский.
Первые литературные переводы с языка, на котором я едва умела читать, дались мне нелегко. Я рыскала по словарям; семь потов с меня сходило на каждой странице. Но довольно скоро наловчилась, втянулась. Поездила в Литву, чтобы язык оживить. Много средней и крупной прозы перевела: Симонайтите, Жилинскайте среди прочих, если имена эти вам что-нибудь говорят.
А поскольку в Литве тогда очень сильная поэзия была, я много подстрочников делала с литовского для разных ленинградских поэтов. В один прекрасный день попробовала зарифмовать всё сама – и вроде бы получилось и даже самой понравилось. Перевела две книжки поэзии и как-то по инерции стала рифмовать своё, без литовских оригиналов. Вот так нарифмовала я сначала на один сборник, потом на другой. И приняли меня в секцию поэзии ленинградского отделения Союза писателей.
Стихи у меня были не ахти какие оригинальные, что уж греха таить. Гладенькие, простенькие. Зато, как говорят, «от души». Писала о любви, о женской доле, о семейных буднях, о повседневной подлости и благородстве. Оплакивала ускользающее время. В аннотации к третьему сборнику так меня и припечатали: «Поэзии Карминовой присущи узнаваемость образов и ярко выраженный исповедальный характер».
И, главное, никакой идеологии у меня в стихах, конечно же, не было, если не считать аполитичного гуманизма. Так что находились охотники, а вернее сказать, охотницы и до моей поэзии. Преобладали среди них женщины от тридцати и до пенсии: инженерши, бухгалтерши, учительницы, библиотекарши – в общем, все мои социально близкие и родные. Если принять во внимание, что поэзию никто, кроме этого контингента, особенно и не читает, то стихи мои, выходит, были именно такие, какие надо.
К сожалению, творческие командировки для общения с низовой советской интеллигенцией женского пола мне в Союзе писателей выписывали нечасто. Точнее, не выписывали совсем. Подразумевалось, что такого добра и в Ленинграде хватает. Конечно, кто был повыше рангом да попартийней, тот мог оформить поездку куда угодно – с произвольной целью. Надо ему «собирать материал» о подвигах рыбаков где-нибудь в Коктебеле в разгар пляжного сезона – пожалуйста. Идите в бухгалтерию, оформляйтесь. И суточные им капали такие, что за месяц набегало пять зарплат моих смиренных библиотекарей. А то и больше.
Впрочем, я не жалуюсь. По переводческой линии сама иной раз каталась в Литву. Вернувшись, сочиняла и сдавала отчёты-отписки. «Мною освоен широкий пласт современной бытовой лексики…» «Мною обсуждались стилистические трудности при переводе лирики Межелайтиса…» На самом деле, конечно же, никакой лирики я там не обсуждала. Пировала у местных поэтов да бегала по магазинам. У литовцев же всегда лучше было со снабжением.
И всё-таки чаще случалось ездить не по прихоти, а по разнарядке, в составе писательского десанта в какой-нибудь совхоз «Первомайский». Приедешь, бывало, а там, естественно, никто про тебя слыхом не слыхивал. Бабоньки местные рассядутся, наклонят головы, послушают, поохают, похлопают: ой, товарищ поэт, до чего ж вы складно пишете, жалостливо. Была, конечно, и в этом своя прелесть. Однако настоящую, честную радость приносили только редкие поездки к моим читательницам. К тем, кто листал уже мои невзрачные лениздатовские книжицы за двадцать семь копеек. Мои читательницы приходили на встречу, как на собрание тайного общества, на сходку подпольного профсоюза женщин, передумавших слишком много мыслей. Мои читательницы с ходу говорили со мной, как со старой подругой, которую сто лет не видели. Это было совсем другое. Это, повторюсь, было настоящее.
Лидия Никитична-Никифоровна, Лида, пригласившая меня в Сланцы, была из таких женщин. Хорошо помню, как она встретила меня на вокзале ни свет ни заря. Я могла на утреннем автобусе поехать; так и удобней бы вышло, и быстрее. Но почему-то отправилась поездом, а поезд уходил с Варшавского за полночь и полз как черепаха – шесть часов. Вагон, помню, был общий. Духота стояла страшная, курил кто-то.
Запомнилась мне и Лидина внешность. Волосы густого медного цвета, сплетённые в тяжёлую косу. (Лида укладывала её на грудь, когда садилась.) Ей было под пятьдесят, и я, конечно, подумала, что она прячет седину под этой ненатуральной медной краской. А она, видно, привыкла к таким подозрениям. Подловила мой взгляд, сказала с улыбкой: «Думаете, крашу? Нет, сами такие».
И ещё. Лида волочила ногу. Кажется, правую, но не ручаюсь. Не очень сильно волочила, да и на вид нога была как будто в норме, не усохшая, только немного завёрнутая внутрь. Не знаю, врождённый то был дефект или последствия травмы. Сама Лида о своей ноге не заговорила, а я, как вы понимаете, расспрашивать не стала. В помещении она ходила без палочки, но, когда шла на улицу, брала такую классическую клюку с загнутой ручкой. Ходила при этом не то чтобы быстро, но твёрдо, уверенно.
Как прошла моя поэтическая встреча, помню очень смутно. Пожалуй, что и совсем не помню. Послевкусие осталось хорошее, вот и всё. Народу, наверное, пришло не больше и не меньше обычного, а значит, человек десять. Точно могу сказать, что библиотека Лидина была далеко от вокзала, в каком-то тихом загородном райончике, куда нужно было на автобусе добираться.
И что заночевала я тогда у Лиды – в этом совершенно не сомневаюсь. Я ведь поначалу думала в тот же день вернуться в Ленинград, вечерним автобусом. Но после бессонной ночи в прокуренном вагоне меня к вечеру так сморило, что Лида просто не пустила меня на вокзал. «Куда ж вы, – говорит, – Лара Михайловна, на ночь глядя в таком состоянии. Сейчас я вас накормлю, напою чаем с пирогами, а завтра выспитесь – и в дорогу». Взяла под руку, да так и повела. В одной руке клюка, в другой я.
Лида жила в однокомнатной квартирке на другом конце города, на четвёртом или пятом этаже. До её дома нас подвезли на «жуке». Мне это запомнилось, потому что водителем была женщина, Лидина знакомая, которая, несмотря на свой суровый вид, несмотря на папиросу, будто прилипшую к губе, очень трогательно стеснялась «писательницы из Ленинграда», то есть меня. Эта водительница, кажется, поднялась с нами на чай, но посидела совсем недолго. А пироги, кстати, были объеденье – черничные. Вот не помню только, свежая была черника или засахаренная, из банки.
Вы уж простите мне такую прорву подробностей. Мне кажется, что это важно. Я имею в виду, важны не подробности сами по себе, а то обстоятельство, что я помню столько подробностей. По крайней мере, думаю, что помню. Связано это не с чем иным, как с книгой, которая вас интересует. Её страницы как будто светятся у меня в памяти, и свечение это выхватывает из темноты соседние фрагменты прошлого. Допускаю, конечно, что это иллюзия, возникшая задним числом, уже после Чернобыля. Но в таком случае иллюзия очень стойкая.
Тем более странно, что обложки я не помню. В какой-то момент (мы ещё сидели на кухне) Лида принесла книгу из комнаты и спросила, не переводила ли я кого-нибудь из её авторов. Она знала, что я перевожу с литовского, читала мои переводы, а следовательно, авторы точно были литовцы и книга наверняка называлась «Фантастические повести литовских писателей», или «Фантастические произведения литовских писателей», или просто – «Фантастика литовских писателей», хотя мне всё-таки кажется, что из четырёх слов состояло название. Помню формат: стандартный средний. Помню, что томик был увесистый, не менее пятисот страниц. Помню даже, как разглядывала выходные данные: «Лениздат», тысяча девятьсот семьдесят какой-то, и что-то о человечестве в аннотации, какие-то «перекрёстки научных и нравственных проблем». А вот как выглядела обложка, какого хотя бы цвета она была, какой фактуры – шероховатая ли, глянцевая, – это выветрилось бесследно.
Сколько было произведений в сборнике, с точностью сказать не могу. Перед глазами дрожит оглавление, но слова давно расплылись; остались только смазанные линии разной длины. Этих линий никак не меньше семи и едва ли больше двенадцати. Не вижу, но помню, что имена каких-то авторов повторялись. В общей сложности было там человек пять, из них по крайней мере одна женщина, с фамилией на «-айте»; именно она написала повесть о Припяти. Уверена, что никого из авторов я не переводила. Больше скажу: я и не слышала о них до того вечера.
Впрочем, не думаю, что меня сильно удивили незнакомые писатели. Решила, скорее всего, что молодая поросль в сборнике представлена. Молодые любят фантастику сочинять; на реализм у них ещё жизненного опыта не хватает. Другое дело – незнакомые переводчики. Фамилии переводчиков, как заведено, значились курсивом у каждой повести. В нашем тесном мирке литовских толмачей все друг друга знали наперечёт, каждое новое имя вызывало любопытство, а в том оглавлении было сразу несколько абсолютно неизвестных мне фамилий.
Одного Витю Блажиса я узнала. Да и узнала ли? Витя был наш, ленинградский, и в восемьдесят шестом, после Чернобыля, я к нему первому и бросилась: «Витя, дорогой, помнишь тот крамольный сборник литовской фантастики, где всё это было предсказано? Ты повесть для него ещё переводил – что-то о космосе, с длинным таким вычурным названием? У тебя не запылился дома авторский экземпляр?»
А он мне, представьте: «Лара, ты о чём? Сроду не переводил никакой фантастики. Тем более о космосе». Я говорю: «Витя, ну как же. Я же собственными глазами видела. “Вэ Блажис”! Какой ещё “Вэ Блажис” будет переводить с литовского в лениздатовском сборнике?» Но Витя так и не признался. «Вот в “Лениздате”, – говорит, – и спрашивай». Мало ли, мол, на свете «Вэ Блажисов». Одних Витаутасов Блажисов наверняка целая рота.
Но я забегаю вперёд. Вернусь на Лидину кухню в Сланцах.
Лида не удивилась, когда я призналась, что не знаю ни книги, ни авторов. Сборник, рассказала она, отозвали буквально через неделю после того, как он поступил в библиотеку. Хотели, вернее, отозвать. Позвонили из «Лениздата». Во всяком случае, заявили, что из «Лениздата». Сказали, что часть тиража якобы с браком, что экземпляр, попавший в Сланцы, с ужасным полиграфическим изъяном. Дали указание сборник вернуть и в фонд пока не вносить, а если внесли уже – вычеркнуть до прихода нового экземпляра.
А в то время все же всё правильно понимали. Не надо никому было разжёвывать. Лида как трубку положила, так и бросилась эту книгу разыскивать. Новых поступлений, по её словам, тогда много пришло, всего разобрать ещё не успели, а уж тем более прочитать. Да и к фантастике Лида обычно была равнодушна. Но раз такое дело, раз из «Лениздата» звонят, обратно требуют – кто ж тут устоит?
И вдруг выясняется, что книга уже на руках. Лидина коллега её оформила и выдала местному любителю фантастического жанра. У них в библиотеке несколько таких было пригрето под крылом.
Фантастику же читали взахлёб, любую, будь она хоть литовская, хоть монгольская. А книги, которые читали, в магазинах просто так не продавались. У меня сын бредил тогда космосом, пришельцами, так что для меня дефицит фантастики был не менее насущной проблемой, чем дефицит колбасы. Наохотилась я за Абрамовыми, за Снеговым, за Ефремовым, за какими-то переводными антологиями. Любые новые издания фантастики пропадали мгновенно. По блату расходились, по подписке. Что-то, конечно, доходило и до библиотек. Там уже действовал скромный блат, так сказать, второго уровня: кто в фаворе у библиотекаря, тот первый знает, что пришли новые Стругацкие. У Лиды в библиотеке поклонники жанра так и стояли гуськом в одной негласной очереди. Только между собой местами менялись: в этот раз Иван Петрович первый читает, в другой раз Пётр Иваныч и так далее.
И вот кто-то из этой клиентуры перехватил уже повести литовских писателей. Что делать? Бежать и отбирать у читателя книгу Лида, разумеется, не стала. Рассудила, что срок выйдет – сам принесёт. Клуб любителей фантастики книги не передерживал. У них был армейский распорядок: книгу принял – книгу сдал. Как штык, ровно через десять дней.
Но недели не проходит – снова звонят. Снова будто бы из «Лениздата»: «Вы литовских писателей выслали?» Лида им объясняет: книга на руках, читатель вернёт – сразу вышлем. В «Лениздате» как с цепи сорвались: «На каких руках?! Какой читатель?! Кто позволил?! Вы что там, с ума посходили? Вам сказано: книгу с фонда снять и вернуть немедленно!» Лида такого хамства не выдержала. «Мы, – говорит, – библиотека, а не то учреждение, которое вам надо. К нам поступила книга, мы её оформили и выдали читателю. Ездить по домам и конфисковывать недозволенную литературу не входит в наши служебные обязанности».
На том конце ещё поорали и трубку бросили. Лиде стало страшно, когда возмущение поостыло. Схватилась за голову: «Кто меня за язык тянул!» Работать не может, всё из рук валится, сыпь выскочила на нервной почве. Проходит ещё день-два. Наступает срок возврата книги. Но вместо читателя являются прямо из Ленинграда трое молодцов в штатском на машине. Размахивают удостоверениями. «Кому выдали книгу? Имя? Адрес?» Взяли адрес, похлопали дверцами, умчались. Лиде от мысли, что она на человека органы напустила, сделалось так плохо, что коллега ей скорую вызвала.
А у читателя на квартире тем временем разыгралась драма, переходящая в театр абсурда, – в наших лучших национальных традициях. Читатель, представьте, умер накануне вечером. Внезапный инфаркт его свалил на пике трудоспособного возраста, как у наших мужчин заведено. Гэбэшники звонят в дверь, а в квартире слёзы, родственники, покойный на диване лежит. Никто не знает, что там за книгу он брал из библиотеки, куда там он её запрятал. Молодцы в штатском помялись, но делать нечего, приказ есть приказ. Начали обыск посреди траура – шкаф за шкафом, полка за полкой.
Подняли вверх дном всю квартиру. Никакой литовской фантастики не нашли. Уехали несолоно хлебавши и доложили, видно, своему начальству, что книга пропала с концами. Никто больше Лиде по этому поводу из Ленинграда не звонил.
На том бы история и закончилась. Лида сама ни за что не пошла бы разыскивать эту злосчастную фантастику. Она ужасно переживала из-за случившегося. Городок же небольшой. Скоро каждый ребёнок знал, что приезжало КГБ из Ленинграда искать у покойника библиотечную книгу. Лида мне сказала, что ей поначалу и на работу-то стыдно было ходить, не то что показываться на глаза семье покойного.
Сашина сестра подтверждает, что был у них в подъезде такой эпизод. То ли милиция, то ли «органы» проводили обыск в квартире на другой день после смерти хозяина. Сестра младше Саши на пять лет. Говорит, что была тогда «совсем маленькая» и не помнит ни год, ни имя соседа. Она в Израиле «почти двадцать лет» и давно не поддерживает связь ни с кем из «родного подъезда», но обещала «поспрашивать, если вдруг».
Судя по ледяной вежливости, с которой она отвечала на мои вопросы, я сомневаюсь, что это «вдруг» когда-либо случится.
Прошло сколько-то месяцев. Возможно, что и год прошёл. И вдруг в один прекрасный день книга приезжает к Лиде сама. Мальчишка её привёз – мне хочется сказать «мальчишка лет тринадцати», но лучше не буду. Вполне допускаю, что Лида этого не говорила и я сама додумала возраст, потому что явственно представляю себе этого мальчишку, хотя никогда его не видела. Почему-то в моём воображении он худенький, чернявенький, долговязый не по годам, в школьной форме со слишком короткими рукавами. Вы, пожалуйста, ни в коем случае не обращайте на этот образ внимания. Это чистой воды фантазии.
Оставляю без комментариев.
Лида этого мальчика раньше не видела. Вероятно, он в другую библиотеку ходил, не в её районе. Он назвался соседом покойного любителя фантастики. Рассказал, что дядя Имярек дал ему книжку почитать на два дня, а забрать не успел. Лида спросила: «Что же ты, дорогой мой, так долго библиотечную книжку не возвращал?» Мальчик покраснел. «Я, – говорит, – боялся, что милиция к нам придёт». Он в школе был, пока гэбэшники соседей обыскивали. Потом, когда узнал, что у соседей стряслось, сразу же книгу спрятал подальше. Никому её не показывал – ни родителям, ни друзьям.
Лида спросила: «А ты сам-то книжку прочитал? Понравилось тебе?» Мальчик покраснел ещё гуще, помялся и признался в конце концов. Сказал, что прятал книгу не только потому, что страшно было. Он не мог с ней расстаться, пока не сделал себе собственный экземпляр. Он, представьте, от руки переписал весь сборник. Все пятьсот или сколько там страниц. Один бог знает, сколько времени и тетрадок ему на это понадобилось.
Лида похвалила парнишку за честность. Посоветовала никому больше про сборник не говорить и тетрадки свои среди друзей не афишировать. Тот с радостью пообещал, что нет-нет, никому ничего не скажет. Попрощался и пулей из библиотеки вылетел. Видно, боялся, как бы Лида не передумала, не повела его в милицию.
Сборник остался у Лиды. Она прочитала его в тот же день. Рассказала мне, что не могла оторваться, дочитывала уже глубокой ночью. Никакого типографского брака в книге, конечно же, не нашлось. Зато содержание! Содержание было похлеще любого самиздата. У Лиды не укладывалось в голове, как эти повести пропустили в печать на русском. По-литовски их с грехом пополам ещё можно было представить. На прибалтийских языках, бывало, удавалось довольно несоветские вещи протащить. У прибалтов послабей была и цензура, и, главное, самоцензура. Но чтоб по-русски такое! В Ленинграде!
Во-первых, непечатными были сюжеты. Все повести, насколько я поняла, описывали будущее, далёкое и не очень далёкое. Советской власти в этом будущем то совсем не было ни в каком виде, то её было слишком много и вела она себя слишком правдоподобно – как настоящая советская власть.
Во-вторых, непечатным был общий тон прозы. Это я сама хорошо запомнила по тем повестям, что успела прочитать у Лиды в гостях. Настроение они оставляли не то чтобы мрачное или упадническое… Скорее, невыразимо печальное. Описать невероятно трудно… Представьте, что началось что-то непоправимое, какая-то ползучая, отложенная трагедия. И только вам известно, что ход событий изменить уже невозможно. И вам ясно, что никто в этой трагедии особенно не виноват, кроме законов мироздания. И поэтому вам некого проклинать, поэтому не с чем отважно бороться. Места подвигу уже не осталось. Но вам всё равно стыдно. Это важный момент. Вам горько, и стыдно, и очень легко. Как будто вы догадались, что лично вас обязательно пронесёт. Вы свой век доживёте без бед, какой бы ужасной ни была развязка для других.
Вы, пожалуйста, не принимайте эту аналогию слишком всерьёз. Она очень неточная. Я вам всего лишь краски разбрызгала по холсту. Ни одной верной линии этими красками не могу провести. Не найти мне уместных сравнений для того настроения. Ахматова или Мандельштам, пожалуй, нашли бы. А я, бесталанная, не могу.
И ведь обычными русскими словами всё было написано! Как им такое удалось, этим безвестным переводчикам? Сама себе перестаю верить, когда об этом думаю. Может, ореол тайны всё так окрасил задним числом? После Чернобыля? Может, и не было в той прозе ничего сверхъестественного… Может, всего-то и была одна случайная догадка… А остальное – Лидины горящие глаза. Её слова взволнованные. Ночь в чужом городке, в чужой квартире, сладость запретного плода – неужели в этом всё дело?
Как я уже сказала, сама я в ту ночь успела прочитать далеко не всё. В общей сложности, наверное, не больше четверти книги. Очень хотела читать дальше, но организм не выдержал, заснул, отомстил мне за бессонную ночь в прокуренном поезде.
Читала я не по порядку. Начала, вероятно, с повести о Припяти – она сразу привлекла моё внимание. Затем прочла ту, которую перевёл «В. Блажис». От неё считаные крупицы у меня остались в памяти. Помню космос, помню, что название было длинное и сюжет закрученный, красивый и как-то связанный с настоящим – с тогдашним настоящим. Отчётливей всего, стыдно признаться, помню чувство жгучей зависти к Вите Блажису, коорое мучило, пока читала. Я же была уверена, что это его перевод. Переворачивала страницы, чуть не плача от обиды. Думала: мне так никогда не перевести.
Кажется, я начала читать и какую-то третью повесть. Но если и начала, то совершенно ничего не запомнила. Единственное, за что могу поручиться: Болоньи в той повести не было. Италию я бы не забыла, вы уж поверьте. Я ещё школьницей была – бредила Италией. Всю жизнь мечтала поглядеть на неё хотя бы одним глазком. На старости лет, уже литовское гражданство получив, сподобилась наконец. Спасибо дочери: свозила меня четыре года назад в Рим, во Флоренцию, в Пизу. Чудесная была поездка. До сих пор ею живу. Вспоминаю её, когда кошки скребут на душе, и как-то легче становится…
Наутро я проснулась в Лидиной квартире одна. Был рабочий день. Возможно, четверг или пятница. Лида ушла на работу, так и не дождавшись моего пробуждения. Хорошо помню сытный завтрак, укутанный в белые полотенца. В общих чертах помню и записку на два листа, что лежала на кухонном столе рядом с завтраком. «Простите, дорогая Лара Михайловна, так уж вы сладко спали, не решилась вас тревожить, ключ бросьте в ящик». До вокзала дойдёте так-то и так-то, автобусы на Ленинград отходят тогда-то. «Спасибо Вам от всего сердца, что заглянули в наш городок». Большая часть записки состояла из благодарностей, местами очень личных, за конкретные стихи, за отдельные строчки. Видимо, Лида вложила в ту записку всё, что неловко было сказать в глаза.
Я ещё с детства, с Киргизии, мало ем с утра, но в тот раз себя заставила плотно позавтракать. Не хотелось обидеть хозяйку. Да и в полотенцах, чего греха таить, были вкуснейшие жёлтые творожники с изюмом. К ним прилагалась густая свежая сметана в чашечке, явно от частника. Очень запомнились мне Лидины творожники. Сама я, как вы понимаете, женщина книжная. На то, чтобы нажарить спозаранку такого великолепия, у меня в жизни ни сил бы не нашлось, ни уменья, ни, что самое главное, изюма – даже для самых дорогих гостей. Дома у меня все на спартанском пайке сидели: что лежит в гастрономе без очереди, что готовится быстро, то и кушать изволим. Муж покойный смеялся, давясь вермишелью: «Спутал чёрт, едрёна мать, поэтессу в жёны взять!»
Если не считать времени, потраченного на творожники, задерживаться в квартире я не стала. Неловко было. Дочитывать фантастику литовских писателей мне, кажется, даже не пришло тогда в голову. Сполоснула посуду, оделась, схватила свою походную суму многострадальную – и бегом на вокзал. Предполагаю, хоть и не помню, что собиралась позвонить Лиде из автомата (в квартире у неё телефона не было), но почему-то не позвонила. Не увидела автомата по дороге? Спешила на автобус? Не нашлось двухкопеечной монеты в кошельке? Как бы то ни было, до дома в Ленинграде я добралась только к вечеру, звонить Лиде в библиотеку наверняка было уже поздно, а на следующий день всё завертелось-закрутилось, как обычно: семья, переводы, собрания, мелочные интрижки и придирки издательские, на которые столько нервов уходило…
Так вот и получилось, что забыла я о Лиде как минимум на полгода, а скорее всего, на какой-то более долгий срок. И справки об удивительном сборнике не бросилась наводить. Лишь после чернобыльской аварии вспомнила свою поездку в Сланцы. Когда известия о катастрофе под Припятью перешли из области слухов в разряд официальной трагедии, за которую вождям нашим пришлось каяться перед всей Европой, я звонила в Лидину библиотеку. Звонила, судя по всему, не позднее конца мая восемьдесят шестого.
Говорю «не позднее конца мая», потому что тридцатого мая умерла моя свекровь. Мы всей семьёй отправились в Пестово на похороны. Это в Новгородской области. Там я застряла со свёкром на много недель; кажется, чуть ли не до августа. Свёкор без жены оказался почти беспомощен в быту, но не желал этого признавать, хорохорился, не хотел переезжать ни к нам в Ленинград, ни к дочери в Новгород. А поскольку одна лишь я могла на дому работать с переводами своими, мне и пришлось за ним присматривать, пока не уломали его, не увезли к моей золовке.
Таким образом, мой последний разговор с Лидой состоялся не позднее конца мая. Помню, что говорили мы долго, за межгород у меня набежало два с чем-то рубля на переговорном.
Я посмотрел из любопытства, что выходит по тогдашним тарифам. Учитывая, что до Сланцев от Питера более 100 км, звонок на «два с чем-то» продолжался не менее тринадцати минут.
Содержание той беседы запомнилось почему-то гораздо хуже. Кажется, Лида рада была меня слышать. Вероятно, она подтвердила, что в сборнике действительно была повесть о катастрофе в районе Припяти; иначе откуда же у меня такая непоколебимая уверенность в том, что она была? Предполагаю также, что мы условились в ближайшее время снова выйти на связь. Безотносительно к тому звонку, помню, как я собиралась ехать в Сланцы, как думала вооружиться «Зенитом» мужа и метрами фотоплёнки, чтобы отснять пророчества литовских писателей.
Но так и не съездила. Хотя, когда вернулась из Пестова, ещё раз до Лиды пыталась дозвониться – то ли в сентябре, то ли позже, но всё в том же году, восемьдесят шестом. Не застала её в библиотеке. Потом вроде бы писала ей письмо. Но дописала ли? Отослала ли? Не могу сказать с уверенностью…
Как бы то ни было, не следопыт я по темпераменту. Играть в Жюля Верна, гоняясь за таинственной книгой по Ленинградской области, – это, к сожалению, не моё. Охладила мою следопытскую прыть и начавшаяся перестройка. Трудно было поверить, что никто, кроме меня и безвестной библиотекарши из Сланцев, не вспомнит лениздатовский сборник, в котором чёрным по белому предсказана авария под Припятью. «Да будь эта книга хоть трижды под запретом, – думала я, – неужели люди вроде Вити Блажиса так запуганы, что будут врать мне в лицо?»
Чем больше вокруг было гласности, тем сильней я сомневалась. Почему люди, причастные к изданию сборника (а это же десятки людей!), продолжают хранить гробовое молчание? Во всех издательствах, в журналах половодье непечатной прежде литературы, в Литве уже «Саюдис», уже дело идёт к независимости, а этих литовских фантастов как будто расстреляли всех разом, причём заодно с переводчиками, корректорами, редакторами! Как будто сожгли все их рукописи, не оставили ни единого следа, кроме книжки в Сланцах! Ведь не могло же такого быть. Даже при Сталине не умели напрочь вымарать из истории целую книгу. Что уж говорить про последние годы советской власти?
В конце концов я перестала верить собственной памяти. Нет, я не думала, что мне пригрезились поездка в Сланцы, выступление в тамошней библиотеке, встреча с Лидой. Всему этому имелись вещественные доказательства в отчётности Ленинградского отделения Союза писателей. Но того сборника, решила я, быть никак не могло – во всяком случае, не в том виде, который мне назойливо подсовывала память. Яркость, детальность моих воспоминаний о книге не убеждала меня, а, напротив, лишь усиливала подозрения.
«Ладно, – твердила я себе. – Какую-то книгу я, по всей видимости, читала в тот вечер в квартире едва знакомой женщины в чужом городке. Допустим даже, что фантастику. Но всё остальное, вероятно, наросло задним числом, присочинилось: и литовские авторы, и крамола, и рейды КГБ, и, самое главное, Припять с атомной катастрофой».
И это ещё что! Стыдно вспоминать, но некоторое время я всерьёз подозревала, что стала жертвой гипноза. Тогда ведь началась эпоха Кашпировского и Чумака, в газетах каждый день писали об экстрасенсах. Я не верила ни в бога, ни в чёрта с привидениями, но меня, инженера, человека по складу ума совершенно научного, подкупили наукообразностью, с которой эта чепуха преподносилась. С большим интересом читала я о биополях, о неизведанных резервах человеческого организма. «А что, – думала я, – если Лида в тот вечер пустила в ход свои неизведанные резервы?» Что, если она внушила мне чувство столкновения с чем-то таинственным, а уж я потом сама наполнила это чувство фактическим содержанием? Как девочка, которая изнемогает от беспредметной влюблённости, пока не находит, наконец, на кого выплеснуть эту влюблённость…
Признаюсь: нечто подобное экстрасенсорное, я допускала вплоть до того момента, когда получила ваше письмо. Прочитав его, испытала сразу и облегчение, и горечь. Рада была, что не нужно больше сомневаться в своей памяти, не нужно из Лиды делать Кашпировского с медной косой. Но до слёз при этом сделалось жаль, что так и не съездила в восемьдесят шестом в Сланцы с фотоаппаратом, что потеряла связь с Лидой. Махнула рукой не просто на тайну, а на хорошего человека, который мне эту тайну доверил.
У меня (вздыхает) натурально билет был в Вильнюс на 19 марта. А Литва 16-го закрыла границу. А в апреле Лара Михайловна умерла. Так, по крайней мере, мне 2 мая сказал женским голосом на русском и литовском языках автоответчик по её номеру.
Распечатанную копию тетрадки Лены Негиной, впрочем, выслал ей почтой в прочном финском конверте 11 апреля. По трекингу знаю, что дошло 15-го. Не знаю, успела ли Лара Михайловна прочитать. Надеюсь, успела.
Повторю в энный раз: кому-то, у кого нет заочного приговора за госизмену, надо наконец съездить в Сланцы.
Свидетель № 6
Год и место рождения: 1968, Рустави (ок. 20 километров на юго-восток от Тбилиси).
В 1972–1990 гг. проживала в Тбилиси.
В 1982–83 гг. провела восемь месяцев в Ленинграде (октябрь – май).
В 1990–1994 гг. проживала в США.
С 1994 г. живёт в Германии (в Бохуме, затем в Берлине).
Профессия: с 2012 г. преподаёт классическую филологию во Freie Universitt Berlin. Более двух десятков научных публикаций (на немецком и английском), в т. ч. монография Gendered Space and Female Mobility in Greek Drama of the Classical Period (De Gruyter, 2017).
Дата наводки: 3 июня 2020.
Воспоминания получены 8 июня 2020.
Заранее простите меня за мой русский язык. В последние годы всё реже доводится писать по-русски, знания теряются, с трудом вспоминаю нужные слова и окончания.
Как я писала вам ранее, сборник, который вас интересует, попал мне в руки во втором семестре первого курса университета. Значит, в начале 1986 года. Думаю, это случилось в феврале или в самом начале марта. У меня впечатление, что до Чернобыльской аварии оставалось много недель, не менее пяти-шести. Я успела прочитать наиболее понравившиеся мне повести несколько раз. На февраль-март указывает и такое обстоятельство, как место чтения. В тёплое время года я любила читать в Университетском саду. Это был совершенно дивный сад тогда, вся наша компания бежала туда с книгами при первой возможности. Однако не припомню, чтобы я читала тот сборник в Университетском саду. Наверное, была холодная или дождливая погода.
Сборник оказался у нас дома таким же образом, как и многие другие редкие книги. Его принёс интересный человек, книголюб-коммерсант, которого в нашей семье за глаза называли Аркивисти, «архивариус». Настоящего имени я, к сожалению, не помню, и брат мой тоже не смог вспомнить. Родителей больше нет в живых, у них не спросить. Не знаю также, где Аркивисти официально работал, был ли он на самом деле архивариус. Зато внешность его помню хорошо: высокий, при этом сутулый, плечи покатые, широкие руки с волосатыми пальцами, огромные очки в толстой оправе, блестящая лысина в обрамлении всклокоченных пучковатых волос. Задним числом мне кажется, что лицом он походил на Мераба Мамардашвили, известного философа. Только выглядел менее ухоженно.
Аркивисти торговал разнообразным книжным дефицитом. Он всегда приходил с большим портфелем и суетливо оглядывался, переступая порог нашей квартиры. С точки зрения советских законов, он, конечно, занимался спекуляцией и поэтому чрезвычайно боялся, что его посадят. Его опасения мне сейчас кажутся немного смешными, преувеличенными. Тогда в Грузии, да и в других республиках было немало людей, которые занимались настоящим подпольным бизнесом, имели подпольное производство, ворочали большими деньгами. Мой отец работал в лёгкой промышленности, ему лично приходилось сталкиваться с подобными дельцами. Они как раз ничего особо не боялись, у них везде были связи, вплоть до республиканского КГБ. Может быть, впрочем, именно поэтому наш Аркивисти держался робко. У него, мелкого интеллигентного спекулянта, особых связей, наверное, не было.
Какие чудесные книги он приносил! До сих пор слышу запах некоторых томов, вижу их благородные кожаные переплёты: бордовые, зелёные, тёмно-синие, чёрные с золотым тиснением. Из портфеля Аркивисти появлялись и остатки дореволюционных библиотек, и сравнительно недавние издания на иностранных языках, которые разными нетривиальными способами привозились из-за границы. (У мамы дворянские корни, она получила от бабушки превосходное домашнее образование помимо школьного. Читала по-французски, по-немецки, по-итальянски. Мама покупала иностранные книги, когда только могла.) Попадался в портфеле и русский тамиздат. Помню непривычную, несоветскую обложку романа «Жизнь и судьба», изданного за границей, с французским подзаголовком. Но тамиздата было мало. Может быть, Аркивисти боялся, что посадят не только за спекуляцию, но и за антисоветчину.
Значительную долю ассортимента составляли дефицитные советские книги, которые нельзя было достать без блата. Из портфеля Аркивисти на наши стеллажи перекочевало немало красочных альбомов по искусству, разнообразные подписные издания. Мне досталось несколько книг из академической серии «Литературные памятники»: элегии Овидия, «Размышления» Марка Аврелия, письма Плиния и Сенеки, оды Пиндара, комедии Менандра, «Библиотека» Аполлодора. Я их зачитала до дыр. Ещё в восьмом классе я приняла решение, что пойду на классическую филологию. Каждый новый «литпамятник» укреплял меня в этом решении.
Как сложилась бы моя судьба, если бы Аркивисти извлёк из портфеля «Повести ленинградских писателей» ещё до моего поступления в университет? Как бы я отреагировала, если бы прочитала эту необыкновенную книгу ещё школьницей, когда мне казалось, что я наедине с целым миром, когда не встретила ещё «свою» компанию на филфаке? Кто знает…
Полностью сборник назывался . На обложке так и было написано белыми буквами в три строки по левому краю:
Произносится это так: «Ленинградел мцералта фантастиури мотхробеби». «Фантастические повести ленинградских писателей».
Как я говорила выше, Аркивисти, скорее всего, принёс эту книгу в феврале или в начале марта 1986 года. Её покупка мне теперь представляется невероятной сразу по трём причинам. Во-первых, у нас в семье никто не читал фантастику. Мама, наша главная читательница, считала фантастику «авантюрным жанром» для мальчиков. Папа вовсе не жаловал никакую беллетристику, предпочитая историческую и техническую литературу. Я была в целом согласна с мамой. Фантастика, которую доводилось читать, казалась плоской, неумело написанной. В ней словно действовали не люди, а фигурки, вырезанные из картона. Может быть, мой брат любил бы фантастику, если бы он вообще любил книги. Но брат читал только по принуждению, для школы. Он тогда увлекался рок-музыкой и футболом.
Во-вторых, никто ведь не читал русскую литературу в грузинском переводе. Это был нонсенс. Конечно, она переводилась на грузинский, для галочки. В республиканском Союзе писателей были, наверное, люди, которые так зарабатывали на жизнь. У нас на даче пылились «Тихий Дон» по-грузински, «Анна Каренина», «Герой нашего времени». Сомневаюсь, что их открывал кто-нибудь. Поэтому само по себе то, что Аркивисти принёс перевод с русского, было уже странно.
В-третьих, он ведь сказал мне прямым текстом: «Эта книга для другого читателя». Дословно помню: .
Мы, как всегда, толпились вокруг него у большого овального стола в гостиной. Я там была, мама была, папа был, а также Леван Джамалидзе и Тамила Габуниа, мои сокурсники, которые зашли к нам в гости после занятий. Леван ухаживал за мной на первом-втором курсе, но женился потом как рз на Тамиле (в нашей компании решительно все переженились рано или поздно). Я с ними связалась на этой неделе через фейсбук. Леван тоже помнит тот день. Он мне ответил: «Это когда я заставил барыгу продать тебе книгу о космосе? Как же, отлично помню. Ты меня поцеловала в щёку, когда книгу прочитала». К сожалению, о самой книге он, помимо космоса, ничего не помнит.
Аркивисти в тот раз нервничал больше обычного. Наверное, из-за присутствия Тамилы и Левана, с которыми он не был знаком. Поначалу чуть не откланялся, бормоча, что заглянет в другой раз, но как-то мы все его успокоили. Он поставил портфель на стул, щёлкнул застёжками, принялся бережно доставать свои драгоценности и раскладывать на столе.
Кажется, одним из первых появился кирпич под названием «Бессознательное». Аркивисти уверял, что это новый том редкой научной серии, знающие люди с радостью отдадут за него не меньше сотни, это прекрасное капиталовложение, хоть и вышло в грузинском издательстве. Потом он вытащил «Повести…», но не стал класть на стол, просто подержал в руке. Вероятно, он вовсе не собирался эту книгу показывать, ему понадобилось вынуть её, чтобы достать другую книгу.
Необычное оформление обложки бросилось мне в глаза, я спросила: «А что это за книга?» Тогда Аркивисти и сказал с неожиданной резкостью: «Эта книга для другого читателя». И поспешно засунул книгу обратно в портфель.
Леван, который тогда считал себя моим кавалером, вступился за меня. «Разве нельзя взглянуть на книгу, полюбопытствовать? Может быть, мы тоже закажем себе экземпляр, если Нанико заинтересует», – примерно так он сказал. По-мальчишески важно, задиристо. Ему явно хотелось объединить себя и меня в одно «мы».
Я в свою очередь поддержала Левана, сказав что-то в том же духе. Аркивисти нехотя вынул книгу из портфеля и протянул мне. Помню, как я гладила глянцевую изумрудно-бирюзовую обложку с белыми буквами, листала страницы из хорошей бумаги. Внезапно я поняла, что не могу расстаться с этой книгой. Стою, листаю и думаю: я обязательно должна прочитать эти повести.
Моё внезапное желание отчасти было вызвано тем, что в одной из повестей действие происходило в античности. Повесть называлась («Мантиневели Ластениас мона кали»), «Рабыни Ластении Мантинейской». С первой страницы было ясно, что рассказ ведётся от лица девушки, которая посещает Академию Платона в Афинах. (Из античных источников нам известно, что среди учеников Платона были как минимум две женщины. Их звали Ластения и Аксиотея. На занятия они ходили в мужских одеждах, чтобы не вызывать порицания общественности.)
Но более важной причиной, думаю, было чудесное оформление сборника, а также его ленинградское происхождение. Я ведь почти весь восьмой класс прожила у тёти в Ленинграде, только экзамены приехала сдавать в своей первой школе в Тбилиси. У мамы с папой был тогда непростой период в семейных отношениях, поэтому меня отправили к тёте от греха подальше.
Официальная цель моего пребывания в Ленинграде была заговорить по-русски «красиво», то есть без грузинского акцента. Этой цели я так и не достигла, надо было раньше посылать, ещё в младших классах. К тому же в моей хорошей ленинградской школе, не хочу называть номер, оказалось несколько жестоких ребят и девочек, которые меня дразнили. Они называли меня Нани Брегвадзе, спрашивали, «почём помидоры на рынке», заменяли женский род на мужской, когда со мной разговаривали, и тому подобное. Было очень обидно. На уроках я из-за насмешек часто нервничала, стеснялась открывать рот, на переменах держалась особняком. Надо сказать, что наш классный руководитель, немолодая учительница химии Октябрина Давидовна, не раз вступалась за меня, стыдила тех, кто дразнил. Но она была исключением, остальные учителя смотрели сквозь пальцы, а кое-кто и сам подшучивал надо мной.
И всё равно я влюбилась в Ленинград. Говорят, со всеми девушками моего душевного склада так происходит, если они попадают в Ленинград в нежном возрасте. Моя тётя жила на Гражданской улице, это рядом с каналом Грибоедова, недалеко от площади Мира, как она тогда называлась. Оттуда недолгая прогулка до Исаакиевского собора, Казанского собора, «Дома книги», Адмиралтейства, Эрмитажа, до памятника Петру Великому на коне, до Невы, где все открыточные виды на Васильевский остров и Петропавловскую крепость.
Также благодаря тётиной квартире у меня всё-таки завелась одна хорошая ленинградская подруга. Её звали Наташа Пчелинцева. Там в коммуналке три семьи жили: тётя Ирма с мужем и сыном в двух комнатах, напротив одинокая женщина лет пятидесяти, работавшая уборщицей в Мариинском театре, и в конце коридора Пчелинцевы с бабушкой и дочерью Наташей. Они жили в одной громадной комнате с перегородками. Наташа была на два года меня старше, училась в десятом классе и сразу взяла надо мной шефство, стала моим проводником по тому Ленинграду, о котором все приезжие вздыхают. Я далее напишу ещё о Наташе, она тоже связана с книгой, которую вы ищете.
В чём бы ни заключалась причина моего страстного желания прочитать «Фантастические повести ленинградских писателей», я не могла ему противиться. Я спросила Аркивисти: «У вас есть оригинал этой книги, по-русски?»
Он сначала пропустил вопрос мимо ушей, ему явно не хотелось разговаривать о «Повестях», но я не сдавалась. Тогда Аркивисти объяснил, что русского оригинала в печатном виде не существует. По его словам, повести сборника никогда не публиковались по-русски из-за их несоветского содержания. Их грузинское издание было якобы авантюрой некоей диссидентской группы, образовавшейся в издательстве «Мецниереба». Якобы эти диссиденты, желая показать фигу в кармане союзным властям, набрали в Ленинграде хорошей фантастики, не прошедшей цензуру, перевели её на грузинский и напечатали, указав по-русски совсем другие оригиналы. Когда тираж был уже готов, авантюру якобы раскрыли. Диссидентов из издательства уволили, а весь тираж отправили на макулатуру, лишь несколько экземпляров удалось спасти, и теперь каждый из них на вес золота.
Вы знаете, я много потом думала о том, что нам рассказал Аркивисти. Пока мы его слушали, история казалась достаточно правдоподобной. Даже мои родители, насколько я помню, не стали тогда задавать вопросов. Чистой правдой было, что в выходных данных сборника значилось издательство «Мецниереба» и что названия «оригиналов», указанные по-русски на одной из титульных страниц, не имели ничего общего с грузинскими названиями. Я запомнила два русских названия: «Хеопс и Нефертити» и «Картель». По-грузински в сборнике ничего даже отдалённо похожего не было.
Фантастические произведения с такими названиями действительно выходили, причём до 1985 года: «Хеопс и Нефертити», Александр Житинский, первая публикация в журнале «Аврора» в 1980 году; «Картель», Ольга Ларионова, первая публикация в магаданском альманахе «На севере дальнем» в 1979-м. И Ларионова, и Житинский действительно ленинградские писатели.
Однако некоторые другие подробности не сходятся. Прежде всего, что касается издательства «Мецниереба». Это было издательство грузинской Академии наук. Позднее, когда уже начался капитализм, оно издавало, конечно, и детективы, и всякий вздор о тайнах египетских пирамид. Но в советское время оно было очень солидное. Фантастика там не выходила, тем более переведённая с русского. Поэтому не очень понятно, как таинственные диссиденты могли включить подобный сборник в планы издательства.
Можно предположить, что они сидели на самом верху, в руководстве. Но тогда очень странно, что в нашей семье никто не слышал о разгоне руководства в издательстве Академии наук. Конечно, подобные новости в то время редко сообщали в газетах, но Грузия ведь маленькая, грузинская интеллигенция и того меньше. Если бы в «Мецниереба» сняли руководство из-за антисоветского демарша, об этом на следующий день знал бы весь Тбилиси, а через неделю – вся республика. Да что говорить о руководстве! Даже о мелких увольнениях за политику всегда ходили слухи, мои родители наверняка бы что-нибудь слышали. А они ничего похожего не слышали ни до рассказа Аркивисти, ни после него.
Надо также учесь, что шёл 86 год. Хотя никто ещё не представлял, что скоро можно будет публиковать что угодно, атмосфера как-то неуловимо менялась. Новые лица пришли к власти в Москве, которые говорили уже немного по-другому. В нашей студенческой среде всё это живо обсуждалось. (У нас в компании Гиорги Сургуладзе был главный политический активист, он отслеживал новые веяния и перестановки в Кремле. Его дядя состоял в подпольной организации, сидел дважды.) Количество самиздата росло прямо на глазах, по рукам ходили антисоветские листовки, брошюры. Тем более странным кажется, что скандал с уничтожением тиража в издательстве «Мецниереба», если он действительно имел место, так и не вызвал общественного резонанса, хотя бы и с некоторым запозданием. В книге ведь было указано, что она вышла совсем недавно, в 1985 году.
Обо всех этих странностях я, впрочем, начала думать лишь впоследствии, когда сборник был утрачен. Простите, что излагаю так сумбурно, перескакиваю с одного на другое. Сейчас я вернусь в тот день, когда мы купили «Повести» у бедного Аркивисти.
Говорю «мы», потому что платили за него втроём: папа, Леван и я. Едва лишь Аркивисти закончил рассказывать историю о диссидентах в издательстве «Мецниереба», как я выпалила, прижимая сборник к груди: «Мне очень нужна эта книга! Сколько она стоит?» Он разнервничался ещё больше, замахал руками: «Я же сказал, на эту книгу есть уже покупатель, она не для вас!» Его попросили успокоиться: «Что вы расшумелись? Нанико всего лишь спросила о цене!» В конце концов мы общими усилиями заставили его назвать цену. «Сто рублей!» – сказал Аркивисти.
За каких-то советских писателей, изданных в Грузии, пусть и неподцензурных, это было много. Даже редкие атласы или альбомы по искусству стоили меньше, за них брали 50–70 рублей. Но мне уже было всё равно, так сильно я хотела прочитать эту книгу. Я залепетала: «Вы сможете достать ещё один экземпляр? К следующему разу обязательно соберу деньги…» Аркивисти буркнул, что постарается.
Я уже оторвала книгу от груди, чтобы вернуть ему, но в этот момент подскочил Леван. Он меня остановил и заявил громогласно: «Мы даём вам двести прямо сейчас!» А потом обвёл нас всех жалобным взглядом и добавил уже совсем по-другому, чуть ли не заискивающе: «Ведь даём, да? У меня с собой только сорок три рубля двадцать копеек…» Не помню точную сумму, но помню, что примерно такого порядка и с копейками. Контраст между этими репликами Левана был настолько комичен, что все засмеялись, включая Аркивисти. Леван сначала покраснел как рак, но потом и сам засмеялся.
(Леван, кстати, выделялся даже в нашей компании «золотой молодёжи». Отец его заседал в Совете министров ГССР, дедушка по маме был ректором Сельскохозяйственного института. У Левана всегда в карманах водились банкноты по десять и двадцать пять рублей. Он их тратил на друзей и на пластинки, то есть, в конечном счёте, тоже на нас, потому что пластинки ходили потом у нас по рукам.)
После долгих уговоров и торгов Аркивисти согласился продать сборник, причём за 130 рублей. Я упросила папу сделать мне ранний подарок на восемнадцатилетие (мой день рождения в начале апреля), и в итоге большую часть суммы внёс именно он. Леван добавил свои сорок с чем-то. А моя доля составила восемь рублей. Вероятно, это были все мои оставшиеся деньги за ту неделю, из чего следует, что был вторник или среда. На первом курсе родители выдавали мне каждую неделю десять рублей на карманные расходы.
Так я ненадолго стала обладательницей книги, которую вы ищете.
Сегодня издательство «Мецниереба» («Наука») существует постольку, поскольку существует и что-то издаёт Академия наук Грузии. Я списался с отделом Академии наук, который занимается выпуском национальной энциклопедии. Попал там на сердобольнейшую женщину по имени Тамар Бидзинашвили. Больше часа проговорил с ней в видеочате. Она навела справки и заверила меня, что ничего похожего на «Фантастические повести ленинградских писателей» в «Мецниереба» не выходило «никогда в истории» и никого в середине восьмидесятых из издательства за диссидентство не увольняли. Разумеется, пригласила меня заходить в гости, если буду в Тбилиси. Обещала и впредь помогать «в ваших интересных поисках».
Я (надо ль уточнять?) готов рвануть в Тбилиси в любое время, лишь бы самолёты летали. Но подозреваю, что есть резон сначала навести кое-какие справки известно в каком городе. См. ниже. Поскольку я туда не ездок, придётся кому-то из вас.
конец распечаток, найденных в «лаконии»
Папка вторая
Хельсинки – Болонья – Хельсинки
Приличный зазор для тайн
Хельсинки. Первый зал книжного магазина «Лакония».
Июль 2020 года
Бурую коробку, в которой нашлись загадочные распечатки, привезли к открытию магазина. Она была самая большая из четырёх, высотой по колено. Почти неподъёмная в одиночку. Долговязая женщина, представившаяся Анной, занесла её в «Лаконию» вдвоём с белобрысым парнем очень спортивного телосложения. Парень был раза в два моложе Анны, но имел такой же несимметричный подбородок, узкий нос и тонкие губы. Он, видимо, приходился ей сыном. Анна не пояснила.
Утро, когда принесли коробку, было июльское, солнечное. На улице свежо пахло мокрым скандинавским городом после ночного дождя. В «Лаконии» в тот день работали две волонтёрки. У кассы хозяйничала Мирейя Муньос Эррера, испанская студентка, застрявшая в Хельсинки на все каникулы из-за большой любви и пандемии. Коробку поставили к её ногам. Точнее, наполовину поставили, наполовину шлёпнули – белобрысый парень слишком рано выдернул руку из паза в картоне.
Грохнув первой коробкой, парень отправился за второй. Долговязая Анна осталась в магазине. Она надела маску с цветочным узором, которая до того болталась у неё на ухе, и заговорила с Мирейей по-фински. Владельцы магазина в курсе происходящего, объяснила она. Она звонила им накануне, и ей сказали, что да, «Лакония» готова забрать четыре коробки преимущественно русских книг и даже немного заплатить, если в коробках попадётся что-нибудь ценное. На что она, Анна, ответила: спасибо, деньги не нужны. Это не её книги, ей просто жаль их выбрасывать.
Испанка Мирейя покраснела. Она уже несколько месяцев пыталась учить финский, но все эти месяцы в её жизни столько всего происходило, несмотря на пандемию, да и большая финская любовь Мирейи не требовала никакого языка, кроме того, который по традиции называют английским, хотя его давно следовало бы назвать как-то иначе. Теперь, натужно вслушиваясь, Мирейя поняла две вещи: что женщина с коробкой и спортсменом-альбиносом представилась Анной и что «вчера» эта Анна совершила некое действие, связанное с владельцами магазина. Но дальше было как всегда: речь женщины потекла ручьём плюшевых звуков, которые по-прежнему казались Мирейе инопланетными.
– I’m sorry, – в конце концов спохватилась она. – I’m afraid I don’t speak Finnish[1].
Анна сменила язык. Пока она повторяла свои объяснения, терпеливо подбирая английскую лексику, белобрысый атлет принёс вторую коробку, поменьше, и вышел за третьей.
Из коридорчика, уводящего в туалет и подсобные помещения, между тем выскочила, на ходу напяливая маску, другая волонтёрка, Даша Кожемякина. Опять же студентка, только местная. Ну, или если кому-то сразу надо знать, привезённая мамой в Хельсинки из города Кингисепп в возрасте одного года и восьми месяцев.
В отличие от Мирейи, Даша Кожемякина около восьми утра получила сообщение от хозяйки магазина (к слову, крупнейшей финской специалистки по философским мыслям Владимира Вернадского и прочих научных космистов). Хозяйка предупреждала, что в течение дня принесут книги, оставшиеся от «убитого русского». Эти книги, поясняла хозяйка, надо «тематически разобрать», если у Даши «найдётся время». Сообщение заканчивалось стикером с премудрой выдрой в очках. Выдра обнимала перепончатыми лапками толстенный красный фолиант.
У Даши, которая из-за пандемии не смогла на лето устроиться ни на какую оплачиваемую работу, времени было навалом. Иначе бы онане помогала букинистам, пускай и лучшим в Скандинавии, за большое спасибо и старые книжки. К тому же Даша ничего не слышала про «убитого русского». Сгорая от любопытства, она полезла гуглить в финских новостях «убийство русского», «убили русского» и «русский найден мёртвым».
Запрос по словам «русский найден мёртвым» выдал среди прочего коротенькую заметку недельной давности:
«В ночь с 23 на 24 июля, – скупо отчитывалась столичная редакция общественной телерадиокомпании Yle, – в подъезде своего дома на Линнанкоскенкату обнаружен мёртвым 48-летний мужчина, гражданин России, проживавший в Хельсинки с 2018 года. Тело нашли соседи. Причина смерти устанавливается. По предварительной информации, явных следов насилия на теле покойного нет».
Больше ничего про мертвеца с Линнанкоскенкату в финском интернете не было.
Теперь, увидев напротив Мирейи женщину с коробками и услышав слова Russian books, Даша немедленно спросила:
– Onko tss sen kuolleen venlisen kirjat?
В смысле: «Это книги мёртвого русского?» Анна ответила: «Да, они самые». Белобрысый парень между тем занёс в магазин третью коробку, поставил её на вторую и ушёл за четвёртой.
Даше захотелось воскликнуть Wow! или хотя бы всплеснуть руками от воодушевления. В начале июля (когда она сидела в распахнутом окне своей комнаты на третьем этаже, подобрав ноги в полосатых носках и размышляя, стоит ли отзываться на крик магазина «Лакония» о помощи, который увидела в фейсбуке) ей рисовался именно такой сценарий. Она воображала, как в магазин привезут книги эксцентричной старушки, которая унесла в могилу фамильную тайну, или библиотеку нелюдимого деда, пропавшего при загадочных обстоятельствах, и она, Даша, будет рыться в неприкаянном книжном наследстве и случайно нароет улику, которая прольёт свет на все загадки.
Конечно, русский покойник не был прямо так уж дедом и к тому же не пропал, а всего лишь умер у себя в подъезде на Линнанкоскенкату. Но следует помнить, что Даше Кожемякиной шёл двадцать первый год; она в глубине души ещё не очень верила, что до сорока восьми вообще доживают. Сорок восемь, казалось Даше, – это преклонный возраст. Что же касается смерти русского с Линнанкоскенкату, то её причины, как мы помним из сообщения Yle, «устанавливались». А значит, оставался приличный зазор для тайн.
Она удержалась от неуместных проявлений энтузиазма, но всё же спросила Анну с коробками, как продвигается расследование. От чего умер владелец книг?
При этом Даша, которая немного стыдилась своих фантазий в жанре «тёплый ламповый детектив у камина», не ожидала на самом деле ничего загадочней инфаркта. Она знала, что мужчины, ведущие российский образ жизни, сплошь и рядом умирают задолго до пенсии. У неё даже был двоюродный дядя в Питере, который пришёл однажды с работы в свою ипотечную квартиру бледный и потный, сел на диван, включил телевизор и умер в возрасте тридцати девяти лет прямо на глазах у жены и лабрадора. (Сын, то есть Дашин троюродный брат, к счастью, был на каникулах у бабушки.)
Но тут в «Лаконии» случилось неожиданное. Долговязая Анна в маске с цветочным узором не сказала ничего ни про какой инфаркт.
От чего преставился русский, ответила она Даше, по-прежнему неизвестно. Ей, Анне, принадлежала квартира, которую снимал покойник. К ней, Анне, за минувшую неделю уже дважды являлась полиция, причём во второй раз – какая-то странная полиция, в гражданском. Полиция рылась в вещах русского и задавала много вопросов, оба раза примерно одинаковых. Когда Анна в свою очередь просила объяснить, почему же всё-таки смерть её квартиросъёмщика требует полицейского расследования, полиция уклончиво бубнила. «Экспертиза продолжается», «обстоятельства уточняются» – в таком духе.
Белобрысый парень между тем занёс в «Лаконию» четвёртую коробку и почему-то водрузил её на малиновый диван справа от входа. У коробки на боку темнели силуэты высотных зданий, напечатанные синим по картонному. На верхней грани коробки Даша, прищурившись, разглядела два квадратика. В одном квадратике был орёл, в другом – эмблема «Почты России». Видимо, сама коробка тоже осталась от покойника.
– That’s it, – сказал парень, зубасто улыбаясь в сторону Мирейи Муньос Эрреры. – That was the last one. Mission accomplished[2].
Мирейя вяло улыбнулась из-под маски его стандартной шутке. Парень не вызывал у неё симпатии. Он выглядел и держался так, будто не читал ничего, кроме инстаграма, и уже мечтал развлекать её, Мирейю, подробным рассказом о всенощной пьянке на пароме Хельсинки – Рига в допандемийные времена. Застукав себя на этой мысли, Мирейя покраснела. Она всегда краснела, когда ловила себя на предвзятости.
Анна, хозяйка квартиры мёртвого русского, подтвердила тем временем, что больше коробок нет. В этих четырёх, сказала она, все книги, которые стояли у покойного на полках, лежали на столах или валялись на подоконниках. Ещё, правда, были какие-то старые журналы, уточнила она. В основном на русском. Но владелица «Лаконии», с которой Анна говорила по телефону, сказала, что журналы везти не надо.
Даша Кожемякина спросила, а как же полиция. Быть может, книги понадобятся в ходе расследования? Если вдруг (пояснила Даша, понизив голос от смущения) всё же выяснится, что ваш мёртвый жилец умер насильственной смертью…
Да, кивнула Анна, полиция уже осмотрела книги. Вчера днём, когда трое полицейских в гражданском производили обыск в квартире, среди них была женщина, знающая русский язык. Эта женщина, рассказала Анна, прочитала все корешки и обложки. Некоторые книги она крутила в руках и даже листала, но, похоже, не нашла ничего достойного внимания. Во всяком случае, ей, Анне, потом объявили, что она вольна распоряжаться вещами покойного по своему усмотрению. На них, сказали ей, якобы не претендуют ни друзья, ни родственники, ни финское государство. Оно (государство) забрало всё, что ему требовалось (ноутбук и телефоны), ещё в первый раз – руками нормальной полиции, в форме.
Услышав, что полиция не заинтересовалась книгами покойника, Даша немного приуныла, однако виду не подала. Она поблагодарила Анну и белобрысого парня, который всё это время безмасочно лыбился в сторону Мирейи. Если среди книг, сказала Даша, найдётся что-то редкое, особо ценное, то с вами обязательно свяжутся.
Анна равнодушно махнула рукой, но повторять, что деньги ей не нужны, не стала.
В общем, около десяти минут десятого, за четверть часа до того, как в «Лаконию» забрели первые посетители, и за час до явления первого завсегдатая (в тот день раньше всех отметился Жан-Ив Бургиньон, отставной бельгийский офицер, служивший весной 1994-го в Руанде), хозяйка квартиры мёртвого русского и её предположительный сын ушли из магазина.
Её занимали самые разные вещи
Хельсинки. Книжный магазин «Лакония».
Вечер того же дня
«Тематически разобрать» содержимое коробок из бурого и белого картона, привезённых с Линнанкоскенкату, оказалось нетрудно. Минут пять у Даши ушло на то, чтобы вместе с Мирейей спустить коробки с первого этажа в недра «Лаконии». Там, внизу, расположившись у длинного стола в зале с немецкими, русскими, испанскими и не помню уже какими книгами, Даша справилась с поставленной задачей менее чем за полчаса. (Если, конечно, не считать всего вечера, ночи и прочего времени, которое она потом угрохала на те самые распечатки.)
Позднее, в разговоре с матерью, которая также играет не последнюю роль в нашей истории, Даша скажет:
– Реально все книги [в коробках были] на русском!
Имейте, однако, в виду, что в Дашином словаре наречие «реально» не всегда означает «буквально». На дне одной из коробок попались-таки два старых, залистанных пейпербэка на английском: Profiles of the Future Артура Кларка (издание 1964 года с треснувшим корешком) и Red Arctic неизвестного Даше автора. Red Arctic рассказывала историю советских полярных экспедиций накануне Второй мировой войны. В другой коробке нашлись большой финско-русский словарь и мятый роман Софи Оксанен «Коровы Стална» в подлиннике, то есть на финском. «Коров Сталина» покойник с Линнанкоскенкату, судя по всему, дочитал до шестьдесят первой страницы. Именно там кончались бесчисленные подчёркивания финской лексики и карандашные русские переводы, накарябанные на полях мелким зубастым почерком.
Зато всё остальное в коробках было на русском реально буквально, без исключений, и распадалось при этом на две чёткие категории.
Одну категорию Даша снабдила в уме наклейкой «АРКТИКА». На эту наклейку напрашивалось не менее шестидесяти процентов библиотеки мёртвого русского. Видимо, покойный интересовался не только советскими полярниками накануне Второй мировой. Он был одержим всем, что касалось Северного Ледовитого океана и его российских окрестностей.
Тут хорошо бы добавить важный штрих к портрету Даши. Она к тому лету отучилась первый год на факультете педагогики Хельсинкского университета. Она легко прошла конкурс в десять финнов на место, когда поступала, и взаправду собиралась работать в школе. А ведь финской школьной учительнице, как известно, полагается быть скромным человеком Возрождения, непритязательной Леонардой да Винчи с тихой, ровной любовью к миру вообще и к детям в частности.
Иначе говоря, Дашу то и дело занимали самые разные вещи, от плетения корзин до месопотамской поэзии. Но вот именно Арктикой увлечься она ещё не успела и потому не могла даже представить, что об Арктике так много всего пишут и печатают в империи, где она родилась, а ещё больше писали и печатали раньше – в другой, мёртвой империи с красным флагом, которая давным-давно, в доисторической маминой юности, была на месте нынешней (и не только на нём).
Аккуратные стопки, которые Даша выстроила на левой половине длинного стола в одном из подвальных залов «Лаконии», состояли из книг с названиями вроде «Проблемы изучения историко-культурной среды Арктики», «Арктика за гранью фантастики» и «Путешествия в полярные страны». (Последняя – из серии «Полярная библиотека» некоего Всесоюзного арктического института; Ленинград, 1933 год.) Там были книги о первооткрывателях Новой Земли, Северной Земли и Новосибирских островов. Были парадные энциклопедические тома «Остров Вайгач» и «Земля Франца-Иосифа». Была «Жизнь на льдине» И.Д. Папанина (с зелёным небом над изумрудными льдами), «По нехоженой земле» Г.А. Ушакова (с фиолетовыми горами среди зелёных снегов) и «Дом человеку и дикому зверю» В.А. Шенталинского – про далёкий остров Врангеля.
То, что не вписывалось в АРКТИКУ, Даша сложила на другой половине стола. Эта вторая категория состояла из научной фантастики, причём фантастики советской. Более того, в советских изданиях. Даше сразу бросилось в глаза, что ни одна книга с воображаемой нашлёпкой «ФАНТАСТИКА» не вышла позднее восьмидесятых. Самым ранним по году издания был сборник под названием «Альфа Эридана» 1960 года, а наиболее свежим – сборник «Пещера отражений» 1988-го.
В конце концов оказалось, что ФАНТАСТИКА почти вся состоит из сборников. Особенно много было лениздатовских: «В мире фантастики и приключений» 1964 года, «Тайна всех тайн» 71-го, «Кольцо обратного времени» 77-го и так далее.