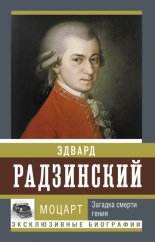Тебя все ждут Понизовский Антон

– …выключить у неё микрофон? – предложил Жуков.
– А чего ты меня затыкаешь?
– Ты же никому не даёшь рта раскрыть!
– Ты вообще молчи! Почему ему можно днём уезжать, а я должна тут торчать до морковкина заговения?
– Тебе объяснили, Люся, контракт.
– А у тебя что, не контракт?
– У меня другие условия.
– Почему?! Вот я и спрашиваю, почему?
– Ох, Люська, какая же ты, прости господи, дура! Дура!..
– Коллеги, спокойнее, – с удовольствием произнёс голос в динамиках.
– И жарко! Ужасно…
– В павильоне? Я не замечал. Кому ещё жарко?
– Да никому не жарко, – отмахнулся Жуков, – нормальная температура, просто у некоторых приливы всё никак не заглохнут…
– Хам!
– Так, – резюмировала землеройка. – Если больше вопросов нет…
– У меня есть вопрос, – сказал я.
– На этом общее собрание объявляю закрытым. Резидентов прошу задержаться: граф Кирилл Ильич, графиня Анна Игнатьевна, графиня Ольга, граф Алексей. Остальные свободны.
Лакеи долго, как будто нехотя, расходились. Наконец, мы остались в зале одни.
– Граф Кирилл Ильич, графиня Анна Игнатьевна, – по сравнению с предыдущим громоподобием голос звучал почти задушевно. – Вся первая серия нашего фильма – бал. Я уже подчеркнул, как для нас это важно. А центр серии, сердце серии – это ваш танец. Вы сорок лет вместе. Вы излучаете любовь и нежность. Зрительницы должны плакать…
– Что за отчество такое плебейское, «Игнатьна», – буркнула маменька.
Борис Васильевич явно хотел съязвить, но пожевал губами и промолчал.
– Ещё одно короткое объявление, и я вас отпускаю. Как я сказал, если у персонажа низкие рейтинги – мы от него избавляемся. Но вы понимаете: герой не может просто исчезнуть из кадра. Зритель должен прочувствовать во всех деталях. Гроб, траур, похороны, семья оплакивает и так далее. Вот, например, старый граф умер. Но мы же не можем заставить Бориса Васильевича трое суток лежать в гробу без движения – это даже физически невозможно. Поэтому все исполнители главных ролей…
– Ага! – Жуков ткнул в потолок. – Всё-таки главных ролей!..
– …Все вы должны пройти процедуру изготовления маски.
– Какой маски?! Посмертной?!
– Графиня, без драматизма. Обычная пластиковая, силиконовая…
– Без меня!
– Действительно, – Жуков поморщился, – если у вас всё такое продвинутое, электронное, без операторов, без режиссёров – так, может, какие-нибудь технологии? Три-дэ, четыре-дэ?..
– Думали об этом, граф. К сожалению, получается плохо и дорого. На сегодняшний день самая надёжная технология – силикон.
– Ничто на свете! – зарокотала маменька, переключившись в режим Клитемнестры, – не в силах!.. меня принудить!..
– В таком случае, к сожалению, мы будем вынуждены расстаться. Всё, приятно было пообщаться со всеми. Всем хорошего дня.
Щелчок. Тишина.
А я так и не спросил, когда мне дадут поговорить с Мариной по телефону.
9
Собрание было в пятницу. А в понедельник утром, когда после завтрака мы с Семёном вернулись в комнату, он снял с меня сюртук, жилет, галстук – я остался в нижней рубашке и в брюках, – чтобы я не замёрз, камердинер набросил на меня лёгкий шерстяной плед и в таком виде привёз в бальную залу.
Все остальные тоже были полуодеты: маменька с Ольгой в рубашках и юбках, Борис Васильевич – как и я, в брюках и в нижней рубахе. Впервые мне показалось, что он очень грузный – не то чтобы пузатый, а весь какой-то кубический (что называется, «поперёк себя шире»): сюртук это скрадывал.
В бальной зале нас встретили две гримёрши. Одна средних лет – в джинсах, в рубашке, коротко стриженная; вторая – совсем молоденькая, почти подросток. Между ними не было явного внешнего сходства, старшая обращалась к младшей полным именем (Кристина) и на «вы», но сразу же было ясно, что они – мать и дочь.
На полу был постелен большой кусок целлофана, в длину метров пять, в ширину метра три. На этот целлофан в ряд выставили три стула, усадили маменьку, папеньку и сестрицу – и пристроили рядом меня в моём кресле.
Помню стол с рядами пластмассовых баночек, канистры с водой, тазы, набор пакетиков с порошками. Надо отдать должное господам шоураннерам: я прожил в девятнадцатом веке меньше недели, а уже смотрел на эти пластиковые упаковки, тазы и банки, на целлофан, на короткие стрижки и джинсы, как, наверное, голый Пятница смотрел из кустов на Робинзона, одетого в меховые штаны.
Взрослая гримёрша врачебным голосом произнесла короткую вводную речь: нас по очереди намажут силиконом, это не больно, не страшно, многим даже приятно – примерно так, как делают маску для лица, «женщины знают». Силикон немножко холодный, но вы быстро привыкнете…
Маменька театрально вздыхала, ёрзала и закатывала глаза.
– И что, похоже выходит? – спросил Жуков. Мне показалось, он тоже немного нервничал.
– Одно лицо! Мы, – сказала гримёрша, видимо, желая успокоить маменьку, – будем держать ваши ноздри открытыми, с дыханием у вас не будет проблем. Неподвижно сидите и всё. Сначала накладываем силикон – слой за слоем. Поверх силикона кладём гипсовый бинт. Когда он застывает, будет немножко тепло, горячо не будет, будет тепло, приятно – вот чтоб вы знали, это нормально. И, когда схватывается, он, конечно, твердеет – но вам будет казаться, что он сжимается. Это не так, ничего не сжимается, не пугайтесь…
– Нет! Нет! Я не хочу! – закапризничала маменька.
Борис Васильевич с раздражением отмахнулся: молчи, мол.
– Ты чего ручкой машешь? – ощерилась на него маменька. – Сам вон бледный сидит! Ничего, помрёшь – родные на скульпторе сэкономят. Маски – они знаешь какие дорогие?
– Типун тебе на язык, – сказал Жуков тихо.
– Ну что вы, что вы… – заворковала женщина. – Ничего страшного, сейчас сами увидите. Кто самый смелый? Мужчины?..
– Давайте я первая.
Ольга сняла платок, отдала подбежавшей служанке – и осталась в тоненькой белоснежной нижней рубашке с оборками и кружевами. Взрослая гримёрша стала быстро размешивать порошки, а её дочь Кристина подошла к Ольге сзади, расставив руки и развернув перед собой синий целлофан, чтобы замотать её этим целлофаном поверх одежды: казалось, будто она хочет Ольгу поймать. Придерживая целлофан, Кристина не очень ловко, одной рукой, попыталась приспустить с Ольгиного плеча рубашку. Рубашка упала, и обнажилась небольшая красивая грудь. Ольга, ни на кого не глядя, подняла рубашку обратно, немного её подтянула назад, прижала спиной, – всё это спокойно, без суеты, как будто это маленькое происшествие её ничуть не обеспокоило.
– У меня в твоём возрасте был второй, – ревниво сказала маменька.
– Ребёнок? – детским голосом спросила Ольга (думаю, наиграла).
– Какой ребёнок, дурында? Размер. Я вообще девчонка была хоть куда.
– Вот именно, – подхватил Борис Васильевич. – Хоть куда. Знаете, дети, какую букву ей приставляли перед фамилией?
– Не перед фамилией, а перед псевдонимом, – возразила маменька не без гордости. Её фамилия была Ледовских, а псевдоним – точнее, имя персонажа, которое к ней прилипло, – Леденец. Люська Леденец.
– Да и туда, и сюда… Хоть куда.
В жизни я насмотрелся на полуодетых актрис: за кулисами, в общих гримёрках – и в Школе-студии, и потом на гастролях, на съёмках… Большинство актрис раздеваются при мужчинах спокойно. Некоторые – с удовольствием. Ольга, правда, не была профессиональной актрисой, но была спортсменкой, тоже с детства наверняка привыкла, что тело – её инструмент, она посреди стадиона, перед миллионами телезрителей в прозрачном платьице… Но в этот раз, уж не знаю, то ли воздух был наэлектризован, то ли я успел проникнуться девятнадцатым веком, но, когда упала рубашка, я почувствовал, что мне трудно глотать.
Кристина упаковала Ольгу, оставив голыми шею и плечи. Мать Кристины налепила Ольге на голову что-то вроде купальной шапочки – только очень тоненькую, полупрозрачную, на вид как будто из марли, нахваливая при этом форму Ольгиной головы («форма круглая, классическая») и оправдываясь, что вынуждена работать без перчаток: латекс, мол, плохо взаимодействует с силиконом, и даже если где-то поблизости будет латекс, силикон «вообще не схватится». Без макияжа, с бледными веками, почти незаметными светлыми тоненькими бровями, с голой шеей и действительно круглой, цельной, как будто мраморной головой Ольга сделалась незнакомой, не той, к которой я успел привыкнуть.
Орудуя ножницами со скруглёнными концами, Кристина вырезала в шапочке дырки вокруг Ольгиных ушей. Старшая гримёрша разлила по баночкам воду из канистры и, взболтав, начала прямо из баночки поливать Ольгины плечи густой ярко-фиолетовой субстанцией, напоминавшей клей. Субстанция не стекала, а, скорее, сползала по голой коже.
– Боже мой! Мерзость какая, гадость! – передёрнулась маменька.
– Как ощущения ваши? Нормально? Даже приятно, правда? – спросила старшая гримёрша с некоторым раздражением, через Ольгу как бы обращаясь к маменьке: мол, вот послушайте, что она скажет. Думаю, Ольга вполне считала этот посыл, но выручать гримёршу не стала:
– Приятного мало. Холодно.
– Ничего-ничего, сейчас скоро начнёт застывать, и станет тё-ёпленько…
Кристина обмазала этим же фиолетовым клеем Ольгины уши – сначала кисточкой, тонким слоем внутри ушных раковин, а потом деревянной палочкой, такой же, какой доктор прижимает язык («скажите а-а-а»), – так что на ушах образовались неровные фиолетовые бульбы.
– Ты что-нибудь слышишь? – с ужасом спросила маменька.
– Слышу, но глухо.
– Так, начинаем делать лицо: не разговаривать, мимикой не работать. Глазки закройте…
Гримёрша щедро облила Ольгин лоб. Клей пополз на глаза и на нос.
– А дышать-то как? – вскрикнула маменька.
– Люська, хватит кудахтать!..
– Вот, я оставляю ноздри открытые… Видите? Без проблем она дышит. Если что-то понадобится, – гримёрша нагнулась к Ольге, – вы просто ручкой мне помашите, я дам бумагу и карандаш. Но сами молчите, звуков не издавайте. Всё, закрываю вам рот…
Стала обмазывать Ольгины губы кисточкой.
– Нет-нет-нет, губы не поджимайте! Видите, инстинктивно она поджимает. Расслабьте, расслабьте. Все мышцы должны быть расслаблены, всё лицо. Наоборот, получаете удовольствие. Где вам ещё удастся часок посидеть споко-ойно… споко-о-ойненько…
Мать и дочь работали дружно, и Ольгина голова быстро превратилась в сплошной фиолетовый ком. Даже не совсем ком – человеческие очертания сохранились, – в грубо, как бы начерно слепленную из жидкой грязи голову идола, истукана. Больше не было никакой Ольги: вместо неё рядом с нами сидел безымянный, безликий чалдон.
Но так выглядела только её голова. Плечи и голова. Ниже, под целлофаном, просматривались очертания тела.
Стыдно признаться (вообще на меня не похоже), но я подумал, что сейчас она совершенно беспомощна, беззащитна. Её голова покрыта сплошным слоем этого липкого клея. А ниже, под полупрозрачным полиэтиленом, под тоненькой кружевной рубашоночкой… Думаю, такое чувство испытывают насильники. Я постарался всё это от себя отогнать, но в горле как будто остался песок.
– Господи, какой ужас, – бубнила маменька. Ей явно не нравилось, что смотрят не на неё. А я подумал, зачем делать с маменьки маску, если её не сегодня-завтра отправят домой.
Борис Васильевич очень внимательно и напряжённо следил за тем, что делали с Ольгой. Он показался мне старым, намного старее, чем раньше. Мне стало жаль «папеньку», я решил дать ему время освоиться и предложил:
– Следующим ме…
Но он заговорил в ту же секунду, одновременно со мной:
– Меня теперь!
Я обрадовался, когда он мне улыбнулся, – и опять удивился себе, как бы одёрнул себя: что такое? Я взрослый дядька, он мне чужой человек, почему мне так важно его отношение? Неужели только потому, что он «звезда первого ряда»? Или как там сказал шоураннер: «первого эшелона»? «Калибра»?
Закончив с Ольгой, гримёрши оставили её сохнуть и принялись за Бориса Васильевича. Он так сильно сжал челюсти, так побледнел, что главная гримёрша принялась его утешать:
– Ну что-о вы, ну что-о-о же вы переживаете… Видите, ничего страшного… Никто ещё не умирал… Как себя чувствуете? Хорошо?
– Да, да, – сказал Борис Васильевич сквозь сжатые зубы. – Делайте.
– Ну вот видите… Все хорошо переносят…
Через пять минут и Борис Васильевич превратился в памятник, фиолетовый надолб. Маменька продолжала стонать и метаться.
Принялись за меня. При первом прикосновении слизь показалась очень холодной и липкой. Я принюхался: слабо пахло резиной и поликлиникой. Когда по макушке стали сползать комки, моим первым движением было – поменять позу, или даже как-нибудь подхватить… но я подумал, что не моё дело, пусть падает… Скомандовали закрыть глаза. На брови, на веки полилось клейкое и холодное. Сразу же захотелось моргать, но сверху нагромоздили ещё, придавили, я ощутил сквозь слои, как разглаживают этой докторской палочкой… и вдруг стало очень спокойно.
Звуки доносились издалека, как будто я был под водой. Полная темнота – не как с закрытыми глазами днём, когда веки немного просвечивают, а словно самой кромешной и непроглядной ночью. Сверху, на лбу, масса, которой я был покрыт, уже не казалась холодной, наверное, она согрелась о мою кожу. Меня накрыло чувство покоя и защищённости – окружило, осыпало густым снегом… Во мраке мерцали бледные линии, кратеры, горизонты… В тонкой рубашке под целлофаном было немного зябко и сонно. Эта зябкость, зыбкость, радужное мерцание что-то ужасно напоминали, что-то, что я пытался вспомнить совсем недавно, почти уже было вспомнил…
И вспомнил!
10
Я в дедушкиной квартире. Раннее летнее утро. Мне восемь лет… семь? Я один в ванной комнате. Приоткрыто окно. Наверное, оно было открыто всю ночь, в ванной холодно. Может быть, ещё не лето, а конец мая, ночи ещё холодные. За окном много листьев (квартира на высоком втором этаже). Листья шевелятся на ветру. Снизу тёмные, сверху поблёскивают на солнце. Тёмное солнце, как бывает именно ранним утром. Я сижу на большом унитазе, он сначала холодный, потом ничего – но если поёрзать, сдвинуться с нагретого места, то снова холодно. Я сижу осторожно, боюсь провалиться, унитаз слишком большой: да, наверно, мне не больше семи – и в то же время не меньше пяти-шести лет, иначе не было бы никакой взрослой ванной, а был бы детский горшок под кроватью. Может быть, я забыл опустить пластмассовое сиденье (в детстве всегда забывал) и сижу попой на голом фаянсе.
Вдруг я вижу: рядом со мной на кафеле, на стене – мерцающая разноцветная ленточка, фиолетовая, голубая… Она сминается и разглаживается, как гусеница, бледнеет, почти исчезает, потом наливается светом, становится яркой, горит, голубая, зелёная, радужная… Перемигнула, пропала и появилась. Это мерцание и шевеление как-то связано с шевелением и шуршанием листьев.
Ленточка небольшая, с полпальца, но совершенно волшебная. Это чудо.
Края нечёткие, немного смазанные, растушёванные. Они шевелятся под шум ветра и веток, как гусеница шевелит множеством волосков.
В ванной темнеет – и она гаснет. Светлеет – и гусеница появляется снова, уже чуть ближе к границе кафельной плитки, как будто немного переползла. Я чувствую, что существует какая-то связь между гусеницей и солнцем, и листьями за окном… С трудом отрываю взгляд от гусеницы, поворачиваюсь к окну – и на краю зеркала, которое висит над раковиной, вижу огненный перелив: огненно-синий, огненно-фиолетовый, драгоценный, алмазный. В грани зеркала преломляется солнце.
Если голову наклонить, цвет меняется: как бы вылупливается (вылупляется?), искрами проступает и расцветает малиновый, перетекает обратно в синий… Синий – самый сплошной, самый яркий, как дедушкин лазурит.
Тени листьев беззвучно нашёптывают, свет тускнеет… Ещё минута – и больше сияния нет. Гусеницы тоже нет. Но внутри сохраняется обещание счастья. Уверенность, что вот-вот, не сегодня-завтра случится что-то волшебное, невероятное…
Не помню, чтоб я кому-то рассказывал про алмазную гусеницу. Я не пытался её снова подкараулить. Да если бы и пытался – вряд ли у меня были шансы. Слишком много условий должно было совпасть: время года и время суток; угол, под которым солнечный луч падал в зеркало; нужный просвет между листьями; ветер, чтобы листья зашевелились… Но этот радужный, райский отсвет долго окрашивал мои мечты. Сколько я себя помню, всегда был уверен, что моя жизнь – может быть, не сейчас, а чуть позже – но обязательно засверкает, как фейерверк, станет сплошным лучезарным праздником и триумфом.
Сейчас-то я понимаю, что в детстве и в юности мою жизнь и впрямь трудно было назвать заурядной. Как вы уже знаете, когда мне было семь лет, я играл в «Счастливом принце», вместе с И. С. Саввиной и И. М. Смоктуновским. Смоктуновский был Профессором Птичьих Наук – правда, он вышел всего несколько раз, хотя в программках его всегда писали первым составом. Если честно, я его почти не помню. А вот Ию Сергеевну Саввину помню прекрасно. Она играла мою маму, швею. Я был опасно болен (по роли). Перед спектаклем мне мазали щёки блестящим гримом, мочили, встрёпывали и пшикали лаком волосы, меня всё это веселило и возбуждало. На сцене я очень долго (на самом деле минуты две) неподвижно лежал в постели, потом приподнимался и слабым голосом просил у матери апельсинов. За кулисами ждал, когда спектакль кончится, мы с Ией Сергеевной пойдём кланяться и весь громадный зал будет нам аплодировать.
Потом играл в «Сказке о потерянном времени» – на другой сцене, на улице Москвина – красное здание вроде боярских палат, в детстве оно казалось мне сказочным.