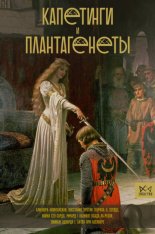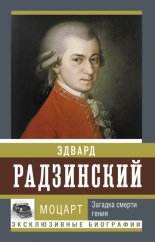Бархатная кибитка Пепперштейн Павел
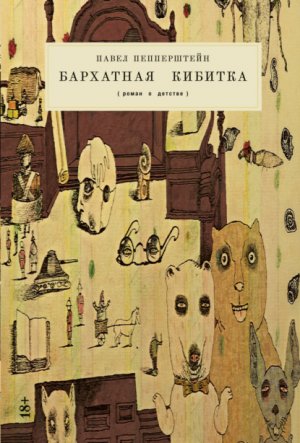
Прозрачные и полупрозрачные стеклянные объекты: архаическая соковыжималка (так называемая «лимонница») из зеленоватого стекла
Голландские стаканы с пузырчатыми ногами
Стеклянная корова
Старинные очки
Линзы: микроскоп, подзорная труба, увеличительное стекло
Швейная машинка
Пишущая машинка
Морские раковины и улиточные панцири
Окаменевшее среднее ухо кита (пепельница)
Сердолики, агаты и прочие полудрагоценные камни
Пуговицы
Ордена
Монеты
Гравюры (марки, ассигнации)
Коробки из-под сигар
Бутылки
Шляпы (мечта о цилиндре)
Лыжи
Санки
Лопата для разгребания снега
Секретер
Ширмы и веера
Складной стакан
Радиоприемники с выдвигающейся антенной (звуковоспринимающая эрекция)
Странная штука для монет (туда полагалось вдавливать монеты специальным нажатием пальца)
Металлический перекидной календарь
Тарелки (фарфор)
Ковры
Тапки
Небольшое примечание о зонтах. В ранние годы я рассматривал сложенный зонт как скопище лысых чернокожих жрецов в широких шелестящих одеяниях, собравшихся вокруг изогнутого тотемного столба. Одним движением руки я заставлял этих жрецов, этих магов, теснее прильнуть к молитвенному столбу. Они явно в экстазе совершали таинственный коллективный ритуал, а их святыня вздымалась над ними, совершая высоко над их головами таинственный, крючкообразный изгиб. Я гадал об особенностях этого культа адептов Гигантского Крюка, я воображал себе их мифы, их песнопения, их влажные жертвы. Так я развлекался (впрочем, и сейчас развлекаюсь) в часы ожидания, когда приходилось (приходится) мне скучать в транспорте или в коридоре какого-либо учреждения либо медицинского заведения, куда довелось мне явиться в дождливый день, захватив с собой зонт. И до сих пор, сжимая сложенный зонт рукой, гляжу я на него сверху и вижу этих лысых магов. Чаще всего они чернокожие, но случаются зонты, чьи маги бледноголовы.
Примечание о термосе. Термос, без сомнения, принадлежал к числу культовых объектов моего детства. Он был прекрасен снаружи (китайские термосы славились своими цветами и драконами), но еще прекраснее внутри. Заглядывая в термос, я созерцал зеркальную капсулу, покрытую капельками испарины, оставшимися от недавно выпитого горячего напитка.
Тогда я начинал понимать, что не все зеркала существуют ради отражений. Есть зеркала, ничего не отражающие, предназначенные для сохранения тепла.
Ленин назвал Толстого «зеркалом русской революции». К какой разновидности зеркал следует отнести Толстого? Он отражал революцию или же сохранял ее тепло?
Глава седьмая
Призрак мечты
На каменном парапете набережной сидел небольшой белый кот с хрустальными глазами. А рядом с ним стоял загорелый паренек, который вроде бы добивался чего-то от белого существа.
– Привет! Привет! – настойчиво повторял юноша, всматриваясь в окабаневшую мордочку животного. – Привет! Привет, говорю! Что же ты молчишь?!
Внезапно веселый парень дернул белый ус нечеловека, на что обитатель парапета лениво мяукнул.
– Привет! – настаивал удивительный любитель беседовать с животными.
– Мяу, – ответил кот, когда его снова потянули за ус.
– Зачем вы мучаете бедное животное? – вмешался я.
На это юноша очень бодро и весело ответил, улыбаясь всеми фрагментами своего лица:
– Это мой друг. Он живет здесь и никуда отсюда не уходит. Я его все время кормлю. Еды ему приношу. Но я его не только кормлю, но и воспитываю – он должен со мной здороваться.
Молодой человек расплывался в улыбке, его глаза на бронзовом лице кокетливо хохотали. Я даже не успел внимательно окинуть взглядом этого загадочного отдыхающего, как он уже оставил нас с котом, на ходу крикнув мне, чтобы я приходил вечером в кафе «Степан», что в «Степане» мол дико весело и что его зовут Аким Мартышин.
Когда этот загадочный молодой человек скрылся в аллее, я присел на корточки и, следуя мартышинскому примеру, несколько раз обстоятельно поздоровался с белым котом. Но ответом мне был только безмолвный хрустальный взгляд.
Бездонные, как сладкий космос, глаза кота напомнили мне светящиеся очи Нелли Орловой.
Я вспомнил картину, что висела у Нелли. Картину с изображением старинной виллы. Внезапно я осознал, что не смогу жить, если не отыщу эту виллу.
Я медленно бродил в задумчивости, пока не узрел иную виллу – эта оказалась псевдоготической, заброшенной, с выбитыми окнами, местами заколоченными старыми досками. Ржавая крыша, острая трава на щербатых карнизах. Я подумал о людях, которые когда-то жили здесь.
Передо мной разорванными хороводами пронеслись их вечера. Долетал их смех. Мне казалось, даже обрывки русских и французских фраз шелестели в спутанных зарослях окрест виллы. Хрустящий трепет… Грассирующие снаряды чужой памяти… Но вдруг я услышал уже знакомый мне голос:
– Привет, Кай! – взглянули на меня морские глаза. – Мы теперь будем везде друг друга встречать!
Передо мной стояла девушка, с которой я успел познакомиться на пляже.
Однако можно ли считать знакомством этот пляжный разговор? Я успел заметить пару ее плавных жестов, которые, видимо, она совершала с наслаждением, но, кроме ее предложения убить пятерых неизвестных мне людей, я мало что помнил из нашей пляжной беседы.
– Меня зовут Бо-Пип, – произнесла она. – Все меня здесь так называют. Впрочем, можешь звать меня просто Бо. Знаешь стишок?
- Ах, дело не шутка, ведь наша малютка
- Бо-Пип потеряла овечек.
- Пускай попасутся – и сами вернутся,
- И хвостики с ними, конечно.
- Бо-Пип задремала и тут услыхала,
- Как рядом топочут копытца.
- Проснулась – и что же? – ничуть не похоже.
- Никто и не думал явиться.
- Взяла посошок и пошла на лужок,
- И твердо решила найти их.
- И впрямь углядела – но страшное дело! –
- Ведь хвостиков нет позади них.
- Давно это было, и долго бродила
- Бо-Пип, и скажите на милость –
- За рощей кленовой, на ветке дубовой
- Висели хвосты и сушились.
Я почувствовал, что меня словно бы неожиданно посвятили в некую религию под названием Бо-Пип. Я еще не знал правил, молитв и ритуалов этой религии, но уже слегка догадывался о них.
Влюбленный человек – это зеркало. И, вне всякого сомнения, я скоропалительно возжелал отражать Бо-Пип в ее различных нарядных платьях и без них, стоящую, бегущую или танцующую на фоне моря, на фоне гор, на фоне серых скал, поросших кривыми кустарниками, на фоне гротов, арок и колонн, на фоне заснеженных лесов, на фоне хвойных лабиринтов, орошенных быстрыми или медленными дождями. И в особенности я желал наблюдать ее на фоне той виллы, которая мне так мистически приглянулась на картине, увиденной мною в Поселке Наук. Поэтому я спросил Бо-Пип, известно ли ей что-либо относительно виллы в можжевеловой роще.
Светящееся личико Бо-Пип стало слегка печальным.
– Ты ищешь эту виллу, но в некотором смысле ты живешь в ней, – сказала она. – Увы, эту прекрасную виллу снесли лет двадцать тому назад. А на том месте, где она стояла, построили тот искрящийся белоснежный отельчик, где проходит твой приморский отдых, дорогой Кай. Мне не так уж много лет, поэтому я эту виллу видела только на фотографиях, но дед мой до сих пор любит рассказывать легенды об этом маленьком дворце, когда-то слывшем жемчужиной нашей бухты. Якобы эту виллу построил в самом начале двадцатого века один океанский капитан, решивший провести здесь свои преклонные годы после того, как он избороздил все моря. Ходят слухи, что он назвал виллу в честь своего корабля, в честь парусника «Мечта». Или это был не парусник, а паровой корабль – не знаю. Известно только, что когда-то этот корабль видели во всех портах мира, а его капитан слыл отважным мореплавателем. Итак, этот корабль также называли «Мечта», только вот на каком языке – неизвестно. Говорят, он ходил под американским флагом, да и сам капитан был американец, причем родом из североамериканских индейцев, что редкость среди капитанов дальнего плавания, потому что, по слухам, индейцы не любят выходить в открытое море. Легенда гласит, что, когда после долгих странствий капитан вернулся на родину, он столкнулся с какими-то отвратительными несправедливостями, упавшими на головы людей его племени. Возмущенный этими обстоятельствами, наш обветшалый мореход решил навсегда покинуть Америку и выбрал наши края, чтобы бросить здесь якорь. Но ходят и иные слухи об этом капитане. Судачат о его богатстве – и в самом деле, с чего бы это он был так богат, этот соленый и йодистый индеец? Так богат, чтобы выстроить себе виллу дворцового типа, и разбить вокруг нее можжевеловый парк, и на этой вилле вальяжно проводить свою соленую и йодистую старость в нашем курортном нежном уголке. А этот курорт в те времена считался весьма изысканным – настолько, что его то и дело сравнивали с Ниццей. Ну, конечно же, циркулируют в сказаниях версии о сокровищах, привезенных из дальних стран, – ведь люди жить не могут без побасенок о кладах. Намекают некоторые, что капитан был в молодости, мягко говоря, не совсем честен, что он обладал темной и запутанной биографией и что вовсе не притеснения по отношению к индейцам, а его собственные тайны и не вполне законный его капитал – именно это заставило его покинуть родную Америку и затаиться в нашей пиратской бухте. Да, наша бухта когда-то была пиратской. И многие желали бы и в лице капитана-индейца обнаружить старого пирата. Но это мифы. Все это, дорогой Кай, не более чем wishful thinking. Или же, говоря по-нашему, мечты, а капитан-индеец, видимо, любил это русское слово. Слово «мечта» связано с морем, недаром оно лишь одной буквой отличается от слова «мачта». Слово «мечта» родственно отметке на морской карте, но не следует забывать, что это слово таит в себе меч и созвучно индейскому словечку «мачете». Башня, напоминающая мачту и меч, возвышалась над виллой «Мечта», но виллы больше нет. Однако кое-кто утверждает, да еще с запалом, что корабль, в честь которого капитан назвал свою виллу, существует и все еще на плаву. Встречаются личности, настаивающие на том, что видели этот корабль. Подумать только, даже этим не ограничиваются наши мифотворцы! Самые дерзкие из них готовы часами убеждать своих собеседников в том, что не только корабль, но и его капитан-индеец все еще жив. Более того, он якобы по-прежнему обитает в наших краях, но видят его немногие – говорят, он является некоторым впечатлительным странникам в день, когда они впервые достигают нашего селения. Это считается счастливой приметой! – Бо-Пип внезапно мне подмигнула, затем звонко рассмеялась и вдруг исчезла, юркнув в незаметную калитку, скрывающуюся среди густых кустов. Впрочем, прежде чем калитка затворилась предо мной, рука Бо-Пип помахала мне из-за этой зеленой дверцы, на которой была начертана цифра 7. И она крикнула мне, почти повторив слова Акима Мартышина.
– Приходи вечером в «Степан». Я тебя кое с кем познакомлю. Пока, Кай!
– Покакай! – фамильярно повторило кипарисовое эхо.
И я отправился к себе в отель, чтобы в задумчивости последовать этому доверительному совету.
В своем номере я опять лицезрел белую занавеску, развевающуюся за окном. А за этим знаменем медленно и ароматно сгущался курортный вечер. Небо над горами пребывало в упоении относительно своего многоцветия: оно приобрело пурпурные и алые муаровые ленты, словно старый сановник, и эти ленты рдели на фоне его мундира, чей цвет на глазах переходил от сливы, тронутой патиной, к черносливу яркому и блестящему. Горы становились все темнее, зажглись огоньки, и одновременно с огоньками зазвучала музыка: сотни песен сочились из разных точек пространства и воспаряли над полупустынным поселком, сплетаясь в воздухе, образуя над скалами, ржавыми крышами и кипарисами диффузную зону звука, где совершалось броуновское движение аккордов и слов, воспевающих разлуку, измену, ревность, любовь, разочарование, нежность, обиду, готовность к действию, танцы, сексуальную озабоченность и сексуальную беззаботность.
Создавалось ощущение, что музыки здесь гораздо больше, чем людей, желающих ею насладиться. Казалось, количество поющих голосов значительно превосходит количество внимающих ушей, потому что улочки поселка еще не заполнились вечерними гуляющими. В заведениях еще не галдели пьяные, еще не извивались танцующие, а музыка уже звучала повсеместно, и по маленьким танцполам уже носились разноцветные пятна, но лучи не высвечивали пока ни одной пляшущей фигуры.
Звучали одновременно песни разных десятилетий, сообщая о том, что приморские обитатели открыты всем временам, как и само море. Многие песни (как веселая девичья попса, так и меланхоличный мужественный шансон) обращались к маме. И, видимо, небо было этой мамой, потому что оно утешало и смешивало воедино все поющие сердца.
- Снова стою одна,
- Снова курю, мама, снова.
- А вокруг тишина,
- Взятая за основу…
Или:
- Мама Люба, давай, давай, давай.
- Мама Люба, давай, давай, давай
Или:
- Мой любимый самый,
- Улетаю, таю – ну и пусть.
- Не звони мне, мама,
- Я сегодня ночью не вернусь…
Или:
- Mamma! Mamma mia! Let me go again!
Или:
- Не жди меня, мама,
- Хорошего сына…
Или:
- Muter! Muterrrrr!!!
Встречались в песнях и такие адресаты, как «Мама Одесса», «Мама Америка» и даже «Мама Галактика».
Или:
- Скажи мне, мама,
- Сколько стоит моя жизнь?
Или:
- Мама, я жулика люблю,
- Мама, я за жулика пойду.
- Жулик мой в кандалах,
- А я фраера в шелках.
- Мама, я жулика люблю!
Или:
- Mother! Mother! Let me…
Или:
- Возьми две копейки,
- Домой позвони:
- До свиданья, мама!
Все эти голоса звучали из воздуха, как голоса бесплотных духов, расставшихся с телами, и все они взывали к матери, как к самой материи, то умоляя о возвращении в бренный мир, то требуя отпустить их на волю, требуя окончательного освобождения: «Mother, Let me go! Mamma mia, Let me go again! Mamma, never, never Let me go!»
Но ни то ни другое невозможно: никогда эти голоса не вернутся в тела теплые и вертлявые, и никогда тела не отпустят их от себя: они всегда будут вращаться вокруг тел, обеспечивая их танцы, совокупления, опьянения, питая их отдыхом и радостью, энергией и тоской, соборностью и одиночеством.
Конфуций спросил: «Разве небо говорит?» Нет, небо не говорит, оно поет. Поет тысячью голосов, воспаряющих над землей.
Глава восьмая
Стихи и рисунки моей мамы
Когда мне было шесть, семь и восемь лет, мы с мамой и папой жили втроем, в трехкомнатной квартире на одиннадцатом этаже большого белого брежневского дома. Та местность казалась отдаленной от городского центра, недавно застроенной белыми простыми жилыми домами, вокруг еще сохранялось какое-то слегка растерянное состояние окраины, насыщенное как бы отчасти диким простором, а за окнами нашими разверзалось раздолье настолько открытое, что в ясную погоду видно было, как на горизонте вспыхивают золотыми искорками очень далекие, но все же узнаваемые купола кремлевских соборов. «А из нашего окна площадь Красная видна» – говорилось в известном детском стишке. Но нет, из нашего окна Красную площадь было не разглядеть, но микроскопическая колокольня Ивана Великого прочитывалась довольно отчетливо на линии горизонта, а рядом посверкивала на солнце крошечная грибница храмовых куполов. Ночами же золото этих куполов гасло и растворялось во тьме, но маленькими красными точками светились между землей и небом кремлевские звезды. Линия горизонта мощно присутствовала в той квартире (в наших трех комнатах, которые казались мне очень большими и постоянно облитыми ясным небесным светом, царствовала какая-то доверчивая распахнутость, некая беззащитность в отношении небес), и, в общем-то, мы трое жили там как бы под гипнозом этой линии, а ведь горизонт этот был городским, урбанистическим, московским, и все же нечто проступало в этом ландшафте от неосвоенной планеты, от разросшейся до гигантских размеров орбитальной станции: невозможно было поверить, глядя из наших окон, что мы живем в древнем городе, где когда-то торговали соболями на рынках, где цари в атласных халатах восседали на своих узорчатых тронах, а парчовые боярские кибитки вязли в жидкой грязи между дощатыми тротуарами. Из моего окна открывался мне город, казавшийся мне построенным совсем недавно и вроде бы не предназначенный для долгого дальнейшего существования: не столько город, сколько временное техническое поселение, гигантское, но непрочное, и даже далекие храмовые купола оборачивались в контексте того окна какими-то техническими агрегатами, чем-то вроде огромных катушек, плотно опутанными толстыми нитями из полудрагоценных металлических сплавов – то ли ради концентрации солнечной энергии, то ли ради иных нужд, связанных с прагматическим распределением небесных сил по каналам технического обеспечения этой обширной колонии, где массы колонистов живут и работают, постепенно накапливая сведения о совершенно новом для них мире, куда их забросила неведомая мне логика оголтело-отважного и трудолюбивого эксплоринга. Моя мама в тот период постоянно рисовала этот горизонт, он сделался героем множества ее рисунков, нередко он изображался темнеющим, предвечерним, а небо над этой неровной линией приобретало цвета заката, оно становилось оранжево-красным, плотно утрамбованным, даже слегка лоснящимся, потому что над ним плотно и неторопливо поработали несколько красных, оранжевых и желтых карандашей. В этом небе над городом чаще всего летел или парил раскрытый зонт – белый, ярко-желтый, или же черный, или же сливочно-розовый. Этот зонт не был объят пламенем, но все же он был горящим зонтом – он горел, как фонарик, в этом закатном небе, как Неопалимая Купина, как окна вечерних домов, как звезда любви. И при этом оставался одиноким, потерянным. Потерявшимся в небесах. Моя мама любила изображать или описывать объекты, унесенные ветром или же парящие. Штаны, улетевшие с балкона и совершающие свой полет над городом. Бесчисленные летящие зонты. Воздушные шарики, ускользнувшие из жадных детских рук. Домики, летящие в небе, как украденный ураганом фургончик девочки из Канзаса. Букеты цветов, подброшенные в воздух какими-то восторженными руками, но забывшие приземлиться. Домики на маминых рисунках иногда парили в небе целыми небесными группами, небольшими левитирующими поселками. Собственно, и наша квартира была таким домиком, висящим в небесах. Непрочность и безосновательность такого воспаряющего существования очевидна. Но не менее очевидна и присущая такому существованию эйфория.
Еще одним объектом, висящим в небесах (точнее, в данном случае, свисающим с небес), часто являлось яйцо на нитке – этому объекту посвящена большая серия маминых рисунков. В тот период мы часто изготавливали такие легковесные сувениры. Все знают, как это делается: берется сырое яйцо, в точке его максимального заострения (макушка яйца) делается маленькое аккуратное отверстие, затем содержание яйца осторожно вытряхивается или высасывается – остается пустая легкая скорлупа, сохранившая свою форму. Затем берется маленький обломок спички, к которому привязывают нить. Кусочек спички осторожно просовывается в отверстие – и вот оно перед вами, яйцо на нитке. Оно почти невесомо, хрупко, но нетленно. Его можно вешать на лампы, на новогодние елки, на фронтоны книжных шкафов – повсюду, где ветер и неосторожные руки не разобьют его. Скорлупу можно разрисовать акварелью, обрызгать каплями жидкого золота или же оставить как есть – в любом случае этот объект приобретет легковесные магические свойства.
Непрочность и хрупкость часто становились предметом описания (даже, можно сказать, объектом поэтической глорификации) в маминых стихах. Вот ее известные детские стихи про синюю чашку.
- Синяя чашка красивой была.
- Но как-то упала она со стола,
- И серые-серые мышки
- Схватили осколки под мышки.
- Так и случилось, что в темный подвал
- Синего неба кусочек попал.
А вот другое стихотворение, написанное вскоре после того, как мы встретили зловещий 1986 год – год, который разлучил нас.
- Ты – стеклянный огурец,
- Огурец ненастоящий,
- Подозрительно блестящий,
- Даже мертвый, наконец.
- Ты зачем висишь на ветке,
- Грея лампочки в боках?
- Огуречик ты некрепкий,
- Вот свалился ты – и ах!
- Ах, как много сверкающих, тающих,
- Блескучих, поючих осколочков
- Дрожало, лежало, визжало
- На полочках.
- А?
На новогодней нашей елочке, которая в том году была убогой, словно испуганной, действительно висел, среди прочих елочных игрушек, такой зеленый, пупырчатый, елочный огурец. И он и правда упал и разбился, превратившись в россыпь осколков, каждый из которых был с одной стороны зеленым, а с другой, вогнутой стороны, – серебристо-зеркальным. Все мамины стихи, написанные той суровой последней зимой, заканчиваются вопрошанием «А?» – словно бы автор под конец каждого стиха слышит некую невнятную реплику или вопрос, приходящий извне, и переспрашивает с оттенком недоумения: «А? Что?» Вся жизнь человеческая – это такое переспрашивание, вежливая попытка уточнить недорасслышанное: «Что? Как? Что вы сказали? Зачем?» Множество маминых стихов разных периодов построены в форме диалога, в ходе которого беседующие или же не вполне отчетливо слышат или не вполне отчетливо понимают друг друга, как если бы разговор происходил в грохочущем поезде или на вечеринке, где звучит громкая музыка, или в заводском цеху, где гремят станки, или же вблизи огромного водопада. Голос стиха кажется самому себе настолько тихим, что ему постоянно приходится пробиваться сквозь внешний шум, но и возможность диалога, возможность получить сообщение – эти возможности также затруднены. Да и сам диалог, само сообщение – они под вопросом, они тоже предмет сомнения: стоит ли услышать то, что было сказано? Или следует ускользнуть, умыкнув с собою лишь осколок неведомой речи – кусочек синего неба или пупырчатый фрагмент елочного огурца? Поэтическая речь всегда содержит в себе некий профетический импульс, который, дай ему только волю, может ввести в заблуждение или же в искушение. В стихах моей мамы постоянно происходит скрытая борьба с этим профетическим импульсом, все речи распадаются на фрагменты, не вполне ясные, как бы не до конца расслышанные, но оттого еще более мистические и завораживающие:
- Постойте, что-то не пойму,
- Простите, не пойму я что-то,
- Что притаилось в том дому,
- Где заколочены ворота?
- Зачем и кто открыл окно?
- Скрипучие фрамуги взвыли.
- О Боже, там лежит оно
- Под толстым, тяжким слоем пыли.
- О Боже, там лежит оно.
- Оно мертво и недвижимо.
- Окаменевшее зерно
- Само в себе неразрешимо.
- Зачем же надо ворошить
- Всю эту каменную мерзость,
- Когда всего лишь просто жить –
- И то уже большая дерзость?
Глава девятая
Социализация в детских коллективах
Социализация в детских коллективах. Любой извне сформированный детский коллектив (палата детской больницы, группа детсада, школьный класс и прочее) быстро разделяется на две антагонистические группы. Условно говоря, разделяется на «отличников» и «хулиганов». В первую группу входят дети, лояльно относящиеся к тому миру, в котором они оказались (больница, интернат, детский сад, школа). Они принимают правила, им предложенные, стараются соответствовать им, преуспевают или хотя бы стараются преуспеть в учебе, прилагают усилия к тому, чтобы завоевать одобрение педагогов, наставников, воспитателей, надзирателей или медицинского персонала. Они соревнуются друг с другом в деле получения хороших отметок, призов, положительных отзывов и прочих поощряющих сигналов, приходящих из мира взрослых. Внутри своей группы «отличники» стараются завоевать уважение друг друга, занять более привилегированную позицию в своем сообществе. Эта группа детей, как правило, на равных включает в себя оба гендера: мальчиков и девочек среди «отличников» примерно одинаковые количество (если дело происходит в межгендерном коллективе).
Во второй группе («хулиганы»), как правило, преобладают мальчики. Иногда такая группа состоит исключительно из детей одного пола (банды «хулиганов» и «хулиганок»), но по большей части и мальчики, и девочки присутствуют в «хулиганской» группе, но девочки остаются в меньшинстве. Эта группа незаконопослушна, отвергает правила «легального» мира, ориентирована на физическую силу, выносливость, отвагу, удаль, лихость повадок и поступков и прочее в этом роде. В группу входят дети, склонные к насилию, но умеющие подчиняться законам группы. И в той и в другой группе появляются лидеры или лидер. В первой группе – дети, наиболее способные к учебе и организационной работе. Во второй – наиболее сильные, жестокие, лихие. Вторая группа нуждается в жертве.
Как правило, жертва выбирается из слабых представителей, непрочно примкнувших или желающих примкнуть к группе «отличников». Вторая группа как бы идет по следам первой, охотясь на тех, кто отстал или отбился от своей стайки. Иногда жертву выбирают среди одиночек, отщепенцев. Иногда жертва входит в криминальную группу как особая персона, предназначенная для унижений и издевательств, – козел отпущения.
Я, оказываясь (не по своей воле) в детских коллективах, никогда не принадлежал и не хотел принадлежать ни к первой, ни ко второй группе. Я плохо учился, не принимал правила и законы детского учреждения, стараясь обойти или пренебречь ими при любой возможности. Я не искал одобрения или симпатии со стороны учителей, нянь, воспитательниц, медсестер. С другой стороны, я не был сильным, агрессивным, склонным к насилию, способным принять негласные законы хулиганского или протокриминального сообщества. Никогда не стремился к их шайкам, не искал себе места среди хулиганов, не старался завоевать их одобрение или восхищение.
Казалось бы, я был обречен на одиночество в этих детских коллективах. Я был полностью готов к этому одиночеству, настроен на него. Но я не оставался один. Никогда. В любом детском коллективе, разделившемся на две вышеописанные группы, присутствует несколько отщепенцев – социальный шлак как бы, непутевые. Дети, которые по разным причинам не могут либо не хотят примкнуть к «отличникам» или «хулиганам». И эти отщепенцы объединяются, образуют собственную шайку или дружеское сообщество. Дети, не отличающиеся физической силой и способностями к учебе, недисциплинированные, слабые, асоциальные, со странностями. Как правило, их немного – от трех до пяти. Иногда двое. Редко цифра доходит до шести, но случается.
Везде и всегда, во всех детских учреждениях, я становился частью этого третьего сообщества. Это – зародыш богемы. Союз отверженных. Союз дураков. Чем занимаются эти дети? В основном смеются. Постоянно ржут, как идиотики, по любому поводу и без повода. Совершают нелепые выходки. Рассказывают друг другу сказки и байки. Эта «богемная» детская группа бывает столь же межгендерна, как и группа «отличников». Но, в отличие от групп «отличников» и «хулиганов», в «богемной» группе, как правило, нет лидеров, нет авторитетов. Сплошное отрицалово. Эти дети не ищут одобрения ни со стороны взрослых, ни со стороны сверстников. Иногда их двое. Яркий пример такой пары – Бивис и Батт-Хед. Макс и Мориц. Кривляки, шалуны, отъехавшие. Но не хулиганы. Слишком погруженные в себя, слишком глубокомысленные или слишком легкомысленные. Слишком тупые и при этом слабые. Девиантная группировка. В этих сообществах я чувствовал себя как рыба в воде.
В «богемной» группе много плюсов, но есть и свои минусы. К обаятельным сторонам такой шайки относится прежде всего следующее: никто не подделывается, не трансформируется в угоду группе. Все принимают друг друга такими, какими они являются, со всем буйством качеств. Группа объединяется вовсе не по принципу более удобного или успешного выживания в общем социуме, но исключительно ради той эйфории, которые представители детской богемы способны порождать в душах своих соратников. Флюид «богемной» группы – беспричинное веселье, нелегальный хохот, демонстративная тупость во всех перспективных с точки зрения общества направлениях – социальная тупость, часто восполняемая разгулом воображения, безграничным и наслажденческим словоблудием (хотя среди отщепенцев неизбежно присутствуют и тотально молчаливые, заики, логофобы, катастрофически застенчивые). Каковы же минусы «богемной» группы? Главный минус – полное отсутствие солидарности. А также того, что называют взаимовыручкой. Никто никому не помогает за рамками взаимного развлечения. В случае если «хулиганы» или «власти» (официальные структуры детского учреждения) атакуют или репрессируют одного из членов «богемного» сообщества, группа не защищает своего или свою. Сочувствует, но не помогает. Предоставляет эмпатическую поддержку, но не действенное участие. Не то чтобы каждый сам за себя. А просто – каждый ни за кого. Никакой спайки в этой шайке.
Внутри себя «богемная» группа разделяется на две категории. К первой относятся дети, которые (возможно) хотели бы примкнуть к «отличникам» или к «хулиганам», но были ими отвергнуты. Ко второй категории принадлежат те, кто избегает «отличников» и «хулиганов» осознанно и по своей воле – это костяк «богемы», ее социальный скелет. Я уже сказал, что лидеров у «богемы» нет. Но костяк есть. Я всегда принадлежал ко второй категории.
«Отличники» и «хулиганы» относятся к «богеме» по-разному. В начале, когда «богема» еще не вполне сформировалась, «хулиганы» нередко проявляют агрессию или презрение к отщепенцам, иногда ищут среди них себе жертву или жертв. Но через некоторое время проявляется подспудная симпатия. Даже некоторое уважение.
«Хулиганы» (пролетариат, спортсмены, будущие военные, менты и преступники) в некоторой степени зависят от «богемных». Главный ужас и главная проблема детских учреждений – скука. И «хулиганы» страдают от скуки в паузах между своими делами (потасовки, тренировки и прочее). «Богемные» способны развлечь, если к ним подольститься, они – зародыш индустрии развлечений.
«Отличники» (протоинтеллигенция, будущие политики, журналисты, врачи, учителя, научные работники, инженеры, чиновники) пытаются не замечать «богемных», игнорировать их. Но в глубине души они ненавидят и презирают «богему» гораздо больше, чем «хулиганы». От скуки «отличники» не страдают: заняты учебой, чтением, организационной работой, легальным спортом. Поэтому «богема» кажется им ненужной. Они не могут смириться с наличием в обществе этого шлака, этого бессмысленного девиантного элемента.
Затем, уже во взрослом мире, «богема» становится агентурой народа, встроенной в тело интеллигенции, но не сливающейся с этим телом. Это отражается прежде всего в языке: интеллигенция избегает мата и жаргонизмов (как минимум в письменном тексте). «Богема» же не только говорит, но и пишет на матерно-сленговом языке. Удивительно, но сложный философский язык, насыщенный специальной терминологией, тоже воспринимается интеллигенцией как один из «богемных» сленгов (возможно, не без оснований). Поэтому интеллигенция относится к философским терминам с недоверием, продолжая поддерживать нормы «чистого, правильного и общепринятого» языка. Возникает скрытое, но непримиримое противостояние между интеллигенцией и интеллектуалами. Несмотря на кажущееся социальное родство, интеллектуалы ближе к «богеме», чем к интеллигенции. Поэтому интеллигенты боятся и избегают интеллектуалов. Интеллигенты смертельно боятся делириозного состояния речи, боятся инфантилизмов, программного словоблудия, психоделики, зауми, шаманских камланий и философской усложненности.
По мере своего взросления дети из «богемной» группы, как правило, теряют связи друг с другом. Для них вряд ли возможны «встречи одноклассников» или что-либо в этом роде. Повзрослев, они расходятся по жизни разными путями. Становятся артистами, сумасшедшими, художниками, поэтами, фриками, тусовщиками, оригиналами, наркоманами, отшельниками, религиозными адептами, модниками. Кто-то постепенно научается скрывать свои странности, кто-то избавляется от странностей. Большинство превращается в рядовых членов общества, лишь слегка окрашенных теми или иными причудами.
В детском саду на Пресне (а также в короткой цепочке из трех просторных дворов, прилегающих к этому детскому саду) сложилась у нас, пятилеток-шестилеток, такая вот дружная, но раздрызганная компания отщепенцев. Довольно большая шайка, можно сказать. Входили в эту шайку, кроме меня, Петя Геллер, Линда Спящая, Антон Замороженный, Костя Воробьев и Ерошка. А также примкнул к нам удивительный и никем не любимый мальчик по кличке Тип-Типунечка. Это я его так прозвал, и прозвище это приклеилось. Тип-Типунечка был, как сказали бы теперь, квир. Паренек с тяготением к трансгендеру. В те времена мы таких словечек не знали. Пухлый, неизмеримо надменный и напыщенный, он воровал у своей мамы губную помаду, лак для ногтей и тени для глаз. Видимо, он просто очень любил свою маму и старался всячески ей подражать. Украсившись своими силами, он выходил во двор. Губы его, постоянно вытянутые в трубочку, алели помадой. Перед собою он горделиво и манерно простирал свои руки с растопыренными пальцами. Ногти свои он покрывал вишневым или же малиновым лаком. Запах французских духов исходил от его убогой одежды. Ну и, конечно, тени для глаз… В общем, выглядел он чудовищно. Весь этот макияж он осуществлял самопально, криво и косо, с детской неумелостью. Если бы он был хотя бы красив или похож на девочку – может быть, это и порождало бы некий впечатляющий образ, не знаю. Но Тип-Типунечка был толст, некрасив и на девочку не похож. Скорее он напоминал уменьшенный вариант какой-то сумасшедшей продавщицы или кассирши из гастронома. Но сам себе он нравился безумно. Он ходил по двору, раздувшись, как пузырь, от осознания собственной красоты. Естественно, он не мог спокойно миновать ни одну отражающую поверхность: застывал, любовался своим отражением, строил кокетливо-высокомерные гримаски, подсмотренные им у его мамы.
Стоит ли говорить, что он сделался объектом травли и издевательств со стороны всего детского населения наших дворов? Всю эту травлю и издевательства он переносил с поразительным хладнокровием, проявляя железобетонное упорство в своем стремлении к трансгендерному самоукрашательству. Иногда появлялись на его толстой шее крупные бусы. Мы над ним тоже издевались. И все же не препятствовали ему приклеиваться к нашей компании. Таковы законы «богемной» шайки: никакой отщепенец не может быть отвергнут. Впрочем, мы ему вовсе не нравились, даже наоборот – внушали отвращение, но надо же ему было хоть с кем-то тусоваться? Кроме нас, его никто не принимал.
Он был глуп, как пробка. Глуп и высокомерен. Впрочем, эти качества, кажется, спасали его на избранном им хрупком пути.
Петя Геллер являлся прытким озорником и потенциальным хулиганом, отторгнутым по каким-то причинам хулиганским сообществом. Может быть, его слили за еврейский его видок – не знаю. Он был самым энергичным и неуемным в нашей компании, вечно его подбрасывала и раскачивала какая-то внутренняя пружина, сподвигая на разные неудобоваримые действия. Меня он тоже сподвигал на такие действия, а иногда я сподвигал его. Однажды мы совершили с ним совместно ужасный поступок – сломали, изорвали и истоптали красный флаг. Поступок поистине хулиганский, крайне опасный и глупый, свидетельствующий о том, что мы в нашем малолетнем идиотизме имели крайне смутные представления о символических ценностях советского общества. Случись такое в сталинские, или даже ленинские, или даже хрущевские времена – наше деяние могло бы повлечь за собой весьма прискорбные последствия не только для нас, но и для наших родителей. Но в небрежные брежневские годы нашего детства на этот поступок предпочли зажмуриться. Случилось это в детском саду. Воспитательницы настолько оцепенели в ужасе от содеянного нами, что сделали вид, что ничего не видели и не слышали. Испугались, конечно же, за себя, а не за нас, но нам это оказалось на руку.
«Богема» редко атакует «отличников». «Богеме» вообще не свойственно атаковать, но Петя Геллер все же был отчасти «хулиганом», переметнувшимся на сторону «богемы». Во мне тоже изредка проскакивали какие-то хулиганские замашки, удивлявшие меня самого.
Короче, нас с Геллером очень бесил один мальчик из детсадовской группы. Звали его Сережа, и он был образцовым мальчиком. Воспитательницы на него нарадоваться не могли и всегда ставили его в пример другим детям. «Как же ты задолбал своей правильностью!» – сказано в треке группы «Кровосток». В общем, мальчик Сережа задолбал нас с Петей своей правильностью. Как-то раз он приперся в детский сад с красным флагом. Кто-то подарил ему, видимо, красный флаг – шелковый, на древке. Сережа просто лопался от счастья и гордости, тусуясь с этим красным флагом в детсадовском дворе. Мне стыдно признаваться в этом, но мы с Петей Геллером отняли у мальчика Сережи красный флаг, разломали палку, на которой он был укреплен, а сам флаг изорвали и втоптали в снег. Помню, как мальчик Сережа картинно и кинематографично рыдал, стоя на коленях в снегу, склоняясь над клочьями растерзанного флага.
Выглядело это все, как я теперь понимаю, просто чудовищно. Два оборзевших еврейских оторвыша надругались над народной святыней, ранив сердце прекрасного светловолосого русского мальчика с чистыми и честными голубыми глазами.
Поразительно, что этот гнусный наш поступок обошелся без последствий. Это было настолько за гранью, что никто ни слова не сказал. Мальчик Сережа тоже никому не пожаловался на нас. Видимо, он действительно был хорошим, добрым и честным мальчиком, а мы его обидели. Этот шестилетний человек воплощал в себе просветленную советскую этику в детском понимании. А советская этика в те времена (в отличие от сталинских времен) осуждала ябед, кляузников, жалобщиков и фискалов. Даже воспитательницы и учителя не слишком любили ябед. Доносчики случаются всегда, но в брежневские годы их не уважали даже те, на кого они работали. Кляузников и стукачей дружно ненавидели и презирали все – «отличники», «хулиганы», отщепенцы, взрослые.
Это очень контрастирует с нравами наших времен. Мне, позднесоветскому человеку, прискорбно и отвратительно наблюдать за тем, с каким энтузиазмом нынче стучат друг на друга в Сети. Нередко ссылаясь на высокоморальные мотивы – это особенно омерзительно. Стучат те, кто поддерживает власть, и стучат те, кто против власти. Стучат правые и левые, стучат приверженцы новой этики и новые феминистки. Это новейшее сетевое крысятничество вовсе не считается предосудительным с точки зрения сетевого сообщества, крысятничество опять (как в ленинские и сталинские годы) подается как гражданский долг, как нерв гражданского общества, как проявление гражданской ответственности и сознательности. Стучат под благородным соусом борьбы за права человека, под соусом борьбы с коррупцией, под соусом борьбы с харассментом и абьюзом. Потекла эта гниль на этот раз с Запада, из Америки. Но все равно напоминает о партийных чистках, о комсомольском, блядь, горении на чистом и праведном огне. Студенты стучат на преподов: кто-то кого-то шлепнул по заднице, кто-то кому-то предложил стакан вина или чашку чая. Кто-то кого-то простебал или матюгнулся. Стучат даже на друзей. Даже на родителей, как во времена пионера-героя Павлика Морозова. Целые политические партии и движения рвутся к власти под широко развернутыми стягами борьбы с коррупцией. Считается святым делом стучать на чиновников, которые спиздили деньги и построили себе неправедные дворцы. Политические оппозиционеры вроде бы борются за свободу. Хуй бы там! Если бы действительно боролись бы они за свободу, вряд ли ключевым словом для них сделалось бы слово «Посадить!». Требуют посадить коррупционеров. Хотят стать властью. Праведная и высокоморальная власть гораздо страшнее и отвратительнее власти проворовавшейся и неправедной. Именно идейная и убежденная в своей правоте власть совершает самые отвратительные и чудовищные злодеяния. Выбирайте: что лучше – рыльце в пушку или клыки в крови? По мне уж лучше рыльце в пушку. Помилее, чем окровавленная пасть блюстителей нравственности и борцов за светлые идеалы.
Вернемся в детство. Было ли мне стыдно тогда за жестокую и глупую выходку с красным флагом? Нет почему-то. Но некая загадочная расплата за мой скверный поступок меня все же посетила. Удивительно, но я вдруг полюбил красный флаг после того, как надругался над ним. До этого происшествия красный флаг не вызывал у меня никаких чувств. Красные флаги, особенно в дни праздников, торчали и трепетали везде, возле каждого подъезда. Они воспринимались как нечто само собой разумеющееся, почти как листва на деревьях или снег зимой. Я как бы не замечал их – видел, но не осознавал. И тут вдруг, разорвав и растоптав красный флаг, я внезапно осознал, насколько он прекрасен. И мне страстно захотелось иметь свой собственный красный флаг. Подобным образом, годы спустя, я сделался увлеченным спиритом после того, как участвовал в срыве спиритического сеанса. Может быть, подобный сценарий заложен в моем имени – Павел? Апостол Павел был яростным гонителем христианства, а потом сделался ревностным последователем Христа. Каждый Павел начинается с Савла.