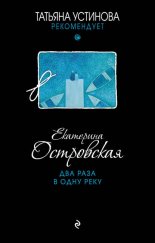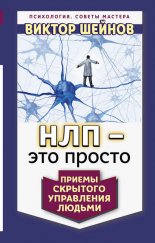Петр Первый Толстой Алексей

Книга первая
Глава первая
1
Санька соскочила с печи, задом ударила в забухшую дверь. За Санькой быстро слезли Яшка, Гаврилка и Артамошка: вдруг все захотели пить, — вскочили в темные сени вслед за облаком пара и дыма из прокисшей избы. Чуть голубоватый свет брезжил в окошечко сквозь снег. Студено. Обледенела кадка с водой, обледенел деревянный ковшик.
Чада прыгали с ноги на ногу, — все были босы, у Саньки голова повязана платком, Гаврилка и Артамошка в одних рубашках, до пупка.
— Дверь, оглашенные! — закричала мать из избы.
Мать стояла у печи. На шестке ярко загорелись лучины. Материно морщинистое лицо осветилось огнем. Страшнее всего блеснули из-под рваного плата исплаканные глаза, — как на иконе. Санька отчего-то забоялась, захлопнула дверь изо всей силы. Потом зачерпнула пахучую воду, хлебнула, укусила льдинку и дала напиться братикам. Прошептала:
— Озябли? А то на двор сбегаем, посмотрим, — батя коня запрягает…
На дворе отец запрягал в сани. Падал тихий снежок, небо было снежное, на высоком тыну сидели галки, и здесь не так студено, как в сенях. На бате, Иване Артемиче, — так звала его мать, а люди и сам он себя на людях — Ивашкой, по прозвищу Бровкиным, — высокий колпак надвинут на сердитые брови. Рыжая борода не чесана с самого покрова… Рукавицы торчали за пазухой сермяжного кафтана, подпоясанного низко лыком, лапти зло визжали по навозному снегу: у бати со сбруей не ладилось… Гнилая была сбруя, одни узлы. С досады он кричал на вороную лошаденку, такую же, как батя, коротконогую, с раздутым пузом:
— Балуй, нечистый дух!
Чада справили у крыльца малую надобность и жались на обледенелом пороге, хотя мороз и прохватывал. Артамошка, самый маленький, едва выговорил:
— Ничаво, на печке отогреемся…
Иван Артемич запряг и стал поить коня из бадьи. Конь пил долго, раздувая косматые бока: «Что ж, кормите впроголодь, уж попью вдоволь»… Батя надел рукавицы, взял из саней, из-под соломы, кнут.
— Бегите в избу, я вас! — крикнул он чадам. Упал боком на сани и, раскатившись за воротами, рысцой поехал мимо осыпанных снегом высоких елей на усадьбу сына дворянского Волкова.
— Ой, студено, люто, — сказала Санька.
Чада кинулись в темную избу, полезли на печь, стучали зубами. Под черным потолком клубился теплый, сухой дым, уходил в волоковое окошечко над дверью: избу топили по-черному. Мать творила тесто. Двор все-таки был зажиточный — конь, корова, четыре курицы. Про Ивашку Бровкина говорили: крепкий. Падали со светца в воду, шипели угольки лучины. Санька натянула на себя, на братиков бараний тулуп и под тулупом опять начала шептать про разные страсти: про тех, не будь помянуты, кто по ночам шуршит в подполье…
— Давеча, лопни мои глаза, вот напужалась… У порога — сор, а на сору — веник… Я гляжу с печки, — с нами крестная сила! Из-под веника — лохматый, с кошачьими усами…
— Ой, ой, ой, — боялись под тулупом маленькие.
2
Чуть проторенная дорога вела лесом. Вековые сосны закрывали небо. Бурелом, чащоба — тяжелые места. Землею этой Василий, сын Волков, в позапрошлом году был поверстан в отвод от отца, московского служилого дворянина. Поместный приказ поверстал Василия четырьмястами пятьюдесятью десятинами, и при них крестьян приписано тридцать семь душ с семьями.
Василий поставил усадьбу, да протратился, половину земли пришлось заложить в монастыре. Монахи дали денег под большой рост — двадцать копеечек с рубля. А надо было по верстке быть на государевой службе на коне добром, в панцире, с саблею, с пищалью и вести с собой ратников, троих мужиков, на конях же, в тегилеях, в саблях, в саадаках… Едва-едва на монастырские деньги поднял он такое вооружение. А жить самому? А дворню прокормить? А рост плати монахам?
Царская казна пощады не знает. Что ни год — новый наказ, новые деньги — кормовые, дорожные, дани и оброки. Себе много ли перепадет? И все спрашивают с помещика — почему ленив выколачивать оброк. А с мужика больше одной шкуры не сдерешь. Истощало государство при покойном царе Алексее Михайловиче от войн, от смут и бунтов. Как погулял по земле вор анафема Стенька Разин, — крестьяне забыли бога. Чуть прижмешь покрепче, — скалят зубы по-волчьи. От тягот бегут на Дон, — откуда их ни грамотой, ни саблей не добыть.
Конь плелся дорожной рысцой, весь покрылся инеем. Ветви задевали дугу, сыпали снежной пылью. Прильнув к стволам, на проезжего глядели пушистохвостые белки, — гибель в лесах была этой белки. Иван Артемич лежал в санях и думал, — мужику одно только и оставалось: думать…
«Ну, ладно… Того подай, этого подай… Тому заплати, этому заплати… Но — прорва, — эдакое государство! — разве ее напитаешь? От работы не бегаем, терпим. А в Москве бояре в золотых возках стали ездить. Подай ему и на возок, сытому дьяволу. Ну, ладно… Ты заставь, бери, что тебе надо, но не озорничай… А это, ребята, две шкуры драть — озорство. Государевых людей ныне развелось — плюнь, и там дьяк, али подьячий, али целовальник сидит, пишет… А мужик один… Ох, ребята, лучше я убегу, зверь меня в лесу заломает, смерть скорее, чем это озорство… Так вы долго на нас не прокормитесь…»
Ивашка Бровкин думал, может быть, так, а может, и не так. Из леса на дорогу выехал, стоя в санях на коленках, Цыган (по прозвищу), волковский же крестьянин, черный, с проседью, мужик. Лет пятнадцать он был в бегах, шатался меж двор. Но вышел указ: вернуть помещикам всех беглых без срока давности. Цыгана взяли под Воронежем, где он крестьянствовал, и вернули Волкову-старшему. Он опять было навострил лапти, — поймали, и велено было Цыгана бить кнутом без пощады и держать в тюрьме, — на усадьбе же у Волкова, — а как кожа подживет, вынув, в другой ряд бить его кнутом же без пощады и опять кинуть в тюрьму, чтобы ему, плуту, вору, впредь бегать было неповадно. Цыган только тем и выручился, что его отписали на Васильеву дачу.
— Здорово, — сказал Цыган Ивану и пересел в его сани.
— Здорово.
— Ничего не слышно?
— Хорошего будто ничего не слышно…
Цыган снял варежку, разворотил усы, бороду, скрывая лукавство:
— Встретил в лесу человека: царь, говорит, помирает.
Иван Артемич привстал в санях. Жуть взяла… «Тпру»… Стащил колпак, перекрестился:
— Кого же теперь царем-то скажут?
— Окромя, говорит, некого, как мальчонку, Петра Алексеевича. А он едва титьку бросил…
— Ну, парень! — Иван нахлобучил колпак, глаза побелели. — Ну, парень… Жди теперь боярского царства. Все распропадем…
— Пропадем, а может, и ничего — так-то. — Цыган подсунулся вплоть. Подмигнул. — Человек этот сказывал — быть смуте… Может, еще поживем, хлеб пожуем, чай — бывалые. — Цыган оскалил лешачьи зубы и засмеялся, кашлянул на весь лес.
Белка кинулась со ствола, перелетела через дорогу, посыпался снег, заиграл столбом иголочек в косом свете. Большое малиновое солнце повисло в конце дороги над бугром, над высокими частоколами, крутыми кровлями и дымами волковской усадьбы…
3
Ивашка и Цыган оставили коней около высоких ворот. Над ними под двухскатной крышей — образ честного креста господня. Далее тянулся кругом всей усадьбы неперелазный тын. Хоть татар встречай… Мужики сняли шапки. Ивашка взялся за кольцо в калитке, сказал как положено:
— Господи Исусе Христе, сыне божий, помилуй нас…
Скрипя лаптями, из воротни вышел Аверьян, сторож, посмотрел в щель, — свои. Проговорил: аминь, — и стал отворять ворота.
Мужики завели лошадей во двор. Стояли без шапок, косясь на слюдяные окошечки боярской избы. Туда, в хоромы, вело крыльцо с крутой лестницей. Красивое крыльцо резного дерева, крыша луковицей. Выше крыльца — кровля — шатром, с двумя полубочками, с золоченым гребнем. Нижнее жилье избы — подклеть — из могучих бревен. Готовил ее Василий Волков, под кладовые для зимних и летних запасов — хлеба, солонины, солений, мочений разных. Но, — мужики знали, — в кладовых у него одни мыши. А крыльцо — дай бог иному князю: крыльцо богатое…
— Аверьян, зачем боярин нас вызывал с конями, — повинность, что ли, какая?.. — спросил Ивашка. — За нами, кажется, ничего нет такого…
— В Москву ратных людей повезете…
— Это опять коней ломать?..
— А что слышно, — спросил Цыган, придвигаясь, — война с кем? Смута?
— Не твоего и не моего ума дело. — Седой Аверьян поклонился. — Приказано — повезешь. Сегодня батогов воз привезли для вашего-то брата…
Аверьян, не сгибая ног, пошел в сторожку. В зимних сумерках кое-где светило окошечко. Нагорожено всякого строения на дворе было много — скотные дворы, погреба, избы, кузня. Но все наполовину без пользы. Дворовых холопей у Волкова было всего пятнадцать душ, да и те перебивались с хлеба на квас. Работали, конечно, — пахали кое-как, сеяли, лес возили, но с этого разве проживешь? Труд холопий. Говорили, будто Василий посылает одного в Москву юродствовать на паперти, — тот денег приносит. Да двое ходят с коробами в Москве же, продают ложки, лапти, свистульки… А все-таки основа — мужички. Те — кормят…
Ивашка и Цыган, стоя в сумерках на дворе, думали. Спешить некуда. Хорошего ждать неоткуда. Конечно, старики рассказывают, прежде легче было: не понравилось, ушел к другому помещику. Ныне это заказано, — где велено, там и живи. Велено кормить Василия Волкова, — как хочешь, так и корми. Все стали холопами. И ждать надо: еще труднее будет…
Завизжала где-то дверь, по снегу подлетела простоволосая девка-дворовая, бесстыдница:
— Боярин велел, — распрягайте. Ночевать велел. Лошадям задавать — избави боже, боярское сено…
Цыган хотел было кнутом ожечь по гладкому заду эту девку, — убежала… Не спеша распрягли. Пошли в дворницкую избу ночевать. Дворовые, человек восемь, своровав у боярина сальную свечу, хлестали засаленными картами по столу, — отыгрывали друг у друга копейки… Крик, спор, один норовит сунуть деньги за щеку, другой рвет ему губы. Лодыри, и ведь — сытые!
В стороне, на лавке сидел мальчик в длинной холщовой рубахе, в разбитых лаптях, — Алешка, сын Ивана Артемича. Осенью пришлось, с голоду, за недоимку отдать его боярину в вечную кабалу. Мальчишка большеглазый, в мать. По вихрам видно — бьют его здесь. Покосился Иван на сына, жалко стало, ничего не сказал. Алешка молча, низко поклонился отцу.
Он поманил сына, спросил шепотом:
— Ужинали?
— Ужинали.
— Эх, со двора я хлебца не захватил. (Слукавил, — ломоть хлеба был у него за пазухой, в тряпице.) Ты уж расстарайся как-нибудь… Вот что, Алеша… Утром хочу боярину в ноги упасть, — делов у меня много. Чай, смилуется, — съезди заместо меня в Москву.
Алешка степенно кивнул: «Хорошо, батя». Иван стал разуваться, и — бойкой скороговоркой, будто он веселый, сытый:
— Это, что же, каждый день, ребята, у вас такое веселье? Ай, легко живете, сладко пьете…
Один, рослый холоп, бросив карты, обернулся:
— А ты кто тут, — нам выговаривать…
Иван, не дожидаясь, когда смажут по уху, полез на полати.
4
У Василия Волкова остался ночевать гость — сосед, Михайла Тыртов, мелкопоместный сын дворянский. Отужинали рано. На широких лавках, поближе к муравленой печи, постланы были кошмы, подушки, медвежьи шубы. Но по молодости не спалось. Жарко. Сидели на лавке в одном исподнем. Беседовали в сумерках, позевывали, крестили рот.
— Тебе, — говорил гость степенно и тихо, — тебе, Василий, еще многие завидуют… А ты влезь в мою шкуру. Нас у отца четырнадцать. Семеро поверстаны в отвод, бьются на пустошах, у кого два мужика, у кого трое, — остальные в бегах. Я, восьмой, новик, завтра верстаться буду. Дадут погорелую деревеньку, болото с лягушками… Как жить? А?
— Ныне всем трудно. — Василий перебирал одной рукой кипарисные четки, свесив их между колен. — Все бьемся… Как жить?..
— Дед мой выше Голицына сидел, — говорил Тыртов, — у гроба Михаила Федоровича дневал и ночевал. А мы дома в лаптях ходим… К стыду уж привыкли. Не о чести думать, а как живу быть… Отец в Поместном приказе с просьбами весь лоб расколотил: ныне без доброго посула и не попросишь. Дьяку — дай, подьячему — дай, младшему подьячему — дай. Да еще не берут — косоротятся… Просили мы о малом деле подьячего, Степку Ремезова, послали ему посулы, десять алтын, — едва эти деньги собрали, — да сухих карасей пуд. Деньги-то он взял, жаждущая рожа и пьяная, а карасей велел на двор выкинуть… Иные, кто половчее, домогаются… Володька Чемоданов с челобитной до царя дошел, два сельца ему в вечное владенье дано. А Володька, — все знают, в прошлую войну от поляков без памяти бегал с поля, и отец его под Смоленском три раза бегал с поля… Так, чем их за это наделов лишить, из дворов выбить прочь, — их селами жалуют… Нет правды…
Помолчали. От печи пыхало жаром. Сухо тыркали сверчки. Тишина, скука. Даже собаки перестали брехать на дворе. Волков проговорил, задумавшись:
— Король бы какой взял нас на службу — в Венецию, или в Рим, или в Вену… Ушел бы я без оглядки… Василий Васильевич Голицын отцу моему крестному книгу давал, так я брал ее читать… Все народы живут в богатстве, в довольстве, одни мы нищие… Был недавно в Москве, искал оружейника, послали меня на Кукуй-слободу, к немцам… Ну, что ж, они не православные, — их бог рассудит… А как вошел я за ограду, — улицы подметены, избы чистые, веселые, в огородах — цветы… Иду и робею и — дивно, ну будто во сне… Люди приветливые и ведь тут же, рядом с нами живут. И — богатство! Один Кукуй богаче всей Москвы с пригородами…
— Торговлишкой заняться? Опять деньги нужны. — Михайла поглядел на босые ноги. — В стрельцы пойти? Тоже дело не наживочное. Покуда до сотника доберешься, — горб изломают. Недавно к отцу заезжал конюх из царской конюшни, Данило Меньшиков, рассказывал: казна за два с половиной года жалованье задолжала стрелецким полкам. А поди пошуми, — сажают за караул. Полковник Пыжов гоняет стрельцов на свои подмосковные вотчины, и там они работают как холопы… А пошли жаловаться, — челобитчиков били кнутом перед съезжей избой. Ох, стрельцы злы… Меньшиков говорил: погодите, они еще покажут…
— Слышно, говорят: кто в боярской-то шубе, и не езди за Москву-реку.
— А что ты хочешь? Все обнищали… Такая тягота от даней, оброков, пошлин, — беги без оглядки… Меньшиков рассказывал: иноземцы — те торгуют, в Архангельске, в Холмогорах поставлены дворы у них каменные. За границей покупают за рубль, продают у нас за три… А наши купчишки от жадности только товар гноят. Посадские от беспощадного тягла бегут кто в уезды, кто в дикую степь. Ныне прорубные деньги стали брать, за проруби в речке… А куда идут деньги? Меньшиков рассказывал: Василий Васильевич Голицын палаты воздвиг на реке Неглинной. Снаружи обиты они медными листами, а внутри — золотой кожей…
Василий поднял голову, посмотрел на Михайлу. Тот подобрал ноги под лавку и тоже глядит на Василия. Только что сидел смирный человек — подменили, — усмехнулся, ногой задрожал, лавка под ним заходила…
— Ты чего? — спросил Василий тихо…
— На прошлой неделе под селом Воробьевым опять обоз разбили. Слыхал? (Василий нахмурился, взялся за четки.) Суконной сотни купцы везли красный товар… Погорячились в Москву к ужину доехать, не доехали… Купчишко-то один жив остался, донес. Кинулись ловить разбойников, одни следы нашли, да и те замело…
Михайла задрожал плечами, засмеялся:
— Не пужайся, я там не был, от Меньшикова слыхал… (Он наклонился к Василию.) Следочки-то, говорят, прямо на Варварку привели, на двор к Степке Одоевскому… Князь Одоевского меньшому сыну… Нам с тобой однолетку…
— Спать надо ложиться, спать пора, — угрюмо сказал Василий.
Михайла опять невесело засмеялся:
— Ну, пошутили, давай спать.
Легко поднялся с лавки, хрустнул суставчиками, потягиваясь. Налил квасу в деревянную чашку и пил долго, поглядывая из-за края чашки на Василия.
— Двадцать пять человек дворовых снаряжены саблями и огневым боем у Степки-то Одоевского… Народ отчаянный… Он их приучил: больше года не кормил, — только выпускал ночью за ворота искать добычи… Волки…
Михайла лег на лавку, натянул медвежий тулуп, руку подсунул под голову, глаза у него блестели.
— Доносить пойдешь на мой разговор?
Василий повесил четки, молча улегся лицом к сосновой стене, где проступала смола. Долго спустя ответил:
— Нет, не донесу.
5
За воротами Земляного вала ухабистая дорога пошла кружить по улицам, мимо высоких и узких, в два жилья, бревенчатых изб. Везде — кучи золы, падаль, битые горшки, сношенное тряпье, — все выкидывалось на улицу.
Алешка, держа вожжи, шел сбоку саней, где сидели трое холопов в бумажных, набитых паклей, военных колпаках и толсто стеганных, несгибающихся войлочных кафтанах с высокими воротниками — тегилеях. Это были ратники Василия Волкова. На кольчуги денег не хватило, одел их в тигелеи, хотя и робел, — как бы на смотру не стали его срамить и ругать: не по верстке-де оружие показываешь, заворовался…
Василий и Михайла сидели в санях у Цыгана. Позади холопы вели коней: Васильева — в богатом чепраке и персидском седле и Михайлова разбитого мерина, оседланного худо, плохо.
Михайла сидел, насупившись. Их обгоняло, крича и хлеща по лошадям, много дворян и детей боярских в дедовских кольчугах и латах, в новопошитых ферязях, в терликах, в турских кафтанах, — весь уезд съезжался на Лубянскую площадь, на смотр, на земельную верстку и переверстку. Люди, все до одного, смеялись, глядя на Михайлова мерина: «Эй, ты — на воронье кладбище ведешь? Гляди, не дойдет…» Перегоняя, жгли кнутами, — мерин приседал… Гогот, хохот, свист…
Переехали мост через Яузу, где на крутом берегу вертелись сотни небольших мельниц. Рысью вслед за санями и обозами проехали по площади вдоль белооблезлой стены с квадратными башнями и пушками меж зубцов. В Мясницких низеньких воротах — крик, ругань, давка, — каждому надобно проскочить первому, бьются кулаками, летят шапки, трещат сани, лошади лезут на дыбы. Над воротами теплится неугасимая лампада перед темным ликом.
Алешку исхлестали кнутами, потерял шапку, — как только жив остался! Выехали на Мясницкую… Вытирая кровь с носа, он глядел по сторонам: ох, ты!
Народ валом валил вдоль узкой навозной улицы. Из дощатых лавчонок перегибались, кричали купчишки, ловили за полы, с прохожих рвали шапки, — зазывали к себе. За высокими заборами — каменные избы, красные, серебряные крутые крыши, пестрые церковные маковки. Церквей — тысячи. И большие пятиглавые, и маленькие — на перекрестках — чуть в дверь человеку войти, а внутри десятерым не повернуться. В раскрытых притворах жаркие огоньки свечей. Заснувшие на коленях старухи. Косматые, страшные нищие трясут лохмотьями, хватают за ноги, гнусавя, заголяют тело в крови и дряни… Прохожим в нос безместные страшноглазые попы суют калач, кричат: «Купец, идем служить, а то — калач закушу…» Тучи галок над церквушками…
Едва продрались за Лубянку, где толпились кучками по всей площади конные ратники. Вдали, у Никольских ворот, виднелась высокая — трубой — соболья шапка боярина, меховые колпаки дьяков, темные кафтаны выборных лучших людей. Оттуда худой, длинный человек с длинной бородищей кричал, махал бумагой. Тогда выезжал дворянин, богато ли, бедно ли вооруженный, один или со своими ратниками, и скакал к столу. Спешивался, кланялся низко боярину и дьякам. Они осматривали вооружение и коней, прочитывали записи, — много ли земли ему поверстано. Спорили. Дворянин божился, рвал себя за грудь, а иные, прося, плакали, что вконец захудали на землишке и помирают голодной и озябают студеной смертью.
Так, по стародавнему обычаю, каждый год перед весенними походами происходил смотр государевых служилых людей — дворянского ополчения.
Василий и Михайла сели верхами. Цыганову и Алешкину лошадей распрягли, посадили на них без седел двух волковских холопов, а третьему, пешему, велели сказать, что лошадь-де по дороге ногу побила. Сани бросили.
Цыган только за стремя схватился: «Куда коня-то моего угоняете? Боярин! Да милостивый!»… Василий погрозил нагайкой: «Пошуми-ка…» А когда он отъехал, Цыган изругался по-черному и по-матерному, бросил в сани хомут и дугу и лег сам, зарылся в солому с досады…
Об Алешке забыли. Он прибрал сбрую в сани. Посидел, прозяб без шапки, в худой шубейке. Что ж — дело мужицкое, надо терпеть. И вдруг потянул носом сытный дух. Мимо шел посадский в заячьей шапке, пухлый мужик с маленькими глазами. На животе у него, в лотке под ветошью дымились подовые пироги. «Дьявол!» — покосился на Алешку, приоткрыл с угла ветошь, — «румяные, горячие!» Духом поволокло Алешку к пирогам:
— Почем, дяденька?
— Полденьги пара. Язык проглотишь.
У Алешки за щекой находились полденьги — полушка, — когда уходил в холопы, подарила мамка на горькое счастье. И жалко денег, и живот разворачивает.
— Давай, что ли, — грубо сказал Алешка. Купил пироги и поел. Сроду такого не ел. А когда вернулся к саням, — ни кнута, ни дуги, ни хомута со шлеёй нет, — унесли. Кинулся к Цыгану, — тот из-под соломы обругал. У Алешки отнялись ноги, в голове — пустой звон. Сел было на отвод саней — плакать. Сорвался, стал кидаться к прохожим: «Вора не видали?..» Смеются. Что делать? Побежал через площадь искать боярина.
Волков сидел на коне, подбоченясь, — в медной шапке, на груди и на брюхе морозом заиндевели железные, пластинами, латы. Василия не узнать — орел. Позади — верхами — два холопа, как бочки, в тегилеях, на плечах — рогатины. Сами понимали: ну и вояки! глупее глупого. Ухмылялись.
Растирая слезы, гнусавя до жалости, Алешка стал сказывать про беду.
— Сам виноват! — крикнул Василий, — отец выпорет. А сбрую отец новую не справит, — я его выпорю. Пошел, не вертись перед конем!
Тут его выкрикнул длинный дьяк, махая бумагой. Волков с места вскачь, и за ним холопы, колотя лошаденок лаптями, побежали к Никольским воротам, где у стола, в горлатной шапке и в двух шубах — бархатной и поверх — нагольной, бараньей, — сидел страшный князь Федор Юрьевич Ромодановский.
Что ж теперь делать-то? Ни шапки, ни сбруи… Алешка тихо голосил, бредя по площади. Его окликнул, схватил за плечо Михайла Тыртов, нагнулся с коня.
— Алешка, — сказал, и у самого — слезы, и губы трясутся, — Алешка, для бога беги к Тверским воротам, — спросишь, где двор Данилы Меньшикова, конюха. Войдешь, и Даниле кланяйся три раза в землю… Скажи — Михайла, мол, бьет челом… Конь, мол, у него заплошал… Стыдно, мол… Дал бы он мне на день какого ни на есть коня — показаться. Запомнишь? Скажи — я отслужу… За коня мне хоть человека зарезать… Плачь, проси…
— Просить буду, а он откажет? — спросил Алешка.
— В землю по плечи тебя вобью! — Михайла выкатил глаза, раздул ноздри.
Без памяти Алешка кинулся бежать, куда было сказано.
Михайла промерз в седле, не евши весь день… Солнце клонилось в морозную мглу. Синел снег. Звонче скрипели конские копыта. Находили сумерки, и по всей Москве на звонницах и колокольнях начали звонить к вечерне. Мимо проехал шагом Василий Волков, хмуро опустив голову. Алешка все не шел. Он так и не пришел совсем.
6
В низкой, жарко натопленной палате лампады озаряли низкий свод и темную роспись на нем: райских птиц, завитки трав.
Под темными ликами образов, на широкой лавке, уйдя хилым телом в лебяжьи перины, умирал царь Федор Алексеевич.
Ждали этого давно: у царя была цинга и пухли ноги. Сегодня он не мог стоять заутрени, присел на стульчик, да и свалился. Кинулись — едва бьется сердце. Положили под образа. От воды у него ноги раздуло, как бревна, и брюхо стало пухнуть. Вызвали немца-лекаря. Он выпустил воду, и царь затих, — стал тихо отходить. Потемнели глазные впадины, заострился нос. Одно время он что-то шептал, не могли понять — что? Немец нагнулся к его бескровным устам: Федор Алексеевич невнятно, одним дуновением произносил по-латыни вирши. Лекарю почудился в царском шепоте стих Овидия… На смертном одре — Овидия? Несомненно, царь был без памяти…
Сейчас даже его дыхания не было слышно. У заиндевелого окна, где в круглых стеклышках играл лунный свет, — сидел на раскладном итальянском стуле патриарх Иоаким, суровый и восковой, в черной мантии и клобуке с белым восьмиконечным крестом, сидел согбенно и неподвижно, как видение смерти. У стены одиноко стояла царица Марфа Матвеевна, — сквозь туман слез глядела туда, где из груды перин виднелся маленький лобик и вытянувшийся нос умирающего мужа. Царице всего было семнадцать лет, взяли ее во дворец из бедной семьи Апраксиных за красоту. Два только месяца побыла царицей. Темнобровое глупенькое ее личико распухло от слез. Она только всхлипывала по-ребячьи, хрустела пальцами, — голосить боялась.
В другом конце палаты, в сумраке под сводами, шепталась большая царская родня — сестры, тетки, дядья и ближние бояре: Иван Максимович Языков — маленький, в хорошем теле, добрый, сладкий, человек великой ловкости и глубокий проникатель дворцовых обхождений; постный и благостный старец, книжник, первый постельничий — Алексей Тимофеевич Лихачев и князь Василий Васильевич Голицын — писаный красавец: кудрявая бородка с проплешинкой, вздернутые усы, стрижен коротко, — по-польски, в польском кунтуше и в мягких сапожках на крутых каблуках, — князь роста был среднего.
Синие глаза его блестели возбужденно. Час был решительный, — надо сказывать нового царя. Кого? Петра или Ивана? Сына Нарышкиной или сына Милославской? Оба еще несмышленые мальчишки, за обоими сила — в родне. Петр — горяч умом, крепок телесно, Иван — слабоумный, больной, вей из него веревки… Что предпочесть? Кого?
Василий Васильевич становился боком к двустворчатой, обложенной медными бармами дверце, припав ухом, прислушивался, — в соседней тронной палате гудели бояре. С утра, не пивши, не евши, прели в шубах, — Нарышкины с товарищи и Милославские с товарищи. Полна палата: лаются, поминают обиды, чуют, — сегодня кто-то из них поднимется наверх, кто-то полетит в ссылку.
— Гвалт, проше пана, — прошептал Василий Васильевич и, подойдя к Языкову, сказал ему по-польски тихо: — Ты б, Иван Максимович, все ж поспрошал патриарха, — он-то за кого?
Курчавый, сильно заросший русым волосом Языков румяно, сладко улыбнулся, глядя снизу вверх, — от жары запотел, пах розовым маслом:
— И владыка и мы твоего слова ждем, князюшка… А мы-то как будто решили…
Подошел Лихачев, вздохнул, осторожно кладя белую руку на бороду.
— Разбиваться нельзя, Василий Васильевич, в сей великий час. Мы так размыслили: Ивану быть царем трудно, непрочно, — хил. Нам сила нужна.
Василий Васильевич опустил ресницы, усмехался уголком красивых губ. Понял, что спорить сейчас опасно.
— Будь так, — сказал, — быть царем Петру.
Поднял синие глаза, и вдруг они вздрогнули и заволоклись нежно. Он глядел на вошедшую царевну, шестую сестру царя, Софью. Не плавно, лебедем, как подобало бы девице, — она вошла стремительно, распахнулись полы ее пестрого летника, не застегнутого на полной груди, разлетелись красные ленты рогатого венца. Под белилами и румянами на некрасивом лице ее проступали пятна. Царевна были широка в кости, коренастая, крепкая, с большой головой. Выпуклый лоб, зеленоватые глаза, сжатый рот казались не девичьими, — мужскими. Она глядела на Василия Васильевича и, видимо, поняла — о чем он только что говорил и что ответил.
Ноздри ее презрительно задрожали. Она повернулась к постели умирающего, всплеснула руками, стиснула их и опустилась на ковер, прижала лоб к постели. Патриах поднял голову, тусклый взгляд его уставился на затылок Софьи, на ее упавшие косы. Все, кто был в палате, насторожились. Пять царевен начали креститься. Патриарх поднялся и долго глядел на царя. Отмахнул черные рукава и, широко осенив его крестом, начал читать отходную.
Софья схватилась за затылок и закричала пронзительно, дико, — завыла низким голосом. Закричали ее сестры… Царица Марфа Матвеевна упала ничком на лавку. К ней подошел старший брат ее, Федор Матвеевич Апраксин, рослый и тучный, в шубе до пят, — стал гладить царицу по спине. К патриарху подбежал Языков, припал и потянул за руку. Патриарх, Языков, Лихачев и Голицын быстро вышли в тронную палату. Бояре стадом двинулись к ним, размахивая рукавами, выставляя бороды, без стыда выкатывая глаза: «Что, ну что, владыко?..»
— Царь Федор Алексеевич преставился с миром… Бояре, поплачем…
Его не слушали, — теснясь, пихаясь в дверях, бояре спешили к умершему, падали на колени, ударялись лбом о ковер и, приподнявшись, целовали уже сложенные его восковые руки. От духоты начали трещать и гаснуть лампады. Софью увели. Василий Васильевич скрылся. К Языкову подошли: братья князья Голицыны, Петр и Борис Алексеевичи, черный, бровастый, страшный видом князь Яков Долгорукий и братья его Лука, Борис и Григорий. Яков сказал:
— У нас ножи взяты и панцири под платьем… Что ж, кричать Петра?
— Идите на крыльцо, к народу. Туда патриарх выйдет, там и крикнем… А станут кричать Ивана Алексеевича, — бейте воров ножами…
Через час патриарх вышел на Красное крыльцо и, благословив тысячную толпу — стрельцов, детей боярских, служилых людей, купцов, посадских, спросил, — кому из царевичей быть на царстве? Горели костры. За Москвой-рекой садился месяц. Его ледяной свет мерцал на куполах. Из толпы крикнули:
— Хотим Петра Алексеевича…
И еще хриплый голос:
— Хотим царем Ивана…
На голос кинулись люди, и он затих, и громче закричали в толпе: «Петра, Петра!..»
7
На Данилином дворе два цепных кобеля рванулись на Алешку, задохнулись от злобы. Девчонка с болячками на губах, в накинутой на голову шубейке, велела ему идти по обмерзлой лестнице наверх, в горницу, сама хихикнула ни к чему, шмыгнула под крыльцо, в подклеть, где в темноте горели дрова в печи.
Алешка, поднимаясь по лестнице, слушал, как кто-то наверху кричит дурным голосом… «Ну, — подумал он, — живым отсюда не уйти…» Ухватился за обструганную чурочку на веревке, — едва оторвал от косяков забухшую дверь. В нос ударило жаром натопленной избы, редькой, водочным духом. Под образами у накрытого стола сидели двое — поп с косицей, рыжая борода — веником, и низенький, рябой, с вострым носом.
— Вгоняй ему ума в задние ворота! — кричали они, стуча чарками.
Третий, грузный человек, в малиновой рубахе распояской, зажав между колен кого-то, хлестал его ремнем по голому заду. Исполосованный, худощавый зад вихлялся, вывертывался. «Ай-ай, тятька!» — визжал тот, кого пороли. Алешка обмер.
Рябой замигал на Алешку голыми веками. Поп разинул большой рот, крикнул густо:
— Еще чадо, лупи его заодно!
Алешка уперся лаптями, вытянул шею. «Ну, пропал…» Грузный человек обернулся. Из-под ног его, подхватив порточки, выскочил мальчик, с бело-голубыми круглыми глазами. Кинулся в дверь, скрылся. Тогда Алешка, как было приказано, повалился в ноги и три раза стукнулся лбом. Грузный человек поднял его за шиворот, приблизил к своему лицу — медному, потному, обдал жарким перегаром:
— Зачем пришел? Воровать? Подглядывать? По дворам шарить?
Алешка, стуча зубами, стал сказывать про Тыртова. У медного человека надувались жилы, — ничего не понимал… «Какой Тыртов? Какого коня? Так ты за конем пришел? Конокрад?..» Алешка заплакал, забожился, закрестился трехперстно… Тогда медный человек бешено схватил его за волосы, поволок, топча сапогами, вышиб ногою дверь и швырнул Алешку с обледенелой лестницы…
— Выбивай вора со двора, — заорал он, шатаясь, — Шарок, Бровка, взы его…
Нагибаясь в дверях, как бык, Данила Меньшиков вернулся к столу. Сопя, налил чарки. Щепотью захватил редьки.
— Ты, поп, писание читал, ты знать должен, — загудел он, — сын у меня от рук отбился… Заворовался вконец, сучий выкидыш. Убить мне, что ли, его? Как по писанию-то? А?
Поп Филька ответил степенно:
— По писанию будет так: казни сына от юности его, и покоит тя на старость твою. И не ослабляй, бия младенца; аще бо жезлом биеши его, не умрет, но здоровее будет; учащай ему раны — бо душу избавляеши от смерти…
— Аминь, — вздохнул востроносый…
— Погоди, — отдышусь, я его опять позову, — сказал Данила. — Ох, плохо, ребята… Что ни год — то хуже. Дети от рук отбиваются, древнего благочестия нет… Царское жалованье по два года не плочено… Жрать нечего стало… Стрельцы грозятся Москву с четырех концов поджечь… Шатание великое в народе… Скоро все пропадем…
Рябой, востроносый начетчик Фома Подщипаев сказал:
— Никониане[1] древнюю веру сломали, а ею (поднял палец) земля жила… Новой веры нет… Дети в грехе рождаются, — хоть его до смерти бей, что ж из того: в нем души нет… Дети века сего… Никониане. Стадо без пастыря, пища сатаны… Протопоп Аввакум писал: «А ты ли, никониан, покушаешься часть Христову соблазнить и в жертву с собою отцу своему, дьяволу, принести»… Дьяволу! (Опять поднял палец.) И далее: «Кто ты, никониан? Кал еси, вонь еси, пес еси смрадный…»
— Псы! — Данила бухнул по столу.
— Никонианские попы да протопопы в шелковых рясах ходят, от сытости щеки лопаются, псы проклятые! — сказал поп Филька.
Фома Подщипаев, выждав, когда кончат браниться, проговорил опять:
— И о сем сказано у протопопа Аввакума: «Друг мой, Иларион, архиепископ рязанской! Вспомни, как жил Мелхиседек в чаще леса на горе Фаворской. Ел ростки древес и вместо пития росу лизал. Прямой был священник, не искал ренских и романеи, и водок, и вин процеженных, и пива с кардамоном. Друг мой, Иларион, архиепископ рязанской. Видишь ли, как Мелхиседек жил. На вороных в каретах не тешился, ездя. Да еще и был царской породы. А ты кто, попенок?.. В карету садишься, растопыришься, что пузырь на воде, сидя в карете на подушке, расчесав волосы, что девка, да и едешь, выставя рожу, по площади, чтоб черницы-ворухи любили… Ох, ох, бедной… Явно ослепил тебя дьявол… И не видал ты и не знаешь духовного жития»…
Закрыв глаза, поп Филька затряс щеками, засмеялся. Данила еще налил. Выпили.
— Стрельцы уж никонианские книги рвут и прочь мечут, — сказал он. — Дал бы бог — стрельцы за старину встали…
Он обернулся. Залаяли кобели. Заскрипели ступени крыльца. За дверью произнесли Исусову молитву. «Аминь», — ответили трое собеседников. Вошел высокий стрелец Пыжова полка, Овсей Ржов, шурин Данилы. Перекрестился на угол. Отмахнул волосы.
— Пируете! — сказал спокойно. — А какие дела делаются наверху, вы не знаете?.. Царь помер… Нарышкины с Долгорукими Петра крикнули… Вот это беда, какой не ждали… Все в кабалу пойдем к боярам да к никонианам…
8
Турманом скатился Алешка с лестницы в сугроб. Желтозубые кобели кинулись, налетели. Он спрятал голову. Зажмурился… И не разорвали… Вот так чудо, — бог спас! Рыча, кобели отошли. Над Алешкой кто-то присел, потыкал пальцем в голову:
— Эй, ты кто?
Алешка выпростал один глаз. Кобели неподалеку опять зарычали. Около Алешки присел на корточки давешний мальчик, — кого только что пороли.
— Как зовут? — спросил он.
— Алешкой.
— Чей?
— Мы — Бровкины, деревенские.
Мальчик разглядывал Алешку по-собачьему, — то наклонит голову к одному плечу, то к другому. Луна из-за крыши сарая светила ему на большеглазое лицо. Ох, должно быть, бойкий мальчик…
— Пойдем греться, — сказал он. — А не пойдешь, гляди, я тебя… Драться хочешь?
— Не. — Алешка живо прилег. И опять они смотрели друг на друга.
— Пусти, — протянул голосом Алешка, — не надо… Я тебе ничего не сделал… Я пойду…
— А куда пойдешь-то?
— Сам не знаю куда… Меня обещались в землю вбить по плечи… И дома меня убьют.
— Порет тятька-то?
— Тятька меня продал в вечное, ныне не порет. Дворовые, конечно, бьют. А когда дома жил, — конечно, пороли…
— Ты что же — беглый?
— Нет еще… А тебя как зовут?
— Алексашкой… Мы Меньшиковы… Меня тятька когда два раза, а когда три раза на день порет. У меня на заднице одни кости остались, мясо все содранное.
— Эх ты, паря…
— Пойдем, что ли, греться…
— Ладно.
Мальчики побежали в подклеть, где давеча Алешка видел огонь в печи. Тут было тепло, сухо, пахло горячим хлебом, горела сальная свеча в железном витом подсвечнике. На прокопченных бревенчатых стенах шевелились тараканы. Век бы отсюда не ушел.
— Васёнка, тятьке ничего не говори, — скороговоркой сказал Алексашка низенькой бабе-стряпухе. — Разувайся, Алешка. — Он снял валенки. Алешка разулся. Залезли на печь, занимавшую половину подклети. Там в темноте чьи-то глаза смотрели не мигая. Это была давешняя девочка, отворившая Алешке калитку. Она подалась в самую глубь, за трубу.
— Давайте чего-нибудь говорить, — прошептал Алексашка. — У меня мамка померла. Тятька по все дни пьяный, жениться хочет. Мачехи боюсь. Сейчас меня бьют, а тогда душу вытрясут…
— Они вытрясут, — поддакнул Алешка.
Девочка за трубой шмыгнула.
— То-то и я говорю… Намедни у Серпуховских ворот видел, — цыгане стоят табором, с медведями… На дудках играют… Пляс, песни… Они звали. Уйдем с цыганами бродить?.. А?
— С цыганами голодно будет, — сказал Алешка.
— А то наймемся к купцам чего-нибудь делать… А летом уйдем. В лесу можно медвежонка поймать. Я знаю одного посадского, — он их ловит, он научит… Ты будешь медведя водить, а я — петь, плясать… Я все песни знаю. А плясать злее меня нет на Москве.
Девочка за трубой чаще зашмыгала, Алексашка ткнул ее в бок:
— Замолчи, постылая… Вот что, мы ее с собой тоже возьмем, ладно.
— С бабой хлопот много…
— К лету ее возьмем, грибы собирать, — она дура, дура, а до грибов страсть бойкая… Сейчас мы щей похлебаем, меня позовут наверх молитвы читать, потом пороть. Потом я вернусь. Лягем спать. А чуть свет побежим в Китай-город, за Москву-реку сбегаем, обсмотримся. Там есть знакомые. Я бы давно убежал, товарища не находилось…
— Купца бы найти, наняться — пирогами торговать, — сказал Алешка.
На крыльце бухнула дверь, — уходили гости, треща ступенями. Грозный голос Данилы крикнул Алексашку наверх.
9
На Варварке стоит низенькая изба в шесть окон, с коньками и петухами, — кружало — царев кабак. Над воротами — бараний череп. Ворота широко раскрыты, — входи кто хочет. На дворе на желтых от мочи сугробах, на навозе валяются пьяные, — у кого в кровь разбита рожа, у кого сняли сапоги, шапку. Много запряженных розвальней и купецких, с расписными задками, саней стоят у ворот и на дворе.
В избе за прилавком — суровый целовальник с черными бровями. На полке — штофы, оловянные кубки. В углу — лампады перед черными ликами. У стен — лавки, длинный стол. За перегородкой — вторая, чистая палата для купечества. Туда если сунется ярыжка какой-нибудь или пьяный посадский, — окликнет целовальник, надвинув брови, — не послушаешь честью — возьмет сзади за портки и выбьет одним духом из кабака.
Там, во второй палате, — степенный разговор, купечество пьет пиво имбирное, горячий сбитень. Торгуются, вершат сделки, бьют по рукам. Толкуют о делах, — дела ныне такие, что в затылке начешешься.
В передней избе у прилавка — крик, шум, ругань. Пей, гуляй, только плати. Казна строга. Денег нет — снимай шубу. А весь человек пропился, — целовальник мигнет подьячему, тот сядет с краю стола, — за ухом гусиное перо, на шее чернильница, — и пошел строчить. Ох, спохватись, пьяная голова! Настрочит тебе премудрый подьячий кабальную запись. Пришел ты вольный в царев кабак, уйдешь голым холопом.
— Ныне пить легче стало, — говаривает целовальник, цедя зеленое вино в оловянную кружку. — Ныне друг за тобой придет, сродственник или жена прибежит, уведет, покуда душу не пропил. Ныне мы таких отпускаем, за последним не гонимся. Иди с богом. А при покойном государе Алексее Михайловиче, бывало, придет такой-то друг уводить пьяного, чтобы он последний грош не пропил… Стой… Убыток казне… И этот грош казне нужен… Сейчас кричишь караул. Пристава его, кто пить отговаривает, хватают и — в Разбойный приказ. А там, рассудив дело, рубят ему левую руку и правую ногу и бросают на лед… Пейте, соколы, пейте, ничего не бойтесь, ныне руки, ноги не рубим…