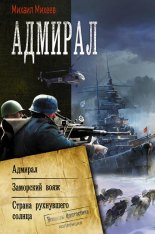Чужой среди своих Панфилов Василий

Врач ушёл, и мне дали наконец выспаться. Периодически я просыпался, ел что-то жидкое, диетическое и абсолютно безвкусное, пахнущее капустой, использовал неудобную металлическую утку. Фиксируя взглядом мать, неизменно сидящую на табурете возле кровати, я странным образом успокаивался и не задавался вопросами.
Ещё в моей реальности существовала пожилая медсестра с ласковыми натруженными руками и окающим говорком, и соседи по палате, ведущие негромкие, довольно-таки бессвязные разговоры обо всём и одновременно ни о чём, да периодически выходящие в коридор, после чего от них пахло табаком.
Состояние у меня такое, что не то что задаваться вопросами, а осуществлять хоть сколько-нибудь сложную мыслительную деятельность я решительно не в состоянии! Врач, кажется, несколько озабочен этим, хотя перед матерью старался не показывать этого.
— … да, в район! — продолжая разговор с матерью, решительно сказал доктор, стремительно входя в палату, — Очень удачная оказия подвернулась…
Мать начала расспрашивать Николая Алексеевича, но разговор их был настолько быстрым и обрывочным, что я решительно ничего не понял. В результате, тем не менее, я снова на носилках, меня куда-то несут, а мать семенит рядом, неудобно изогнувшись, но не отпуская моей руки.
Носилки пронесли по шаткому, прогибающемуся под ногами трапу, несколько минут я провёл на палубе, глядя на бледное серое небо, запорошенное мелкими облаками. Этот убогий вид странным образом успокоил меня, а сырой речной воздух после больничной палаты показался необыкновенно вкусным.
Решив какие-то вопросы, меня занесли в маленькую каюту, изрядно душную и одновременно холодную, с единственным крохотным иллюминатором, на котором виднеются потёки ржавчины. Переложив меня на нижнюю койку и накрыв шерстяным одеялом поверх простыни, мужички удалились, на ходу закуривая и обсуждая стати неизвестной мне Дуськи, которая с одной стороны шлюха, потому как даёт, а с другой — сучка этакая, потому как не им! Вот как с такой быть, а?!
— Вот, сыночка… — виновато улыбнулась мать, заходя следом и неловко садясь в ногах. Киваю еле заметно, потихонечку рассматривая крохотную каюту. Собственно, смотреть в общем-то на что, кроме двух коек, крохотного откидывающегося столика и стула, да нескольких металлических крючков для одежды, здесь ничего больше нет.
Увидев, что я не настроен разговаривать, мать замолкла. Начав было дремать, через несколько минут я чуть не слетел с койки от гудка, звук которого проник, кажется, в кости черепа.
Мать, заметив мою реакцию, поджала губы и вылетела из каюты. Вернувшись через несколько минут очень недовольной и взъерошенной, она уселась на стульчик с поджатыми губами.
Не знаю, сколько времени длилось моё пребывание на судне. Я просыпался, ел, пил, пользовался судном и снова засыпал. За окошком иллюминатора иногда был день, иногда ночь, а иногда — задёрнутая плотная шторка. Да и какая разница…
В каюте почти всегда была мать, да пару раз я видел незнакомого пожилого мужчину, который, кажется, имеет какое-то отношение к медицине. Но я так и не понял — он член экипажа и судовой медик, или может быть, такой же пассажир, но с медицинским образованием, которого попросили присмотреть за мной?
Всё это было неважно и бессмысленно, в моём мире осталась только маленькая каютка, мать на стуле, да изредка — качка, от которой нехорошо кружилась голова и где-то внутри черепа начиналась тошнота.
— Завтра-ак! — послышалось в коридоре, и по коридору загрохотали колёсики тележки, спотыкающейся о многочисленные неровности дощатого пола.
— Да чтоб тебя… — беззубо ругнулся я, окончательно просыпаясь и переворачиваясь на спину, а несколько секунд спустя, заметив утренний привет в виде стояка, на бок.
Полежав так недолго, откинул одеяло и сел на кровати, нашаривая ногами старые тапочки, выданные здешней кастеляншей. Встав на неверных ногах, подтянул сваливающуюся, безразмерную застиранную больничную пижаму с огромным фиолетовым штампом и пошёл в туалет, пока не образовалось очереди.
— Доброе, — буркаю медсестре на посту, не дожидаясь ответа. Да собственно, ответа никогда и не бывает… В лучшем случае вскинет голову, глянет подслеповато через очки и сделает какое-то замечание.
Обойдя санитарку, катящую тележку с едой по коридору, полы которого стоило бы покрасить, дошёл до туалета, навечно пропахшего хлоркой, мочой и ржавчиной, сделал свои дела насколько можно быстро, вымыл руки и обтёр их о куртку пижамы.
Вот тоже… положено, согласно какому-то постановлению, ходить в этом застиранном говне со штампами больнички, и ходи! Даже если есть, во что переодеться, нельзя! Не положено!
— Зато бесплатно, — невесело сообщаю зеркалу, приглаживая волосы.
Чищу зубы, старательно не глядя на собственное отражение. Всё ещё никак не могу привыкнуть, что тот пацан в зеркале, и я — один и тот же человек. Очень боюсь, что в процессе привыкания и осознания меня опять может скрутить приступ эпилепсии.
Не торопясь дошаркал до столовой, то и дело останавливаясь и придерживаясь стенки. Голова уже почти не кружится, но иногда может повести, так что как только чувствую возможные проблемы, сразу останавливаюсь.
Дошёл, изрядно утомившись и вспотев. Народу пока ещё мало, так что, получив на раздаче свою порцию манной каши на воде, варёное яйцо с синим штампом на скорлупе, кусок серого хлеба с шайбочкой масла и эмалированную кружку с уже остывшим чаем, пахнущим старым веником, уселся неподалёку от окна, бездумно глядя на молодые ёлочки во дворе.
Готовят здесь на редкость отвратно, даже местный неприхотливый пролетариат из тех, кто постарше, и прошёл, казалось бы, огни и воды, вечно жалуется на качество «харча». Передачки, при этом, почему-то запрещены, причём не только в инфекционном или желудочно-кишечном отделении, а вообще.
Говорят, это какая-то очередная компания по закручиванию гаек, притом сугубо местная. Но от этого, вот честно, ничуть не легче!
Добросовестно прожевав каждый кусочек пищи по двадцать раз, вернулся в палату.
— Ну чо там, Мишаня? — заправляя койку на солдатский манер, поинтересовался у меня Семён… хм, дядя Семён, надо привыкать…
— Манка, — вздохнул я, — отменно омерзительная! С комочками!
— Да мать их ети! — хрипло ругнулся кто-то из соседей, — Не пойду! Ну его на хер, такой завтрак! Моя на перерыве обещалась с пирожками заскочить, дотерплю!
— Опять как собака жрать будешь? — подкололи его, — Озираясь и глотая куски?
— Да хоть бы и так! Я… — остановившись, он с клокотаньем начал собирать в горле мокроту, открыл окно и харкнул на улицу.
Мужики наконец вышли, оставив меня одного. Растянувшись на койке, я взял из тумбочки книги Казанцева, и, за неимением других развлечений, попытался читать.
— Сегодня рекорд, — пять минут спустя постановил я, отмечая количество прочитанных страниц и вкладывая в книгу пустой конверт в качестве закладки. Казанцев, как обычно, не пошёл, а остальная, доступная мне литература, классом ещё ниже…
Полагаю, есть в советской литературе и достойные вещи, но в районной больнице выбор не богат. Казанцев, Томан, зачитанные до дыр томики Дюма, ну и разумеется — пресса. «Правду» и «Известия» я старательно изучаю, чтобы просто понять местные нравы, но вот получать удовольствие от такого чтения никак не выходит.
— Савелов! — заглянула ко мне медсестра, — Подставляй жопу!
— Ясно-понятно, — покорно отзываюсь я, поворачиваясь на живот и оголяя тощие ягодицы. Шприцы здесь не одноразовые, и иголки бывают очень… хм, поюзанные. Они заметно толще привычных мне, а кончики у некоторых игл загнуты так, что это видно невооружённым глазом.
Оно и так-то ощущение не из приятных, а если медсестра заимеет на тебя зуб, то выражение «Шило в жопе» для отдельного пациента может заиграть новыми красками! Поэтому… претензий у меня много, но качать права не пытаюсь. Советская медицина — самая передовая в мире, и точка!
— Савелов! — в дверном проёме появилось недовольное лицо пожилой санитарки, держащей перед собой собранное в пододеяльник грязное постельное бельё, — Мать к тебе пришла! Иди давай!
— Спасибо, тёть Зин, — благодарю я и вбиваю ноги в тапки, пока санитарка, недовольно бурча о том, что за такие копейки она одна, дура, работает, и что если она уйдёт, вся больница сперва зарастёт в грязи, а потом встанет!
Согласно кивая и стараясь не замечать запаха перегара[6], замаскированного пошлой валерианой, накидываю на плечи старую чужую куртку на ватине, лезущего из многочисленных прорех. Угукнув напоследок, выскакиваю в больничный двор, где меня ожидает мама.
Сырой воздух, вкусно пахнущий молодой листвой и разнотравьем, щекотно холодит коротко остриженную голову. Босые ноги в тапках сразу же слегка зазябли, но после нещадно натопленной больницы это даже приятно. За последние дни ощутимо потеплело, и весна стала почти настоящей!
В больничном дворе броуновское движение больных, санитарок, врачей и всевозможного обслуживающего персонала. Двор не такой уж и маленький, довольно-таки уютный, с достаточным количеством лавочек, прячущихся за высокими, давно нестриженными кустами, раскидистым елями и тощими пихтами.
Дорожки асфальтовые, и хотя положены они кое-как, чуть ли не собственными силами больничного персонала, но и это — прогресс. Цивилизация! Во всяком случае, ими гордятся и это, хм… навевает.
Есть даже маленький фонтан, и говорят, работающий! Правда, включают его только перед приездами всевозможных комиссий и Высокопоставленных Товарищей, притом не всяких.
Сама больница, основой которой служит одноэтажное здание постройки середины тридцатых, выстроена вокруг двора неправильным колодцем, и видно, что архитекторы, если таковые вообще были, заботились скорее об экономии фондов.
— Ну, как ты, сына? — виновато улыбаясь, спросила мама, осторожно гладя меня по голове, — Врачи говорят, на поправку идёшь?
— Да… — всё нормально, — улыбаюсь в ответ, изрядно покривив душой, — Выписывать скоро будут.
— Да, да… — закивала она, — я уже спрашивала! Летом в область ещё надо будет съездить, на обследование. Николай Петрович сказал, что раз ты теперь на учёте, то по особой очереди идёшь, отдельно.
Пройдя по дворику, отыскали свободную лавочку и уселись. Зашуршав пергаментной бумагой, мама достала пирожки с капустой, термос с бульоном и варёную курицу.
— Ты кушай, сыночка, кушай… — она коснулась моей головы и отдёрнула руку, будто боясь чего-то. Киваю согласно и начинаю есть, слушая её рассказы и изредка задавая вопросы.
Все эти бесконечные дяди Валеры, Машки и тёти Веры очень плохо укладываются в моей голове, но какое-то представление о собственной жизни я всё-таки получаю.
— … да ничего, — журчала её речь, — и не с такими болячками люди живут!
Всё это, призванное успокоить меня, скорее раздражает, но виду не показываю. Не хочу расстраивать маму, да и… а смысл?
— Елена Васильевна! — вскочив со скамейки, мама искательно улыбается навстречу медсестре, настойчиво пытаясь вручить пергаментный свёрток, пахнущий съестным, — Вот, угощайтесь! Не побрезгуйте!
— Ну что вы… — фальшиво ответила та, — как можно!
— Да берите, берите… — мать настойчива, — пропадут же! Угощайтесь!
Наконец, как бы нехотя дар был принят, и, погрозив мне зачем-то пальцем, Елена Васильевна удалилась.
— Вот… — облегчённо выдохнула мать, снова усаживаясь рядом со мной.
А я что? Молчу! Я не знаю… не понимаю просто здешних правил игры. За каким чёртом нужно искать расположения простой медсестры, притом даже не моей?! Но мать в таком поведении не одинока, и значит… А чёрт его знает, что это значит! Мало данных…
У меня почти не осталось памяти тела, не считая всякого эмоционального мусора.
Помню прекрасно, где храню папиросы, как едко, нашатырно пахнет немытым старческим телом от пожилой соседки по бараку, мастурбацию на портрет гимнастки из «Советского спорта», и несправедливую двойку, поставленную мне в пятом классе училкой. Наверное, эти вещи хоть как-то облегчат мою жизнь…
Но знаете…
… как-то не хочется жить — вот так! А ведь придётся…
Глава 2
Отрицание-гнев-торг-депрессия-принятие
Стоя у поручня и крепко вцепившись в него, слезящимися на ветру глазами вглядываюсь в приближающиеся чёрные точки на горизонте. Постепенно точки приближаются, и можно рассмотреть весь посёлок, вытянувшийся вдоль огромной северной реки.
Есть несколько кирпичных или бетонных зданий, но преимущественно постройки деревянные, потемневшие от времени и северной погоды. В основном бараки — вытянутые в длину, низкие, приземистые, окружённые многочисленными выводками сараев, покосившихся заборов, поленниц под навесами и без, курятниками и Бог весть, чем ещё.
Дороги как таковой нет, просто некоторые территории сильнее других изуродованы гусеничным транспортом. Зелени в посёлке мало, и вся какая-то чахлая, хотя примерно в километре виднеется тайга.
Пароход, а вернее — самоходная баржа, проходит мимо посёлка, и перед глазами начинают проплывать штабеля брёвен, пирамиды сочащихся соляркой железных бочек, какие-то ящики и чёрт те что, притом немалая часть этого добра гниёт под открытым небом. Несколько минут, и баржа толкается боком в деревянный причал. Старые покрышки несколько амортизируют удар, но в ноги ощутимо толкает.
Сразу, как только закончилось движение судна, навалились запахи порта. Соляра, ржавое железо, машинное масло и смазки, древесины и прочего.
Наш багаж уже на палубе, и экипаж, чертыхаясь и пиная его, помогает выгрузить поклажу на причал, сколоченный из массивных серых досок.
— Осторожно… — в голосе мамы забота и паника.
— Да, конечно… — но мама цепко хватает меня за руку, и, хотя это не назовёшь здравой идеей, по трапу мы сходим вместе. Чем она может помочь в случае чего, не знаю, но видя её лицо, не спорю.
Оказавшись на твёрдой поверхности, я сразу берусь за багаж.
— Да погоди ты! — осаживает меня мама, снова хватая за руку, — Отца подождём! Да и рано тебе тяжести таскать! Помнишь, что врач говорил?
— Ладно, — соглашаюсь с ней, и, отпустив ручку огромного, много повидавшего фанерного чемодана, присаживаюсь на него и начинаю глазеть по сторонам, ощущая себя напрочь чужеродным элементом в этих декорациях.
Ждать пришлось недолго, и не успел я насладиться видами стоящей у причала баржи, перекуривающих трактористов и лохматого, не до конца перелинявшего кобеля, с деловитым видом обновляющего метки в нужных местах, как подъехал УАЗ «Буханка» вполне узнаваемого вида.
Отец, сидевший справа от похмельного вида водителя, выскочил наружу и заулыбался так, что мои губы невольно растянула ответная улыбка.
— Ну вот… — сказал он, подойдя и взяв меня за плечо, и в этой неловкой фразе было столько заботы и любви, что я обнял его, уткнувшись в чуть пыльную куртку, пахнущую ГСМ. После короткой заминки, отец обнял меня в ответ, и, прижав к груди, ткнулся подбородком в макушку.
Через несколько секунд меня отпустило и стало неловко. Завозившись, я высвободился из объятий, и отошёл на пару шагов, смущённо улыбаясь. Что это на меня нашло…
— Ну, вот ты и дома… — сказал отец, ещё раз улыбнувшись мне, и шагнул к жене. Они не целовались и не обнимались, а просто улыбались друг другу, но так, что стало разом неловко и очень хорошо.
— Кругаля дадим, — хрипло сказал небритый до самых глаз шофёр, закусывая золотыми зубами «Беломор», — Эти, из Леспромхоза, опять всю дорогу…
Сплюнув в окно, он выдал шикарный загиб, на котором иной филолог, специализирующийся на обсценной лексике, мог бы построить диссертацию.
Ползли долго, окольными путями и чуть ли не через весь посёлок, переваливаясь через ухабы и заползая в ямы. Пару раз водитель давал заднюю и искал объезд, темпераментно поминая некую общую маму трактористов из Леспромхоза, штурмовщину, встречный и поперечный план, и Ивана Алексеича, который совсем перестал мышей ловить!
— Каждую весну, ети их мать, одно и то же! — хрипло негодует колоритный водитель, весьма эмоционально хлопая по рулю татуированными руками, — Навигация открылась, и понеслась душа в рай! План у них, чертей, премии горят, а…
Высунувшись в окно, он харкнул, окликнул какого-то знакомца и обещался непременно зайти вечерком.
— План, — зло повторил он, засовываясь обратно, — Мудаки чёртовы! Пока на премию себе не наработают, дороги — ну чисто полигон танковый после учений! Ни проехать, ни пройти…
— При Сталине… — ещё раз сплюнул он в окно и обругал какую-то бабку, с решительным видом бросившуюся под колёса, — При Сталине хоть порядок был! В пять минут всяких там…
Но мы всё-таки проехали, хотя, должен сказать, в пути укачало не только меня, но и отца. Однако, насколько я могу судить по косвенным данным и смутным обрывкам здешней памяти, это считается вполне нормальным явлением.
— Ну, вот мы и дома, — сказал он, выгрузившись из машины и подхватывая багаж.
— Угу, — только и сказал я, ещё глубже погружаясь в депрессию. Вот ЗДЕСЬ я живу?! Здесь!?
Вот в этом, вросшем в землю бараке с низкими подслеповатыми окошками с облупившимися рамами, мхом на обшивке из тёса и со ступеньками, ведущими вниз? С туалетом на улице, необходимостью ходить за водой к колонке за полсотни метров, мыться по субботам в единственной в Посёлке бане, а в остальные дни недели, если мне вдруг приспичит такая блажь, в жестяном оцинкованном корыте?
— Мишенька! — расплывшись в приторной улыбке, двинулась ко мне дородная баба с одутловатым лицом и бигудями под застиранным платком, вышедшая из барака, — Выздоровел?
Не давая ответить, она сделал несколько шагов и прижала меня к объёмной груди, обдав запахами пота, несвежей одежды и чем-то кухонным, с преобладанием нотки прогорклого масла.
— Ну как, мальчик мой, — отстранившись, живо поинтересовалась она, — больше припадков не было? Мы здесь за тебя так переживали, так переживали…
«— Обсикался!» — всплыл в памяти торжествующий возглас, а потом появилась и сама физиономия, светящаяся жадным любопытством и каким-то злорадством.
«— Не дождётесь» — выскочил в голове стандартный ответ, но губы вяло произнесли:
— Нет… всё нормально.
— Да? — тётка, бесцеремонно взяв меня за подбородок, посмотрела в глаза, — Это хорошо…
— Ой, Зин… — кинулась к ней мама, — ты не представляешь…
— Мишка? — пожилой мужчина в телогрейке, накинутой на плечи поверх застиранной майки-алкоголички, выходивший из барака с пачкой папирос и спичками, — Вернулся, бродяга!
Он затряс мне руку, железнозубо, но очень искренне улыбаясь.
— Жив, и это главное! — очень убеждённо сказал он, и только сейчас я заметил, что кисть его левой руки загипсована.
— Сам-то как, дядь Вить, — поинтересовался я, глазами показывая на пострадавшую конечность.
— А… — отмахнулся тот, — да что со мной будет! Видишь… вот, в больничку попал, но это всё так, ерунда! Ты это… заходи, как настроение будет! В шахматы перекинемся, ну и вообще…
Оставшаяся память подсказал мне, что с дядей Витей мы играем не только в шахматы, но и в секу, буру, преферанс и покер, а попутно он рассказывает мне разные тюремные байки, учит передёргивать карты и всем тем премудростям, которым можно научиться за без малого десять лет лагерей. При этом он не прививает никакой там «блатной романтики», отменно и очень сочно иллюстрируя лагерную жизнь с изнанки.
— Ну давай, — он хлопнул меня по плечу, — ты с дороги, а я тебя забалтываю… Иди!
Он закурил, сощурившись на солнышко, а я поспешил догнать мать.
Из своей комнаты по-черепашьи высунулась баба Дуня, подслеповато поморгав на меня.
— А-а, Мишаня… ты хлебушка мне купил? — Я к вечеру пироги испеку, — вместе меня отозвалась мать, — и на вашу долю занесу.
Отец помог занести вещи, разобрать их, и, коротко глянув на наручные часы, развёл руками.
— Всё, Люд… пора! Я и так-то со скрипом отпросился, сама знаешь. Сын… вечером наговоримся, хорошо?
Оглянувшись напоследок в дверях, он виновато пожал плечами и убежал.
— Всю жизнь вот, на бегу… — еле слышно пробормотала мать, но мгновение слабины было почти незаметным, и она снова захлопотала, разбирая вещи.
— Постирать как следует, отгладить, отпарить…
— Ты как, — спохватилась она, оборачиваясь ко мне, — кушать хочешь?
— Не-а! Разве что чайку бы!
— Сейчас поставлю! — засуетилась мама, расцветая от возможности позаботиться о кровиночке, — Ты иди, умойся пока!
Память подсказала мне, что умывальник есть на общей кухне и на улице, но из приоткрытой двери кухни доносились не только запахи готовящейся еды, но и разговоры, а становиться объектом чужого любопытства мне не очень хочется.
Заодно и в туалет зайду…
— Мам, а у нас туалетная бумага где?
— Бумага? — рассеянно отозвалась она, — Да вон, в корзинке, нарезанная.
— Здесь только… — начал было я, неловко держа газетные квадратики, но резко замолк, осознав ситуацию.
— Ты что-то сказал, сына? — повернулась ко мне мама.
— Да нет мам, ничего! Сам с собой!
— Новый опыт, — тихонечко бормочу я, сидя в позе орла над пропастью и наминая бумагу, — Вышел, так сказать, из зоны комфорта!
— Я тебе в твой закуток чай поставила, чтоб под ногами не путался! — сообщила мать, попавшаяся навстречу с пустыми вёдрами, — Вернусь, постирушки будут, а потом убирать надо. Грязью всё без меня заросло!
Угукнув, прохожу к себе, подавив желание помочь в уборке. Какая там помощь… видно же, что мама просто спешит снова утвердиться здесь хозяйкой. Есть, есть такое за некоторыми женщинами…
— Однако, — искренне удивляюсь я виду стеклянного стакана в металлическом подстаканнике с символикой НКВД. Увы… в этот раз память не подкинула мне ничего интересного! Может, за этим стоит какая-то история? А может и ничего…
Помимо чая, на столе халва, ломаная на куски шоколадка «Алёнка», пряники и печенье в пачке. Хотя есть не хочется совершенно, ради интереса взял кусок шоколадки, и оказалось, это очень, просто необыкновенно вкусно!
— Хм… то ли рецепторы у молодого тела неизбалованные, то ли и в самом деле невероятно вкусно, — констатировал я, ради интереса пробуя халву, оказавшуюся неплохой, но в общем-то, совершенно обычной.
Закончив с чаем, начал обыскивать свой закуток, пытаясь немного сориентироваться в собственной жизни. Много времени на это не понадобилось, потому как и места — полтора на два с половиной!
Как-то привычно сунув руку под топчан, я быстро обнаружил примитивный тайник, в котором хранятся мои… Да, теперь уже мои главные сокровища — замусоленные до крайности «голые» карты, да вырезки из «Советского спорта» и тому подобных изданий, с гимнастками и пловчихами. Там же «настоящий зоновский нож» с наборной полосатой рукоятью, и уже открыто, на полке над столом — целая коллекция складных, половинка морского бинокля, стеклянные шарики и тому подобная ерунда.
Повертев в глаза карты, я спрятал их обратно, подавив желание брезгливо вытереть руки. В ближайший год, а то и три-четыре, мне придётся вот так…
А воздержание, оно и в подростковые годы мучительно, а уж когда точно помнишь, как это всё происходит… Чую, несладко мне придётся!
Сбросив тапки, я растянулся на узком топчане, закинув руки за голову. Обдумать нужно многое, но как назло, паззл никак не складывается! Контуры уже видны, но очень уж в целом.
Деталей же… ну вот зафиксировал я, что мой отец выше среднего роста, худощавый, явно очень сильный физически человек, и что в его лице есть что-то неуловимо кавказское или татарское… Да ничего это пока не даёт! Ни-че-го!
Даже его переглядка с мамой, что выглядело ах как романтично, по факту ни о чём не говорит. Любят друг друга? Может быть! А может, это просто всполох давно погасших чувств? Или, как вариант, отголоски моей прежней памяти и чувств, и я принимаю желаемое за действительное!
— Ладно, хорош так лежать, — пробормотал я, вставая с топчана, — пора знакомится с новой для меня реальностью… Ма-ам!
— Да, Мишенька? — сразу отозвалась та, прекращая греметь.
— Сегодня какой день недели?
— Среда! Забыл? А… — отдёрнув ширму, она вошла ко мне, вытирая руки о фартук, — ты о школе беспокоишься?
— Ну… — не то чтоб да… до этой минуты я даже не задумывался, что мне, оказывается, нужно ходить в школу… Чёрт!
— Не переживай… — она присела на край топчана, — улыбаясь замучено, — отец в школе договорился, оценки тебе нормальные выставят! Ну так ты и учишься хорошо, потому учителя нам навстречу пошли. Не переживай! А в школу ты в этом году ходить уже не будешь, всё равно несколько дней осталось.
Покивав, посидел в задумчивости, кинул взгляд на часы и засобирался, обувая стоящие у порога кирзовые сапоги и накидывая на плечи куртку из мягкого брезента.
— Я пойду тогда, пройдусь, ладно? — сообщаю маме. Та на миг повернулась, нахмурилась… потом вздохнула и кивнула.
— Только недалеко, хорошо? — попросила она.
— Угум. Да я здесь… так, покручусь.
Пора знакомиться со сверстниками, чёрт бы их побрал… Не то чтобы меня радует необходимость общаться с подростками лет четырнадцати, но собственно, какой у меня выбор?
Выйдя на улицу, постоял недолго, как перед прыжком в холодную воду. Стоящая с подругой у ворот, смутно знакомая девчонка на пару лет младше, кивнула мне, поглядев с какой-то презрительной жалостью. Губы её шевельнулись, и мне, наверное, показалось…
«— Обсикался!»
На задах, за бараками, на вытоптанной и замусоренной проплешине между сараями, уже собралась наша компания, взъерошенными воробьями рассевшаяся на брёвнах. Они о чём-то негромко и лениво переговаривались, не сразу заметив меня.
Сердце (предатель!) вдруг забилось чаще, и вся подростковая гормональная дурь разом обрушилась на меня. Выдохнув, невольно замедляя шаг, пытаясь собрать воедино разбегающиеся, путаные мысли, неуместные взрослому, состоявшемуся мужчине.
— Здорово, — нейтрально сообщаю я, и, выслушивая ответные нестройные приветствия, падаю на гладкое, ошкуренное бревно, отполированное поколениями мальчишеских задниц до лакового состояния. В голову влезла непрошенная картинка, и тело, будто даже без участия разума, запустило руку в расхлябанную щель в стене сарая, вытащив начатую пачку папирос.
Также, без участия разума, я смял папиросный мундштук, дунул и потянулся за спичками в кармане. Сидящий слева парнишка опередил меня, откинув крышку зажигалки, и я прикурил от пляшущего на ветру бензинового огонька.
«— Зиппо, — машинально отмечаю, делая первую затяжку и провожая взглядом зажигалку, — как бы не из первых моделей! Винтажная вещица, не мешало бы выкупить!»
Память тут же подкинула мне, что это чуть ли не единственная вещь, оставшаяся у Лёхи от отца, и горячечная волна стыда (дурные подростковые гормоны!) окатила меня. Сделав мысленную пометку в уме — сказать как-нибудь при случае дружку, что вещица у него раритетная, и чтоб он её поберёг, я слегка успокоился.
Сижу, внешне расслабленный, прищурив глаза как бы от солнца. Жду… сам не знаю, чего, но жду.
Слегка кружится голова — разом от дозы никотина, всосавшегося в кровь впервые после длительного перерыва, и от воспоминаний, проскакивающих перед глазами в рваной раскадровке.
Оказывается, мы здесь часто собираемся, курим, играем в ножички и в карты, да иногда выпиваем по чуть. Жутко полезная информация…
Ванька единственный из собравшихся в школьной форме и с пионерским галстуком. У его ног тяжёлый, заслуженный квадратный портфель — воистину универсальная и неубиваемая вещь, которую можно использовать как ледянку под задницей и орудие возмездия в школьных драках.
Ещё в нём носят учебники с тетрадями, а закончив школу, передают младшим братьям, родственникам или просто соседям.
Школьная форма и галстук режут даже не глаза, а мозг, назойливо и неуместно напоминая мне о времени, в которое я попал, и о сопутствующих времени вещах, вроде обязательной и крайне догматичной, начётнической[7] коммунистической идеологии. Не то чтобы я вовсе чужд идеям социализма, но эта выхолощенная догматичность, под которую топором подгоняется в том числе и экономика, до дрожи пугает меня[8].
В памяти вдруг всплыли детские фотографии отца, и настроение совершенно испортилось. Сейчас я, выходит так, на добрый десяток лет старше его, о чём напоминает даже советская школьная форма устаревшего образца! Ну то есть в эти года она вполне современная, но… а, хватит об этом думать!
Остальные из моих… друзей (?) уже переоделись, но местная поселковая мода, с обязательными сапогами, штанами плотного сукна и брезентовыми куртками-штормовками, делает их похожими на практикантов ПТУ, отлынивающих от занятий. Всё очень… я бы даже сказал, чересчур практично!
Всё так, будто они вот прямо сейчас готовы валить лес, заниматься погрузочно-разгрузочными работами, колоть дрова и…
«— А ведь так оно и есть», — поведал мне новый пласт всплывших на поверхность воспоминаний о жизни в крошечном северном посёлке. Вместо дорог — направления (спасибо Леспромхозу с его гусеничной техникой), вода в колонках, вместо газа — дрова, у большинства огороды, какое-то подсобное хозяйство, так что такая вот практичная поселковая мода — мера вынужденная.
— Как ты? — негромко поинтересовался Ванька, прерывая молчание.
Затягиваюсь и пожимаю плечами, не сразу вылезая из болота депрессивных мыслей.
— Нормально… в целом, — расплывчато отвечаю я, не желая вдаваться в пространные рассуждения. Почему-то кажется, что многословные объяснения будут сейчас ошибкой.
— Угу… — неловко кивает Ванька, принимая моё нежелание говорить о болезни, — А в город выходил?
— Да, пару раз, — и снова молчание.
— Голова не болит? — поинтересовался Лёха, играясь зажигалкой и старательно глядя в сторону. Положено интересоваться здоровьем после того, как человек побывал в больнице, вот он и интересуется. Но хорошо видно, что тема эта какая-то…
… как будто стыдная?
— Уже нет, — нейтрально отвечаю ему и откидываюсь назад, приваливаясь спиной к стене сарая.
— Ну, в армию тебя теперь не возьмут, — сообщает мне Колька, не слишком пытаясь спрятать насмешку под деланным сочувствием, — разве что в стройбат.
— А как там в больничке было? — перебивает его Лёха, — Кормили хоть сносно?
— Отвратно, — я с облегчением подхватываю предложенную тему, — В нашей столовой куда как лучше!
— Ну так она же наша, — выделил голосом Ванька, и все закивали, будто понимая что-то. Хотя…
— Сильно шкуру продырявили уколами? — снова подал голос Лёха, и я вижу, что в этой грубоватости искренняя забота. Просто он не умеет — иначе… да собственно, и не знает, что иначе — можно.
— Порядком, — усмехаюсь я, и для затравки рассказываю пару баек о больнице.
— Ну… хоть вылечили, — констатирует Ваня, пытаясь поставить точку.
— Район, — пожимает плечами Лёха, — эта не наша больничка, где два врача на всё про всё.
С трудом, буквально в последний момент сдерживаюсь от едкого и злого ответа о качестве лечения в районной больнице маленького северного городка. Сказать могу многое… но вот есть ли смысл?! Выговориться?
Я не невропатолог и не травматолог, а ветеринарный врач и фармацевт, но… чёрт! Судить о квалификации медиков я могу вполне уверенно — есть, знаете ли, немало общего.
Быть может, с поправкой на время и место они вполне достойные специалисты, но если это так, то состояние медицины в СССР удручает!
А может, это я говорю с позиции человека, без малого не защитившего кандидатскую и интересовавшегося состоянием дел не только в ветеринарии, но и в медицине вообще? Не исключено…
Во всяком случае, анамнез они собирали небрежно, игнорируя часть моих ответов и записывая какую-то удобную им отсебятину. Да и к обследованию с последующим лечением есть ряд серьёзных претензий.
О назначенных препаратах и говорить не хочется. Ведь точно знаю, что в это время уже выпускают вполне приличные, куда как более подходящие в моём случае. Но вот выпускают ли их в СССР[9], это вопрос…
Да, я пристрастен! Да и как не быть пристрастным, когда речь идёт о собственном здоровье, к которому я отношусь вполне трепетно, а вот лечащий врач в районной больнице — с усталым равнодушием замотанного человека. Пациент жив, идёт на поправку, под себя не ходит и не заговаривается? Слава богу и Партии! Чего больше-то!?
Быть может, в моей пристрастности виноват тот самый комплекс, который имеется у любого человека, хоть как-то причастного к медицине и внезапно заболевшего? Мы всегда знаем лучше…
Но… чёрт! Когда я, тщательно подобрав слова и многократно отрепетировав мысленно возможные ответы, попытался натолкнуть лечащего врача на возможное решение, он сперва отреагировал с усталым равнодушием, а полминуты позже, раздражённый, пообещал поставить меня на учёт психиатра. Вот такая она, лучшая в мире советская медицина…
— Стройбат, это жопа… — с наслаждением протянул Колька, доставая новую папиросу и закуривая.
Вовка, не поднимая головы, хмыкнул молча, с силой затягиваясь, а Лёха заспорил горячо.
— Почему?! Федька Шишков оттарабанил три года, и ничего так! Вкалывать, конечно, вкалывали так, что хребты трещали, по четырнадцать часов, но домой при деньге приехал! Не так, чтобы очень много, но почти тыщу скопил.
Внутренне (а может, и не только) морщусь от такой защиты. За три года каторжного труда скопить почти тысячу рублей? Спасибо, как-то не хочется…
— Ну, в стройбат… и что? — мельком глянув на меня, с деланным равнодушием пожал плечами Ваня, — Армия есть армия! Лучше так, чем…
— Ну да, — подал голос Севка, глядя куда-то в сторону, — Не служил — не мужик!
— В моей семье все служили, — высокомерно заметил Леван, раздувая грудь, — Мужчина должен служить!
Странным образом разговор сбился на тему армейской службы, и пацаны, то и дело залихватски сплёвывая и явно привирая, начали рассказывать байки цвета хаки. Я слушал их, и никак не мог понять — неужели они сами не видят многочисленных противоречий?!