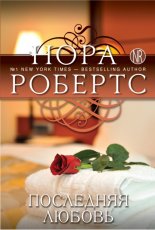Мамалыжный десант Валин Юрий

– Не, не умею, – вздохнул Тимофей. – Но она того… Чуется гармония, как вы говорите. Сильная машина.
– То да, – согласился Торчок. – Так хороша, что даже с гаком. Давеча пытались с нас тент снять, Андрюха чуток не проспал.
– Да я не проспал! Я сразу услышал, только добежать не успел, – запротестовал водитель.
– Отож я говорил: не жри ту прорву слив, брюхо не сдержит, – мрачно напомнил сержант. – А он: «До ветерку, на секунду». Тут только отворотись от хозяйства – сразу лезут.
– Задержали ворье? – счел уместным поинтересоваться Тимофей.
– Та почти, но без юридических тонкостей, – кратко сказал Торчок и сжал здоровенный кулак. Сразу было видно, что и сержант, и его кулаки имеют немалую фронтовую закалку.
Машину поставили впритык, благо имелся капонир, еще старый, весенний. Тимофей достал кусок масксети, обретенный по счастливому стечению обстоятельств и забывчивости саперов, замаскировали «додж». Сходил к часовому связистов: с его поста машина была видна, будет поглядывать. Но понятно, что и самим нужно не зевать.
Особисты перетащили в блиндаж груз. Насколько понял Тимофей, в основном это были ящики с оружием и боеприпасами, хорошо упакованная радиостанция да солидный запас провизии. Но о таких вещах знающий жизнь рядовой Лавренко интересоваться, понятно, не стал.
Уже вечерело. Тимофей собрался на кухню за ужином, но сержант остановил:
– С нами повечеришь, не обеднеем.
У гостей в запасе оказалась специальная печечка, вроде керогаза. Водитель Андрюха показал банку с непонятной красивой надписью:
– Видал? Яйца Рузвельта – яичный порошок!
Таких концентратов Тимофею видеть не приходилось. Ушлые гости бахнули в порошковый омлет целую банку колбасного фарша – пахнуло увлекательно. В запасах хозяина склада из достойного дополнения к ужину нашлась только пара луковиц, но и они оказались кстати.
После великолепного ужина сели перед блиндажом. Тимофей закурил.
– Отож напрасно дымишь – с неодобрением заметил сержант. – Бо молодой, а через год дыхать толком не будешь.
– Я для уюта, – пояснил Тимофей. – А год… Год – это долго.
Рассказывал гостям про плацдарм. Сержант слушал внимательно, вопросы задавал и большой головой качал, а водитель начал клевать носом, и его отослали спать. Остатки прибрежных рощ и дальний берег уже тонули в вечерней дымке. Собеседники доедали сливы.
– Отож ты везучий, – задумчиво сказал Павло Захарович. – Пять месяцев на передовой, а только маленько покоцало.
– Я же теперь тыловик, в атаку не хожу, по фрицам стреляю редко, – заметил Тимофей, сворачивая новую «козью ножку». – Только на складе и отсиживаюсь.
– Та не особо ты домосед. Тебя бойцы знают, разом показали, как до Партизана доехати. Но я не про то думкаю. Просто по итогу у тебя две награды, а присягу не принимал, так? – хмыкнул гость.
– Разве я уклоняюсь? Напоминал – говорят: потом, когда в свою часть вернешься. Нет, если надо, отвечу. У нас тут рядом штрафбат стоит, тоже живут люди, воюют.
– Усе воюют, Тимоха. Не в том дело. – Сержант потер щеку. Он был из тех мужиков, у которых щетина прет, как трава после дождя: вроде только что был бритый, а через час рожа сплошь рашпилем. – Ты как с идейной стороны себя ощущаешь?
– Хорошо ощущаю. Советский я человек. То, что в комсомол не приняли…
– Погодь с комсомолом, я не про то. Ты как к врагу относишься?
– А что враг… Если про румын, так разогнать, поджопников надавать, чтоб сраки поотлетали, заставить вернуть, что натырили, да и пусть живут. А немцев – под корень!
– Усю Германщину?
Вопрос был, понятно, непростой. С особистской подковыркой. Тимофей уже и сам как-то задумывался над этим вопросом. Но сейчас нужно было ответить четко и не особо длинно.
– Армию и эсэсов уничтожим. А фрау и киндеров придется перевоспитывать. Если получится. Мы все же не фашисты, нужно попробовать из них людей сделать. Правда, я натуральных гражданских немцев еще не видел, только фольксдойче. Черт его знает, что там в головах в той Германщине, они же Адольфом напрочь одурманены.
– Отож будет нам проблема, – кивнул Торчок. – Ладно, пора бы и отбой делать, пока тихенько тута.
– Тихо и будет, – заверил Тимофей. – Ждут фрицы и мамалыжники. По всему видать, будет наше наступление.
– Так не особо они тупы. От Карелии до Польши везде мы давим, а тута курорт? Прямо щас, дожидайся!
Сержант ушел спать, слышно было, как двигает бобины: к спанью на них была нужна сноровка. Боец Лавренко сидел в накинутой на плечи телогрейке, смотрел на речные берега и думал о Германии. Наверное, не останется такой страны. Вот как их, таких зверей, на земле оставлять?
Случилось то еще в первый военный год. Сентябрь, теплый, душный и невыносимо сверлящий болью, как воспаленная дыра в зубе. Мама только что умерла, у тетки случился сердечный приступ. Жить мелкому Тимке не особо хотелось, но нужно было кормить тетку и самому кормиться. Ходил работать в сады, урожай случился обильный, совхоз румыны не распустили, просто за сдачу плана теперь перед ними следовало отвечать. Рабочих рук в хозяйстве не хватало.
Вообще-то село Плешка было нормальным: добрые люди здесь имелись, помогали чем могли, вот и с похоронами, и с работой поддержали. Еще не навалилась на народ та мрачность и безнадежность, которую позже так густо принесло.
Тимка таскал на пару с Лукаа Пынзару корзины с виноградом, ставили у дороги, потом корзины телеги забирали. Женщины и девчонки шли по рядам виноградника, срезали тяжелые грозди, перекликались. Рядом раскинулось выгоревшее, но все еще яркое поле подсолнечника, свисали тяжкие, полные семечек головы-круги. Казалось, и войны никакой нет. Но война все же где-то шла, изредка проходили через село румынские обозы, проскакивали немецкие мотоциклетки.
Пынзару был постарше и покрупнее Тимки, корзина вечно норовила скособочиться.
– Ровней держи! Ровней, говорю! – понукал широкоплечий Пынзару. – Э, городской ты совсем хлопец, слабосильный. Глянь, опять германцы катят. Вот же грузовики у них! Силища!
У дороги, где стоял бидон с водой, собрались женщины. Там и остановились серые пыльные грузовики. Тимка с Пынзару тоже подошли поближе.
Имелась у Тимофея отчаянная мысль при удачном случае стащить у какого-нибудь зазевавшегося немца винтовку. Или гранату. Лучше, конечно, винтовку, поскольку с длинными и непонятными германскими гранатами Тимка обращаться не умел.
Немцы с грузовика что-то спрашивали у плешкинских девушек, показывали руками куда-то в сторону виноградника. Работницы улыбались, разводили руками: из собравшихся здесь никто немецкого языка не понимал.
Симпатичная большеглазая девчонка выбрала из корзины две самые красивые грозди винограда, протянула немцам, те засмеялись, свесились через борт. Угу, для вас, гадов, виноград и собирали. Тимке захотелось пнуть ближайшую корзину: пусть с пыли жрут, уроды. Некоторые из баб поспешно шмыгнули к подсолнечнику, начали срезать тяжелые круги.
Особо близко Тимка не подходил: высматривать винтовку удобнее было со стороны. Может, поэтому и осознал с опозданием: в машинах не пехота немецкая сидела – гражданские, вроде как с детьми.
Тимофей подступил чуть ближе… Ну да, евреев немцы нахватали.
Про то, что евреям от немцев нужно тикать и прятаться, в Чемручи и округе отлично знали. Часть еврейского населения успела уйти с Красной армией, кое-кто не успел. Вот и тут, на виноградниках, работали две еврейки, застрявшие с детьми в Плешке. Переоделись в простые широкие платья, на первый взгляд и вообще от бессарабок и гагаузок не особо отличались. Впрочем, Тимка до войны на национальности не обращал никакого внимания: в Харькове тоже все вперемешку жили, в новом заводском подъезде так на каждой площадке по три разных народа, даже не думаешь, кто есть кто.
Но тут все мгновенно сменилось, вот и бабы немцев угощением задабривают – вдруг поотпускают кого из задержанных?
Долговязый немец спрыгнул с машины, целеустремленно раздвинул селянок и поманил стоящую сзади женщину. Та попятилась. Немец укоризненно покачал головой, кратко, как собаке, крикнул. Женщина сжалась, подошла. Длинный солдат взял ее за подбородок, посмотрел в лицо, показал на машину и принялся брезгливо отирать пальцы о штаны. Вот как угадал?! Она же в платке, такая же смугловатая, чернявая, как остальные.
Работницы загомонили с новой силой, протягивали солдатам лиловый крупный виноград, совали подсолнухи. Несколько немцев, спрыгнувших с машины размять ноги, улыбались, кивали. Несчастная еврейка топталась у высокого борта. Старший немец гаркнул, и евреи-пассажиры поспешно потянули руки, помогая женщине взобраться в кузов. Все равно не получалось. Пришлось немцам открывать борт.
Пленники начали говорить, указывать на землю, просясь сходить по надобности. Немец командир раздраженно махнул рукой. Евреи поспешно спрыгивали, бежали к кустам и бурьяну напротив виноградника. Селянки продолжали улыбаться солдатам, принесли гроздья другого сорта. Тимка понимал, что ничего у плешкинских баб не выйдет. У немцев дисциплина, вон с винтовками не расстаются, строго за плечом держат. Довезут они собранных евреев куда приказано, сдадут всех до одного.
Повеселевшие пленники выбирались из кустов, собирались у машин. Немцы не особо торопили: видимо, самим надоело по дороге трястись, а тут угощение, женщины и девушки улыбчивые. Похохатывали, виноград жрали.
Мелкая девчонка с машины, лет пяти, совсем еще несмышленая, подошла к веселым людям, потянулась ручонкой к сочной грозди ягод. Стоящий рядом немец ее ударил – сразу, без крика и предупреждения. Прикладом ударил.
Тимка сначала даже не понял. Голова девочки смялась, словно окованный приклад разбил тонкокожую дыньку. Наверное, и никто из девушек, стоящих рядом с немцем, тоже не понял – просто немыслимо такое понять. Ребенок беззвучно отлетел и упал в пыль, плешкинские девки и бабы шарахнулись в стороны.
Стало тихо. Лишь немец-убийца очищал приклад о траву. Гавкнул старший немец, евреи торопливо полезли в кузов, зафырчали двигатели грузовиков…
Немцы выбросили из кузова едва начатый подсолнух и укатили. А плешкинские работницы и крошечное тело у кювета остались. Никто так и слова не сказал. Не имелось слов у нормальных людей.
Тимофей обогнул замерших девушек и сказал:
– Мешок чистый будет? Или хоть юбку пошире дайте.
Дали. Все в той же жуткой тишине Тимка завернул тельце. Девчонка была махонькая даже для своих лет, полголовы нет, а личико, как и было, чуть удивленное.
– Лука-а, да помоги мальчику! – зашипел кто-то из женщин.
– Так я… не, не могу. Не положено, – пробормотал парень, пятясь. – Ее ж нельзя брать, немцы предупреждали…
– Сам справлюсь, – сказал Тимофей, заворачивая ткань.
Девочка и вправду была совсем легкая, ноги чуть из-под ткани торчали, сандалик расстегнулся. Идти было не особо и далеко, если напрямую через виноградник…
Дорога на плешкинское кладбище была хорошо знакома. Вообще, за последние два месяца тяжелой и безнадежной болезни мамы Тимофей осознал, что смерть не самое тяжкое и мертвых бояться незачем. Но тут такое… просто совсем необъяснимое. Тот немец, он же даже не зверь, а вообще непонятное. Тимка знал, что фашистов нужно убивать. Конечно, и до этого мгновения знал, но теперь это уже не казалось просто знанием. Понимание: тут и выбора нет.
От юбки пахло пылью и зноем, от того, что в свертке, кровью и чем-то сладким – печеньем, что ли? Думать о том было нельзя, но в голову лезло. Да еще о расстегнутом сандалике думалось – определенно ведь свалится.
– Стэй, поправю, – по-русски, хотя и неправильно сказали за спиной.
Тимофей остановился, повернул страшный сверток. Девчонка, что, оказывается, шла следом, присела и принялась застегивать ремешок крошечной сандалии. Девчонка оказалась та самая, большеглазая, что первая немцам виноград совала.
Тимофей понес сверток дальше, меж рядов лозы, мучительно вспоминая, как девчонку зовут. Совсем из головы вылетело. А, Стефэния она, Стефэния Враби.
– Слушай, надо бы лопату достать. Я сразу похороню.
– Тэтка Надья в село побежала. Будэ лопаты.
И точно, были лопаты, и люди пришли, пусть и немного. Даже гроб-ящик успели принести. Все это было не по правилам, но как нужно хоронить евреев в таких случаях, присутствующим было не совсем понятно, а тот, кто знал, на кладбище не пришел. Но Тимка считал, что смерть – она смерть и есть, иной раз просто облегчение для человека.
Копали по очереди: сельский могильщик дядько Димитру, хромой Яков да сам Тимофей Лавренко. И опять все в тишине прошло. Бабы плакали, сидела на корточках Стефэ, тоже слезы лила.
Похоронили безымянную девочку напротив маминой могилы – присмотрит мама. До морозов ходил Тимка поправлять холмики, видел на могилках цветы – часто одинаковые, иногда разные. Тяжко все это было, но позже иной раз думалось: вот так, с ярких цветов на серой земле и началось новое, совсем уж неправильное.
Боец Лавренко загасил о землю окурок. Земля на плацдарме была иная, не кладбищенская. Пускай лежит здесь в братских могилах людей много больше, чем на сельских кладбищах, но это солдаты, а с оружием в руках умирать куда легче. Плацдарм – то место, где можно ногой опереться, надежно утвердиться для рывка наступления. Ответят фрицы. Скоро уже, скоро. По всему чувствуется, да и знающий Павло Захарович на то намекал.
Тимофей поразмышлял о расспросах сержанта. Понятно, дивизионный особист не просто так про удобный блиндаж гостям сказанул. Был там и иной разговор, но непонятно о чем. Кто вообще такой сержант Торчок, чтобы сам старший лейтенант Особого отдела с ним беседы вел? Может, Павло Захарович и не сержант вовсе? В Особом отделе всякое может быть.
Батя еще до войны несколько раз о чекистах говорил, вроде вскользь, но скрытый смысл Тимка много позже понял: уважай, да держись подальше. Отец с контрразведкой – ну, тогда еще просто ЧК – был знаком еще по Гражданской, знал те дела немного изнутри. Но то было уже давно, сейчас война с Гитлером, и многое изменилось. Сейчас не ЧК, и даже не НКВД здесь, на фронте, а военный СМЕРШ.
Но чем простой боец может их интересовать? При всем своем неопределенном подчинении рядовой Лавренко дезертиром не являлся, в бок себе стрелять не пробовал: даже слепому видно, что там осколком полоснуло. Сам Тимофей на склад не напрашивался, портить дурацкий кабель не пытался. Нет, как ни крути, особых грехов в армии не совершал. Значит, до того? Так ведь с румынами и немцами не сотрудничал, жизнь вел не то что похвальную, но уныло-понятную, сапожную. Ну, лишний год себе прибавил, это было. Так что такого? Не убавил же, воевал как мог, две медали – что тут незаконного? А про тот случай никто не знает. Ну, почти никто.
Весной было. Второй полный год войны почти миновал. На фронте дела шли смутно: наши вроде бы взяли Харьков, но не удержали, на Кавказе полыхали жесткие бои, румыны заметно грустнели. А в Плешке была Пасха, в тот год поздняя.
До войны Тимка всякие религиозные пережитки категорически игнорировал. А в военное время оказалось, что церковный календарь имеет некоторое значение. Перед Рождеством или Пасхой обувь в починку несли и несли, хоть вообще без сна работай. Примерно так оно и обстояло, сидел в мастерской с утра до ночи, от «лапы» не разгибался.
Народ шел все больше местный, небогатый, иным просто опончи зашить требовалось, беднота на новые денег не наскребет. Но иной раз заглядывали и клиенты позажиточнее. Иных Тимофей так бы молотком по темени и приголубил, но приходилось терпеть.
– Как сапоги-то? – Пынзару вертел ногу, показывая обнову.
– Хром первого класса, – соглашался Тимофей, скрепя сердце.
Сапоги и правда были неплохи, скорее всего, командирские. Но портил дело грубый шов на задней части голенища. Похоже, стаскивали обувь с ног уже негнущихся, окоченевших, разрезая сзади.
– Что «первого»?! Это же люкс! – Пынзару хлопнул по голенищу. – Наведи-ка, Тимошка, лоску! Да по-европейски, ваксы не жалей!
Пришлось начищать сапоги. О том, что здесь сапожная мастерская, а не чистильная, Тимофей промолчал. За год бывший товарищ по винограду сделал карьеру – поганую, но ох какую высокую. Полиция, да не сельская, а самого города Чемручи. Заматерел Пынзару, харя красная, щекастая, будто сразу дюжину годков прибавил. Даже не уличный полицай, а помощник самого начальника полиции, вроде денщика или ординарца.
– Чисть-чисть, пущай сияють! – погонял Пынзару.
– Сразу толстым слоем класть нельзя, потускнеют. Может, оставишь? Назавтра как зеркало будут, – намекнул Тимофей.
– Оставить? А я босой пойду?! И ты мне еще потыкай, кацапья сопля, – оскорбился клиент и бахнул кулаком по верстаку. – Сейчас делай!
– Так бедновато у нас. Тут ведь для блеска одесская вакса нужна, без нее как? – повел льстивый разговор Тимофей, люто ненавидя мордатого гада.
– Достану и одесскую, привезут мигом, – гордо заверил упырь и согнулся к окну. – О как! Самое то, прямо ко времени. Ладно, Тимошка, некогда мне.
Горделивый полицай выскочил на улицу, а Тимофей в сердцах сплюнул в мусорное ведро. Понятно, ни единой леи гадюка Пынзару не оставил: не полицайское дело за работу платить. Ладно, унесло, туда ему и дорога, чтоб шею свернул, козел жирный.
Тимофей мельком взглянул в окошко мастерской и понял, что надо было иного пожелать вслед такому клиенту. Пынзару тяжелой рысцой догнал проходившую по улице девушку, вальяжно зашагал рядом. Стекло было пыльное, мутное, да молодая прохожая уже и миновала мастерскую. Но не узнать было трудно: не особо Стефэния в рост пошла, но заметно повзрослела.
Изредка видел ее Тимофей на улице, но после того поганого дня и кладбища разговаривать не довелось. Ну, она все ж дочь Враби – человека не только уважаемого, но и солидного. Не то чтобы куркуль, но где-то рядом. Но на саму Стефу даже издали весьма приятно было взглянуть. Вблизи Тимка ее, собственно, и не помнил. Только глаза – огромные, блестящие от слез.
Тимка снял с полки сапоги, требующие срочной набойки, но на душе стало что-то совсем уж скверно. «Самое то, ко времени…» Вот же тварь фашистская… Почему сдернул фартук и схватился за пиджак, Тимофей объяснить не мог. Вроде белый день, люди на улице ходят, а видно, имелось какое-то предчувствие. Может, оттого, что не особо огромным было село Плешка, чуялось, когда дерьмо на улицу выплескивается…
Нашел их Тимка во дворе Гречков. Двор стоял брошенный, хозяева еще первым военным летом сгинули, а сейчас калитка чуть пошире распахнута. Нет, наверное, не по калитке нашел. Мычала Стефа глухо, но отчаянно. Пынзару зажимал девчонке рот, заталкивал в дверь амбара, одновременно задирая полупальто. Очень поспешал хваткий парень, видимо, на срочную полицайскую службу торопился.
Тимофей сзади и ударил гада в голову. От злости и у самого в голове царила неясность, молоток нужно было как следует держать, а не наподобие свинчатки. С Пынзару слетела круглая меховая шапка, он выпустил девчонку, в изумлении обернулся.
– Ты?! Ах ты…
Полицай откинул полупальто, полез в карман брюк, задергал рукой. Тимка успел ударить его дважды, уже держа молоток за рукоятку. Враг только ухал, дергал головой, из рассеченной головы брызгало кровью, а он все рвал шпалер из кармана. Сапожный молоток не самое смертоносное вооружение – легковат, но Тимка успел врезать третий раз и добавить кулаком левой в нос. Это оказалось даже действеннее – Пынзару бухнулся на колени, фыркнул кровью, попытался взвыть, но Тимофей со всей дури приложил его молотком по загривку.
Полицай упал мордой в истоптанную грязь, молча прикрывал левой рукой башку, а правой все выворачивал карман. Бить его по ладони было явно бессмысленно. Тимка подумал, что напрасно не сунул в карман сапожный нож – ткнуть бы треугольное лезвие под подбородок мордатой скотине. Но пришлось бить ногой. Пынзару ухнул, перевернулся на бок, в руке у него был наган, опутанный клоком карманной изнанки. Тимка ударил по лапе с оружием каблуком. Враг упрямо пытался сесть, харя вся в крови, но все булькает матерное. Но тут голова полицая резко клюнула, стукнулась о грудь подбородком…
Юркнувшая в амбар Стефа уже вернулась. Она держала металлический шкворень, неловко, двумя руками замахивалась вновь. Тимофей выхватил шкворень у девчонки, ударил сам, дважды, метя по загривку: несмотря на зажратость, имелось там у полицая слабое место. Под железом похрустывало. Пынзару наконец лег, перестал хрипеть и выпустил наган. Тимка подхватил с грязи револьвер.
– Брось, бо выпалит, услышат! – прошептала Стефэ.
– Если бросать, вот тогда и выпалит, – возразил Тимка.
Друг на друга они боялись смотреть. Вот так, не глядя, и затащили тяжеленное тело в амбар, заложили в углу хламом, Тимофей упрятал ноги в блестящих сапогах в корзину. Потом, пятясь, в две старые лысые метлы заметали следы на дворовой грязи. Выбрались со двора через зады. Тимка хотел помочь девчонке, но она отдернула руку, сама лихо перевалилась через плетень. Эх, боится неловкого убивца.
Но Стефэния Врабу боялась вовсе не руки парня. Боялась, что ее трясти начнет, имелась у девчонки такая нервная привычка. Потом она сидела под плетнем у спуска к реке, дрожала, а Тимофей держал ее за дергающиеся запястья, утешал всякой дурью, шепча, что обойдется, никто не видел, да и вообще забыть нужно. Она кивала, смоляные блестящие пряди падали на лоб из-под платка, и плакала так, словно слез в глазах как воды в той реке, что под весенним бугром разлилась.
Довольно жуткий день выдался накануне той Пасхи, и помнился он только местами. Как слезы утирал, околицей до дому провожал, помнилось. Как в мастерскую возвращался – хоть убей, из памяти вылетело. Потом смутно помнил, как клиенты скандалили: вот прямо срочно верни им их обувку в наилучшем виде. Врал, что за клеем ходил. Как-то умиротворилось.
И вообще все прошло без катастрофических неприятностей, хотя дней пять Тимка почти и не спал: все чудилось, что полицаи или жандармы к двери подходят. Но арестовывать не пришли, наверное, подумали, что Пынзару где-то в Чемручи пропал или по дороге.
А после праздника пришла Стефа, для отводу глаз принесла в починку пару башмаков. Но не за тем пришла.
– Тыма, выкинь пистоль. Бо найдут, повесят тебэ. Христом-богом прошу, выкинь.
– Да что ты волнуешься? Все в надежном месте, в жизни не найдут.
Брехал. Вовсе не был наган в надежном месте, а лежал в ящике под банкой с клеем. Это было глупо, но Тимофей Лавренко ничего не мог с собой поделать – решил: если придут, будет стрелять, поскольку терять все равно нечего. В барабане имелось шесть патронов, правда, само оружие вызывало сомнение: наган был старым, с царским орлом, да и жутко грязнющим – похоже, бравый Пынзару его ни разу и не чистил. Оружие Тимка привел в порядок как смог, молоток тоже отмыл. Но револьвер так и не пригодился, а молоток все время пребывал в деле и неприятных чувств не вызывал. Все тогда правильно сделали, хотя и коряво.
Тело Пынзару нашли только в мае, когда со двора Гречков стало смердеть столь невыносимо, что хоть по улице не ходи. Приехали полицейские из Чемручи, жандармы, делали опознание. На амбаре нашли бумажку с надписью «Собаке собачья смерть» и подписью – «Партизаны». В подписи имелась ошибка, поскольку по-русски Стефэ писала так себе. Но смелости ей было не занимать.
Тимофей окончательно осознал это только осенью, когда Стефа первая его поцеловала. Какие же у нее глаза были бездонные! Вот такие глаза и принято именовать поэтическим словом «очи».
Тимофей встал и прошелся до машины. Ладный грузовичок с иностранным именем отдыхал под сетью. Это верно, нужно отдыхать, пока время есть, а не всякие глупости про очи думать. Даже если кто-то прознает, что рядовой Лавренко причастен к давнишней смерти полицайского помощника, вряд ли по такому делу пришлют целое расследование. Мало ли прислужников сейчас ловят и расстреливают?
Как бы там ни было, Тимофей оккупантам не помогал, а наоборот. Конечно, самодеятельно называться партизанами было хвастовством и зазнайством, но Стефа то сама придумала, не советовалась, не те еще были отношения. Конечно, про гражданку Враби все равно никто никогда не узнает, насчет девчачьего хвастовства это исключительно для себя оправдание.
Тьфу, черт, да что ж опять к тем отношениям мысли сворачивают?! Не в старых делах сейчас суть. В блиндаже спит серьезный сержант, который имеет виды на рядового Лавренко. Но что такого ценного для СМЕРШ имеется в Тимофее? Не особо разведчик, автомобиль водить не умеет, а проводники по плацдарму контрразведчикам вряд ли нужны – скоро наступление. Разве что товарищ Лавренко с местными условиями знаком, по-румынски говорить и читать может. Но это не очень-то великое достоинство, мало ли сейчас солдат с такими умениями, но уже комсомольцев и вообще проверенных, не живших под оккупантами?
Так ничего и не решив, Тимофей доел две последние сливы и принялся чистить зубы. С передовой донеслись очереди, быстро умолкли. Тишь, словно в тылу. Насквозь складская жизнь. Но скоро это, так или иначе, кончится.
Дремал Тимофей коротко, да не очень-то и хотелось. Пробудились гости, Андрюха пошел проверять машину, сержант пристроился на рассветном солнышке скоблить свои мгновенно обрастающие щеки. Хозяин блиндажа крошил лук в скворчащий в сковороде омлет. Интересный продукт этот яичный порошок, ловко придумано.
– Отож решил ты чи нет? – невнятно сказал бреющийся сержант. – Ежели согласен, так я тебя живо прикомандирую, будешь при натуральном деле.
Тимофей помешал штыком омлет. Во как, прямо в лоб вопрошают. И что отвечать?
– Павло Захарович, я же в армии, тут согласия не спрашивают. Но если вопрос этак встал, так уточнить бы хотелось.
– Отож верно, спрашивать не положено, – согласился сержант, подтачивая бритву. – Но у нас тута, как говорится, специфика. Сознательность иной раз важнее умной распределительности с верхов. Що там уточнить желаешь?
– Делать-то что я буду? Какие обязанности, если в самых общих чертах и без военной тайны?
– Отож ответственно подходишь, Тимофей! То и обнадеживает. Обязанности те ж самые: охоронять, наблюдать, нести бдительную службу. Врываться с гранатой в германский штаб и пленять генералов, можэ, тоже понадобится, но не особо регулярно. Солдатская, в общем, служба. Обеспечиваем мы важную работу руководства, прикрываем тылы. Аккуратность потребна и стойкость.
– Понял. Только я, Павло Захарович, того… под немцами жил. Мне близко к командованию никак нельзя.
– Усе мы малость «того». И що теперь, не служить? – пробормотал Торчок, занимаясь своим подбородком. – То не наше дело, Тима. Сочтут возможным – допустят в штат, не сочтут – пойдешь в пехоту. Я тебя только временно прикомандировать могу: сам понимаешь, генеральских погон и полномочий я не имею. Но нам боец нужен, бо понесли внезапные потери в Раздельной при разгрузке техники. Подранило нашего солдата.
– Бомбежка?
– Да кабы бомбежка… Трос сорвало на соседней платформе, его и зацепило. Отож хороший парень, а перелом ноги на ровном месте. Есть, Тима, такие хлопцы – усе при них, а не ладится, хоть тресни. А фортуна на нашей службе – первое дело.
– Да я не особо удачливый, – мрачно признался Тимофей, снимая сковороду с готовым завтраком.
– Отож с какой стороны глянуть. Вот и куховарить умеешь. А у нас те порошковы яйки через раз сгорают. Прямо рок какой-то погибельный и желудку вредный. Как с нашей сержантки та традиция неловко снедать пошла, так… Э, ладно. Так що, добровольно пойдешь? Скучненько не будет, иной раз рискованно ходим.
– Я, товарищ сержант, готов хоть куда, мне кабели до смерти надоели. Только склад-то – вот он, никуда не делся. Бросить не имею права.
– Отож нашел ты каторгу, за ногу приковался! Решим вопрос. Мне все равно в штаб до связи ехать, переговорю.
– Да я уж сам сколько раз ходил. Не слушают. Конечно, если по вашей Особой части… Да и то вряд ли… Сложная материальная категория эти мои провода.
– Ох-ох, и що ты будешь делать?! Ну, сиди тогда до победы, плесенью покрывайся. Эх, Тима, просто не так ты в штаб ходил. Нужно не снизу до верху, а крюком, как в сложных положеньях. С кабелем ничего хитростного, он флотский, потому его тут и не знают, как пристроить, сухопутчики же у вас.
– Почему он морской?! – изумился Тимофей.
– Отож раз написано на катушках, что «фор сеавотер» – «для морской воды», имеем право предположить, что истинно так и состоит по его истинной кабельной жизни.
– А вы разве читать можете, там же не по-нашему…
Боец Лавренко прикусил язык. Павло Захарович, утирая полотенцем красное деревенское лицо, подмигнул.
Комиссия приехала под вечер. В склад КНН провели лампу от аккумулятора автомобиля, шебутной представитель морского флота метался по блиндажу и хватался за голову. Тимофей уж подумал, что за скверную сохранность кабеля определенно отправят в штрафную роту, но оказалось, это моряк от счастья.
Быстро пересчитали, рядовой Лавренко передал весенний акт и подписал ведомость. Моряк выразил благодарность от лица всего ВМФ и пообещал не забыть – после войны выдать отдельную путевку в дом отдыха в Ялте. Тимофею было стыдно: у моряка имелось четыре звездочки на погонах, но что это за звание и как к нему нужно обращаться, вспомнить хоть убей не получалось, на флоте ведь капитаны как-то особо замысловато называются.
Майор из штаба дивизии пожал рядовому Лавренко руку и совершенно неожиданно прикрутил на гимнастерку изумленного Тимофея новенький гвардейский значок. Поставил росчерк в красноармейской книжке, после чего начальство отбыло, оставив старшину и двух бойцов для охраны бесценного склада.
Остался и старший лейтенант-особист. Тоже пожал руку и напутствовал:
– Я говорил тебе, Партизан, что найдутся хозяева. Ну, будь жив-здоров, не позорь мои рекомендации. Глядишь, и встретиться доведется.
Особист переговорил с озабоченным сержантом Торчком и ушел «бдеть и предотвращать».
У Тимофея сложилось впечатление, что внезапная находка склада осчастливила кучу офицеров. Наверное, не только гвардейский знак за проклятые кабели полагается, получат они на грудь что-то существеннее. Ну и ладно, главное, отделался от проводов рядовой Лавренко.
Подошел старшина, заступивший на охрану.
– Слушай, Партизан, а как вообще это «КНН» расшифровывается? Или тоже не знаешь?
– Оно, товарищ старшина, видимо, как зашифровывается, так и расшифровывается, – пробормотал Тимофей, чувствуя, что его судьба как-то в одночасье круто меняется. – Склад был обозначен как «склад кабеля неопределенного назначения».
– Тимка, иди жрать готовь, а то у нас опять ужарится! – позвал Андрюха.
Ужинали совместно. У группы богатого сержанта Торчка имелся приличный запас вместительных банок колбасного фарша, у стрелков были хлеб и кухонная каша. Все это смешали, добавили чуть обжаренного лука, молодого чеснока, заново разогрели. Вышло очень даже съедобно.
Имелись у запасливого товарища Торчка не только консервированные запасы, но и фляжка. Разлили строго по пятьдесят. Тимофей крепкого спиртного не любил, но тут был серьезный повод.
Павло Захарович окропил спиртом знак «Гвардия» на груди нового подчиненного и многозначительно сказал:
– Отож, если правильно зайти на начальство, воинский порядок случается прям со свистом. Отдыхай, Тимка, в последние разы на этих своих проводах, не сегодня так завтра покатим встречать руководство группы.
Поговорили о наступлении. Потом народ пошел спать, а Тимофей чистил керогаз – напрасно новые сослуживцы не ценят столь удобную штуку – и размышлял о переменах в жизни. Наверное, теперь далеко уведет фронтовая дорога.
Спрятав кухонное снаряжение, боец Лавренко прошел ближе к берегу и посмотрел на темное левобережье. Где-то там, километрах в тридцати (это если по прямой), спали Чемручи и Плешка. Можно было бы за день дошагать. Но не положено, да и незачем, сколько уж раз себе повторял.
Спать пришлось недолго. Еще до рассвета пришла машина с капитаном-моряком. Загрузили, пожелали моряку и кабелям счастливого пути.
– Готовимся, бо сегодня кататься придется, – приказал сержант.
Тимофей помогал водителю проверять «додж» – небезынтересное занятие. Солнце уже порядком пригревало, и тут издалека, с юга, донесся единый тяжелый вздох – работала артиллерия, должно быть, тысячи стволов. Бойцы – и здесь, и на дороге, и у блиндажей связистов – замерли. Началось!
– Как по расписанию, – сказал сержант Торчок, глядя на большие трофейные наручные часы. – Ровнехонько восемь. И нас, хоть мы и далеко, эта канонада вполне касаема. Заводи, Андрей!
– Так мы туда?! – Водитель с ужасом и восторгом прислушался к тяжелому чугунному грохоту.
– Вот що опять за вопросы?! – возмутился сержант. – Сколько я тэбе втолковывал: коды нужно, вот тоды тебе и скажут. Не беги поперед паровоза, вон, молчи, как Партизан, да запрягай. Тимоха, очепятывай склад! Пусть он и пустый, но порядок должон быть!
Конечно, сержант Торчок был тот еще хитрец: «должон, коды да тоды», а сам по-английски читает. Но Тимофей понимал, что такая с этого дня служба. Наверное, временная, но лицом в грязь бить нельзя.
Через десять минут «додж» с ревом скатывался к понтонному мосту. Прощай, плацдарм! Почти полгода рядовой Лавренко тут просидел, а настоящее наступление с этого рубежа совсем другие бойцы начнут.
5. Август. На запад и обратно
Ориентиром значился второй поворот от Тунутар. В здешней рощице, видимо, кто-то маскировался перед наступлением, и от подлеска мало что осталось. Но та самая рощица, других поблизости просто нет, поля с остатками кукурузы да виноградник, если ближе к селу.
– Отож странно, должен увидеть, – мрачно молвил сержант Торчок. – Пойду, погляжусь.
Сержант накинул на шею ремень автомата и двинулся к рощице. Бойцы остались около машины.
Андрюха утер пилоткой пыльное лицо и сказал:
– А чего тут-то? В селе он мог бы ждать, в теньке бы постояли.
Тимофей промолчал. Мысль у водителя была правильная, только куцая. Правильно было бы ее продолжить: могли бы в теньке стоять, но раз посреди поля торчим, так имеется тому военная причина. Боец Лавренко не то чтобы назубок знал нравы и привычки СМЕРШ, но пока что конченых дураков в Особых отделах не встречал.