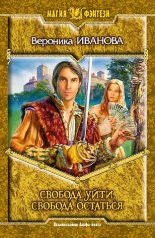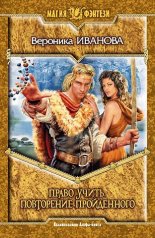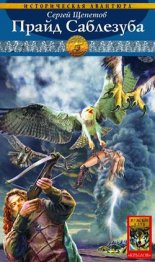Удольфские тайны Рэдклифф Анна

– С какой стати вы разрешили ему беспокоить меня письмами? Молодой человек, никому неизвестный, полнейший незнакомец в этих краях, какой-то авантюрист, искатель приключений!.. Однако в данном случае он промахнулся.
– Его семья была знакома моему отцу, – скромно заметила Эмилия, пропуская мимо ушей последнюю фразу.
– Ах, это вовсе не рекомендация! У покойного были такие сумасбродные мнения о людях. Он всегда судил о них по их физиономиям и вечно ошибался.
– Ведь вы сами же еще недавно заключали о моей виновности по моему лицу.
Эмилия хотела отплатить тетке за неуважительный отзыв об ее отце.
– Так слушайте, для чего я позвала вас, – продолжала тетка, краснея, – я не желаю, чтобы меня беспокоили письмами или визитами молодые люди, которым вы приглянулись. Этот господин де Валантин, так, кажется, вы называли его, имеет дерзость просить, чтобы я позволила ему явиться ко мне в дом. Хорошо же! он получит от меня надлежащий ответ. Что до вас касается, Эмилия, то я повторяю вам раз и навсегда, что, если вам не угодно сообразоваться с моими указаниями и с моим образом жизни, то я откажусь от обязанности наблюдать за вашим поведением, перестану заниматься вашим воспитанием и отправлю вас на жительство в монастырь!
– Милая тетя, – проговорила Эмилия, заливаясь слезами и ошеломленная грубыми подозрениями тетки, – чем же я заслужила эти упреки?
Дальше она не могла произнести ни слова; она так боялась поступить опрометчиво в этой истории, что в эту минуту госпоже Шерон, может быть, даже удалось бы связать ее обещанием отказаться от Валанкура навсегда. Душа ее была измучена страхом и страданиями; она уже не могла смотреть на молодого человека так, как смотрела на него прежде; она боялась не госпожи Шерон, а своего собственного приговора; ей казалось, что в прежних своих беседах с ним в «Долине» она вела себя недостаточно сдержанно. Она знала, что не заслуживает грубых обвинений тетки; но множество щекотливых тонкостей мучили ее, таких тонкостей, которые никогда бы не обеспокоили совесть госпожи Шерон. Все это побуждало ее избегать малейшего случая впасть в ошибку и делало ее склонной подчиняться всем ограничениям, какие тетка сочтет нужным поставить ей; она заявила о готовности слушаться тетку; та не особенно поверила этим намерениям, считая их последствием трусости или притворства.
– Ну, так обещайте мне, – сказала тетка, – что вы не будете встречаться с этим господином и не будете писать ему без моего согласия.
– Милая тетя, неужели вы сомневаетесь в том, что я могу так поступить без вашего ведома?
– Не знаю, что и думать! Как поручиться за молодых девиц – уважение света им нипочем!
– О, тетушка, для меня главное заслужить свое собственное уважение; отец мой учил меня, до какой степени это важно. Он говорил, что если я заслужу собственное уважение, то уважение света придет само собой.
– Мой брат был славный человек, – согласилась мадам Шерон, – но он, бедняжка, совсем не знал света. Вот я так всегда чувствовала к себе надлежащее уважение, а между тем…
Она запнулась, но могла бы прибавить, что свет-то не всегда оказывал ей уважение, и поделом!
– Хорошо! так вы еще не дали мне требуемого обещания!
Эмилия охотно обещала; после этого ей позволили удалиться; она отправилась в сад, пыталась успокоить свои расстроенные чувства и, наконец, пришла в свой любимый павильон, в конце террасы. Там, сев в амбразуре одного из окон, обрамленных зеленью и выходивших на балкон, она, среди тишины и уединения, могла собраться с мыслями и составить себе более ясное представление о том, хорошо ли она поступала в прошлом? Она перебирала в памяти все подробности разговоров своих с Валанкуром; но, к величайшему удовольствию, не отметила ничего такого, что могло бы оскорбить ее щекотливую гордость, и таким образом утвердилась в самоуважении, столь необходимом для ее внутреннего мира. Душа ее успокоилась; опять Валанкур представился ей умным и достойным любви, а госпожа Шерон в совершенно противоположном свете. Воспоминание о возлюбленном принесло с собой немало тягостных волнений: она никак не могла примириться с мыслью о возможности лишиться его навсегда. А так как госпожа Шерон уже показала, как сильно она не одобряет этой привязанности, то Эмилия предвидела впереди много препятствий и страданий. И все же у нее было в глубине души какое-то радостное чувство надежды. Она решила про себя, что ни за что на свете не допустит тайной корреспонденции и что в разговоре с Валанкуром, если они опять встретятся, она будет соблюдать ту же строгую сдержанность, какую проявляла и раньше. «Если мы опять встретимся», – повторила она, и на глазах ее навернулись слезы. Но она быстро осушила их, услыхав приближающиеся шаги. Дверь павильона распахнулась; и обернувшись, Эмилия увидала перед собой… Валанкура! Чувства радости, изумления и страха сразу нахлынули на нее с такой силой, что она едва не лишилась самообладания.
Она побледнела, потом яркая краска опять залила ее щеки; с минуту она была не в силах ни говорить, ни подняться с места. На его чертах, как в зеркале, отражались ее собственные чувства, и это заставило ее овладеть собою. Радость, сиявшая на его лице, вдруг померкла, когда он заметил ее волнение; дрожащим голосом он спросил ее о здоровье. Оправившись от неожиданности, Эмилия отвечала ему с натянутой улыбкой; но множество разнообразных чувств продолжали тесниться в ее сердце. Трудно было сказать, что преобладало: радость ли увидеть Валанкура или страх возбудить гнев тетки, когда она узнает об этой встрече. Сказав с ним несколько слов, она в смущении повела его в сад и спросила, виделся ли он с г-жой Шерон.
– Нет еще, – отвечал он, – я не видел ее, мне сказали, что она занята. Узнав, что вы в саду, я поспешил прийти сюда…
Он остановился смущенный, потом прибавил:
– Могу я осмелиться объяснить вам цель моего прихода, не подвергаясь вашему неудовольствию? Надеюсь, вы не станете укорять меня за то, что я поспешил воспользоваться вашим разрешением, посетить ваших родных?
Эмилия не знала, что отвечать; но ее смущение сменилось страхом, когда она увидала вдали госпожу Шерон, появившуюся из-за поворота аллеи. Когда к ней вернулось сознание ее невинности, этот страх немного рассеялся, и она отчасти успокоилась. Вместо того чтобы избегать тетки, она вместе с Валанкуром смело пошла ей навстречу. Надменный, раздраженный взгляд, брошенный на них госпожой Шерон, заставил Эмилию вздрогнуть; один этот взгляд объяснил ей, что тетушка считает их свидание не случайным, а заранее подстроенным. Назвав тетке фамилию Валанкура, она почувствовала, что слишком волнуется, не в силах оставаться с ними, и вернулась в замок. Там она долго ждала в трепетной тревоге результата беседы. Она не знала, как объяснить приезд Валанкура к ее тетке раньше, чем он получил просимое разрешение, так как ей не было известно одно пустое обстоятельство, изменявшее все. Дело в том, что Валанкур, в расстройстве своих чувств, позабыл пометить письмо своим адресом, так что госпоже Шерон невозможно было послать ему ответ! Вспомнив об этом обстоятельстве, он, может быть, не столько огорчился своим упущением, сколько обрадовался предлогу, позволявшему ему посетить Эмилию ранее, чем ее тетка могла прислать отказ.
Госпожа Шерон имела длинный разговор с Валанкуром; вернувшись в замок, она казалась не в духе, но на лице ее не было того сурового выражения, какого ожидала Эмилия.
– Наконец-то я отделалась от этого молодого человека, – сказала она, – и надеюсь, он меня никогда больше не будет беспокоить подобными посещениями. Он уверял меня, что это свидание не было заранее условлено между вами.
– Неужели, тетушка, вы спрашивали его об этом?
– Разумеется, спросила; еще бы!
– Боже мой! – воскликнула Эмилия, – что он может подумать обо мне, раз вы могли заподозрить меня в таком неприличии!
– Это весьма неважно, какое мнение он будет иметь о вас, – заметила тетка, – потому что я покончила со всей этой историей; но, думаю, он не получит худого мнения обо мне за мое осторожное поведение. Я показала ему, что со мною нельзя шутить, и что я, по своей деликатности, допустить не могу тайной корреспонденции в моем доме.
Много раз Эмилия слышала слово «деликатность» в устах госпожи Шерон; но теперь она более чем когда-либо сомневалась, чтобы тетушка могла проявить свою деликатность в таком деле, где она с начала до конца повела себя до такой степени бестактно.
– Брат поступил очень необдуманно, навязав мне наблюдение за вашей нравственностью, – проговорила Госпожа Шерон. – Я желала бы, чтобы вы повыгоднее пристроились в жизни. Но если меня еще будут беспокоить такие посетители, как этот вот Валанкур, то я, недолго думая, упрячу вас в монастырь: так и помните. Представьте, этот молодой человек имел дерзость признаться мне, что у него состояние очень незначительное и что он находится в зависимости от старшего брата и от выбранной им профессии! Следовало бы, по крайней мере, скрыть эти обстоятельства, если он надеялся получить мое согласие. Неужели он имел дерзость думать, что я выдам замуж свою племянницу за такого бедняка, каким он отрекомендовал себя?
Эмилия осушила слезы, услыхав о чистосердечном признании Валанкура; разоблаченные им обстоятельства, правда, не благоприятствовали ее надеждам – но искренность его поведения доставила ей радость, заслонившую все прочие чувства. Она уже успела убедиться на опыте, несмотря на свою молодость, что здравого смысла и благородной прямоты не всегда достаточно в борьбе с глупостью и узкой хитростью; ее сердце было настолько не испорчено, что в эту трудную минуту она больше гордилась добрыми качествами своего возлюбленного, чем огорчалась торжеством тетки.
Госпожа Шерон продолжала наслаждаться своей победой.
– Он заявил мне, между прочим, что не примет своей отставки ни от кого, кроме как от вас самой. Но я наотрез отказала ему в свидании с вами: пусть знает, что моего неодобрения совершенно достаточно. Кстати, опять-таки повторю вам, что, если вы выдумаете какое-нибудь мне неизвестное средство устраивать свидания с ним, то я попрошу вас оставить мой дом немедленно.
– Как же мало вы меня знаете, тетя, если считаете нужным делать мне подобное внушение? – воскликнула Эмилия, проглатывая обиду, – и как мало вы знали моих дорогих родителей, воспитавших меня!
Вслед за этим мадам Шерон отправилась одеваться на предстоящий званый вечер; Эмилия охотно отказалась бы сопровождать свою тетку, но она боялась, что ее просьба остаться дома опять возбудит нелепые подозрения. Когда она пришла к себе в комнату, та небольшая доля твердости, какая еще поддерживала ее до сих пор, вдруг покинула ее. Она помнила только, что разлучена с Валанкуром, в характере которого с каждым разом открывались все новые прекрасные черты, – и разлучена, быть может, навеки! И она проплакала все то время, которое ей следовало бы посвятить туалету. Оделась она наскоро и, когда появилась к обеду, то глаза ее были красны от слез, за что она получила строгий нагоняй от тетки.
Усилия ее казаться веселой не были тщетны, когда она вместе с теткой приехала на вечер к госпоже Клерваль, пожилой вдове, недавно поселившейся в окрестностях Тулузы в имении своего покойного мужа. Перед тем она много лет прожила в Париже, где вела роскошную жизнь; от природы наделенная веселым характером, она со времени переселения в Тулузу уже дала несколько великолепных празднеств, каких не помнят в околотке.
Эта роскошь возбуждала не только зависть, но и мелочное честолюбие госпожи Шерон. Она не могла соперничать с соседкой по части пышных торжеств, зато, по крайней мере, старалась втереться в число ее близких друзей. С этой целью она оказывала госпоже Клерваль самое раболепное поклонение и с восторгом принимала все ее приглашения. Куда бы она ни пошла, она всюду рассказывала о своей соседке, желая произвести на своих знакомых впечатление, якобы они были между собою на самой короткой ноге.
Сегодня у госпожи Клерваль был бал и костюмированный ужин-бал; приглашенные танцевали группами в обширном великолепном саду. Высокие, старые деревья, под которыми собрались гости, были иллюминированы множеством цветных шкаликов, расположенных с большим вкусом и затейливостью. Пестрые наряды гостей (некоторые из них сидели на траве, беседуя между собой, наблюдая танцы, кушая сласти и изредка прикасаясь к струнам гитары), ловкость кавалеров, очаровательное кокетство дам; легкие грациозные танцы, музыканты с лютнями, гобоями и тамбуринами, расположившиеся под вязом, – все это вместе составляло характерную, живописную картину французского веселья. Эмилия с меланхолическим видом, но не без удовольствия наблюдала эту блестящую сцену; легко себе представить ее волнение, когда она, стоя с теткой и любуясь одной из танцующих групп, вдруг неожиданно увидела Валанкура, – он танцевал с какой-то прелестной молодой дамой и разговаривал с любезностью и фамильярностью, какой она никогда в нем не замечала. Эмилия поспешила отвернуться и пробовала увести госпожу Шерон, которая разговаривала в это время с синьором Кавиньи; Валанкура она не видела, и ей не хотелось, чтобы ее отвлекали от приятной беседы. В эту минуту Эмилия вдруг почувствовала дурноту и головокружение; не имея сил стоять, она опустилась на дерновую скамью под деревьями, где сидело еще несколько гостей. Один из них, заметив ее чрезвычайную бледность, осведомился, не больна ли она, и просил позволения принести ей стакан воды; но она отклонила эту услугу. Боязнь, чтобы Валанкур не заметил ее смущения, побуждала ее преодолеть дурноту. Мадам Шерон продолжала любезничать с синьором Кавиньи; граф Бовилье – тот самый господин, что предлагал свои услуги Эмилии, в разговоре сделал кое-какие замечания насчет окружающего. Эмилия отвечала ему почти бессознательно – мысли ее были всецело заняты Валанкуром; ей было неловко чувствовать себя так близко от него. Но вот какая-то фраза, сказанная графом о танцующих, заставила ее обернуться в сторону Валанкура – в это мгновение глаза их встретились. Краска опять отлила от ее щек; вторично она почувствовала себя дурно и отвернулась; но раньше успела заметить, как изменился в лице Валанкур, увидав ее. Она ушла бы сейчас же, если бы не сознавала, что такой поступок еще более подчеркнет ее волнение. Делать нечего, она старалась поддержать разговор с графом и постепенно привела в порядок свои расстроенные чувства. Но когда ее собеседник заговорил о даме Валанкура, боязнь Эмилии показать, что она интересуется этим предметом, выдала бы ее с головою, если б граф взглянул на нее в эту минуту. Но он наблюдал танцующих.
– Знаете, эта дама, что танцует с молодым шевалье, – сказал он, – считается одной из первых красавиц Тулузы; она чрезвычайно хороша собой, да и приданое за ней будет солидное. Надеюсь, что в выборе спутника жизни ей более посчастливится, чем в выборе кавалера в танцах; смотрите-ка, он сейчас опять спутал фигуру и вообще все время ошибается; удивляюсь, как при его лице и фигуре он еще не навострился в танцах!
Эмилия, сердце которой трепетало при каждом слове графа, старалась отвлечь разговор от Валанкура, спросив фамилию дамы, с которой он танцевал; но прежде, чем граф успел ответить, танец окончился; Эмилия, заметив, что Валанкур направляется к ней, встала и подошла к госпоже Шерон.
– Здесь шевалье де Валанкур, – шепнула она тетке, – пожалуйста, уйдем отсюда.
Тетка тотчас же собралась перейти на другое место, но Валанкур уже успел приблизиться; он отвесил низкий поклон дамам и бросил на Эмилию взгляд, полный сердечной грусти. Эмилия, несмотря на все свои старания, не сумела показать ему полного равнодушия. Присутствие госпожи Шерон не позволяло Валанкуру остаться возле нее, и он отошел с печальным лицом, как бы упрекая ее за то, что она еще более растравляет его грусть. Эмилия была выведена из задумчивости графом Бовилье, знакомым ее тетки.
– Я должен просить у вас прощения, мадемуазель Сент-Обер, за мою невежливость, – поверьте, совершенно неумышленную. Я не знал, что шевалье ваш знакомый, а то я не осмелился бы так бесцеремонно критиковать его танцы.
Эмилия покраснела и улыбнулась; Госпожа Шерон избавила ее от труда отвечать.
– Если вы говорите о господине, только что проходившем мимо, то я могу вас уверить, что он вовсе не наш знакомый – ни я, ни мадемуазель Сент-Обер его совсем не знаем.
– О! это шевалье Валанкур, – небрежно проронил Кавиньи и оглянулся ему вслед.
– Так вы знаете его? – спросила госпожа Шерон.
– Я не знаком с ним.
– В таком случае, – заявила тетушка, – ведь не может быть известно, почему я называю его дерзким: представьте, он имеет смелость восхищаться моей племянницей!
– Если вы называете дерзким всякого, кто восхищается мадемуазель Сент-Обер, – возразил Кавиньи, – то я боюсь, что найдется очень много таких дерзких людей; я сам готов вступить в их ряды.
– О, синьор! – молвила госпожа Шерон с натянутой улыбкой, – я вижу, вы научились говорить комплименты, с тех пор, как приехали во Францию. Но ведь это жестоко делать комплименты девочкам, – они могут принять лесть за правду.
Кавиньи отвернулся на одно мгновение, чтобы скрыть улыбку, потом проговорил с изученной ужимкой:
– Кому же тогда вы прикажете преподносить комплименты, сударыня? – ведь было бы нелепо делать их женщинам опытным и с тонким пониманием: такие женщины выше всяких похвал.
Проговорив эту фразу, он украдкой бросил Эмилии лукавый, смеющийся взгляд. Она прекрасно поняла смысл его и покраснела за тетку. Но та отвечала, как ни в чем не бывало:
– Ваша правда, синьор; никакая разумная женщина не потерпит комплиментов.
– Я слышал от синьора Монтони, – возразил Кавиньи, – что он знает только одну женщину на свете, которая заслуживает комплименты.
– Вот как! – воскликнула госпожа Шерон, с улыбкой невыразимого самодовольства, – кто же эта женщина?
– О, – отвечал Кавиньи, – ее трудно не узнать: кроме нее, наверное нет на свете другой женщины, которая, хотя и заслуживает комплименты, но настолько умна, что отвергает их: большинство дам поступают как раз наоборот.
Он опять взглянул на Эмилию; та еще больше покраснела за тетку и с досадой отвернулась от дерзкого итальянца.
– Прекрасно сказано, синьор! – воскликнула госпожа Шерон, – да вы настоящий француз: право, иностранцы редко бывают так галантны.
– Благодарю вас, сударыня, – молвил Кавиньи с низким поклоном. – Однако галантность моего комплимента пропала бы даром, если б не остроумие, с каким он был истолкован.
Госпожа Шерон не поняла значения этой слишком сатирической фразы, а потому не испытала той обиды, какую почувствовала за нее Эмилия.
– О, вот и синьор Монтони идет сюда, – проговорила тетка, – постойте, я расскажу ему про все любезности, которые вы наговорили мне сегодня.
Однако в эту минуту синьор Монтони повернул в другую аллею.
– Скажите, кем это ваш друг так занят весь вечер? – спросила госпожа Шерон, огорчившись не на шутку. – Я даже не виделась с ним сегодня.
– У него важное свидание с маркизом Ла Ривьер, – объяснил Кавиньи, – и это задержало его до сей минуты, иначе он уже давно бы имел честь представиться вам, сударыня, он даже поручил мне передать вам это. Но, право, не знаю, что со мною делается: разговор с вами так очарователен, что я потерял память и по рассеянности не передал вам извинений моего друга.
– Эти извинения имели бы больше цены, если бы ваш друг представил их сам, – заметила госпожа Шерон, более обиженная небрежностью Монтони, чем польщенная комплиментами Кавиньи.
Ее неудовольствие в эту минуту и последний разговор с Кавиньи возбудили некоторые подозрения у Эмилии, но хотя они подтверждались и другими подробностями, замеченными ею раньше, она все-таки считала свои догадки нелепыми. Ей показалось, что синьор Монтони имеет серьезные намерения относительно ее тетки и что та не только принимает эти ухаживания, но ревниво ставит в строку все признаки невнимания с его стороны. Чтобы госпожа Шерон в ее годы согласилась вторично выйти замуж, казалось ей смешным, хотя, принимая во внимание тщеславие тетки, это было и возможно; но что Монтони с его изящным вкусом, с его наружностью и притязательностью избрал именно госпожу Шерон, – это представлялось Эмилии просто непонятным. Мысли ее, однако, недолго останавливались на этом предмете; ее занимали интересы более ей близкие, ей представлялся то Валанкур, отвергнутый ее теткой, то Валанкур, танцующий на балу с веселой и красивой дамой, и эти мысли поочередно терзали ее сердце. Идя по саду, она робко озиралась, не то боясь, не то мечтая встретить его в толпе; и по разочарованию, испытанному ею, когда она не встретила его, она могла убедиться, что ее надежды были сильнее ее страха.
Монтони вскоре присоединился к компании; он что-то пробормотал о том, что его задержали и выразил сожаление, что не мог раньше подойти к госпоже Шерон; а она, выслушав эти извинения с видом капризной девочки, отвернулась к Кавиньи, лукаво поглядывавшему на Монтони, как будто желая сказать:
– Так и быть, я пожалуй и не воспользуюсь победой над вами. Но только смотрите в оба, синьор! ведь мне недолго и похитить ваше сокровище.
Ужин был сервирован в нескольких павильонах парка, но всего роскошнее в большой зале замка. Госпожа Шерон и ее знакомые ужинали с хозяйкой дома в зале. Эмилия с трудом сдерживала свое волнение, заметив, что Валанкур поместился за одним столом с нею.
Госпожа Шерон, увидав его к своему величайшему неудовольствию, обратилась к соседу с вопросом:
– Скажите, пожалуйста, кто этот молодой человек?
– Это шевалье Валанкур, – отвечали ей.
– Ну, да, его имя мне известно; но кто таков этот Валанкур, что он попал сюда, за этот почетный стол?
В эту минуту внимание ее соседа было отвлечено чем-то другим, и она так и не получила объяснения. Стол, за которым они сидели, был очень длинен, и Валанкур, сидевший со своей дамой почти на самом конце его, не сразу заметил Эмилию. Она избегала смотреть в его сторону; но, когда взор ее случайно останавливался на нем, она видела, что он оживленно разговаривает со своей прекрасной соседкой. Этот факт нимало не способствовал успокоению ее духа; точно так же ей было больно слышать всеобщие отзывы о богатстве и красоте его дамы.
Госпожа Шерон, слушая эти отзывы, усердно старалась очернить Валанкура, на которого сердилась с мелочной злобой узкой, пошлой натуры.
– Я нахожу эту даму очаровательной, – заявила она, – но не одобряю ее за выбор кавалера.
– Отчего же? шевалье Валанкур один из наших самых блестящих молодых людей, – возразила ее соседка по столу, к которой были обращены эти замечания. – Ходят слухи, что мадемуазель д'Эмери и ее приданое непременно достанутся ему.
– Быть не может! – воскликнула госпожа Шерон, краснея от досады, – быть не может, чтобы она была до такой степени лишена вкуса; он так мало похож на светского человека, что, если бы я не увидела его сама за столом госпожи Клерваль, я никогда не поверила бы, что он человек из порядочного общества. Впрочем, я имею особенные причины думать, что эти слухи неверны.
– А я знаю, что они верны, – проговорила соседка, раздосадованная таким резким противоречием ее похвалам Валанкуру.
– Вы, может быть, разуверитесь, – возразила госпожа Шерон, – когда я скажу вам, что не далее как сегодня утром я отвергла его предложение.
Конечно, она сказала это вовсе не с намерением придать своим словам буквальное значение, но просто по привычке всегда выставлять себя на первый план, даже в делах, касающихся ее племянницы, и еще потому, что она действительно сама взяла на себя отказать Валанкуру.
– Ваши доводы в самом деле убедительны и не оставляют сомнений, – отвечала дама с иронической улыбкой.
– Точно так же, как нельзя сомневаться в прекрасном вкусе шевалье Валанкура, – прибавил Кавиньи, стоявший за стулом госпожи Шерон и слышавший, как она присвоила себе то, что принадлежало ее племяннице.
– Ну, насчет вкуса, это еще вопрос, синьор, – заметила госпожа Шерон, которой не понравилась похвала Эмилии, сквозившая, как ей показалось, в словах итальянца.
– Увы! – воскликнул Кавиньи, устремив на госпожу Шерон взгляд, полный притворного восторга, – как тщетны ваши уверения, тогда как это лицо, эта фигура, эта грация – все опровергает их! – Несчастный Валанкур! Его тонкий вкус принес ему погибель.
Эмилия имела смущенный и удивленный вид; дама, соседка госпожи Шерон за столом, тоже казалась изумленной. Госпожа Шерон, хотя и не совсем ясно понимала, в чем дело, но готова была принять эти речи за комплименты самой себе.
– О, синьор, вы очень любезны. – Но, слушая, как вы расхваливаете вкус шевалье Валанкура, можно подумать, что его ухаживания относятся ко мне.
– Помилуйте, в этом нельзя и сомневаться! – проговорил Кавиньи с низким поклоном.
– Но разве это не обидно, синьор?
– Бесспорно так, – согласился Кавиньи.
– Я не могу вынести этой мысли! Что бы сделать, чтобы опровергнуть такое досадное недоразумение? – восклицала госпожа Шерон.
– К сожалению, я ничем не могу помочь вам, – заявил Кавиньи с глубокомысленным видом. – Единственная для вас возможность опровергнуть клевету заключается в том, чтобы настаивать на первом своем заявлении; потому что, когда люди услышат о недостатке вкуса у шевалье Валанкура, никто не подумает, чтобы вы могли быть предметом его ухаживаний. Но, с другой стороны, люди примут во внимание вашу крайнюю скромность – ведь это правда, что вы не сознаете своих собственных совершенств. Изящный вкус Валанкура все-таки будет признан, хотя вы и отрицаете его. Словом, в обществе будут естественно верить тому, что шевалье обладает достаточным вкусом, чтобы восхищаться красивой женщиной.
– Все это очень неприятно! – вздохнула госпожа Шерон.
– Позвольте полюбопытствовать, что такое неприятно? – вмешалась госпожа Клерваль, пораженная печальным выражением ее лица и унылым тоном, которым это было сказано.
– Ах, это очень щекотливая вещь, – отвечала госпожа Шерон, – и очень для меня неловкая.
– Искренне сожалею! – отвечала хозяйка дома. – Надеюсь, здесь сегодня не случилось с вами ничего дурного?
– Увы, да! случилось и не более, как полчаса тому назад. И не знаю, чем это кончится. Никогда еще мое самолюбие не было оскорблено до такой степени. Но уверяю вас, что этот слух лишен всякого основания.
– Боже мой! что же делать! Скажите мне, каким образом я могу помочь вам?
– Единственное, что вы можете сделать – это опровергать этот слух всюду, куда бы вы ни пошли.
– Прекрасно! но объясните же мне, что именно должна я опровергать?
– Это до такой степени обидно, что я даже не знаю, как сказать вам, – продолжала Госпожа Шерон. – Судите сами. Видите вы вон того молодого человека, что сидит там на конце стола? Он разговаривает с мадемуазель Эмери…
– Да, вижу…
– Вы замечаете, как мало он похож на человека высшего общества? Я только что говорила, что не сочла бы его за дворянина, если б не увидала его за вашим столом.
– Ну, так что же? В чем заключается причина вашего негодования?
– А! вы хотите знать причину! – отвечала госпожа Шерон. – Эта личность, никому неизвестная, этот дерзкий молодой человек, имевший нахальство ухаживать за моей племянницей, – распространяет слухи, будто он заявил себя моим поклонником! Подумайте, как оскорбителен для меня такой слух! Я знаю, вы войдете в мое положение. Женщина моего звания! До чего унизителен для меня даже слух о подобном союзе.
– Унизителен, в самом деле, бедный друг мой, – согласилась госпожа Клерваль, – можете быть уверены, я буду везде опровергать этот нелепый слух.
С этими словами она обратилась к другой группе гостей, а Кавиньи, с большой серьезностью наблюдавший всю эту сцену, поспешно отошел прочь, боясь, что не совладает с разбиравшим его смехом.
– Вы, кажется, не знаете, – промолвила дама, соседка госпожи Шерон, – что господин, о которой вы говорили, племянник мадам Клерваль?
– Быть не может! – всполошилась госпожа Шерон, начавшая убеждаться, что она совершенно ошиблась в своем суждении о Валанкуре; поэтому она, недолго думая, принялась расхваливать его с таким усердием, с каким раньше бранила.
Эмилия в продолжение почти всего разговора сидела в глубокой задумчивости и не слышала всей сцены; ее сильно удивило, когда она вдруг услыхала из уст тетки похвалы Валанкуру, о родственных отношениях которого к госпоже Клерваль она не имела понятия. Она была рада, когда госпожа Шерон (сильно сконфуженная, хотя она и старалась не подавать виду) тотчас же после ужина собралась уезжать. Монтони явился усаживать госпожу Шерон в карету; за ними следовали Эмилия и Кавиньи с выражением лукавой важности на лице. Простившись с ними, Эмилия увидала в окно кареты Валанкура, стоявшего в толпе у ворот. Но прежде чем карета отъехала, он исчез. Едучи домой, госпожа Шерон ни разу не произнесла его имени в разговоре с Эмилией. Вернувшись в замок, они тотчас же разошлись по своим спальням.
На другое утро, в то время, как Эмилия сидела за завтраком с теткой, ей подали письмо, на конверте которого была надпись знакомым почерком. Эмилия взяла письмо дрожащей рукой, и тетка в ту же минуту спросила, от кого оно? Эмилия, с ее разрешения, сломала печать и, увидав подпись Валанкура, не читая, отдала письмо тетке, которая нетерпеливо схватила его. Пока она пробегала письмо, Эмилия по выражению ее лица старалась угадать его содержание. Наконец госпожа Шерон вернула его племяннице.
– Прочтите, дитя мое, – проговорила она тоном менее сердитым, чем можно было ожидать.
Разумеется, Эмилия поспешно повиновалась тетке. В письме своем Валанкур, почти не касаясь вчерашнего свидания, заявлял, что он примет отказ не иначе, как лично от самой Эмилии, и просил разрешения явиться сегодня вечером. Читая это, Эмилия удивлялась снисходительности госпожи Шерон; она взглянула на нее, как бы в ожидании, и печально промолвила:
– Что же мне отвечать, тетя?
– Ну, конечно, надо повидаться с молодым человеком и выслушать, что он имеет сказать в свою пользу!
Эмилия не верила ушам своим.
– Постойте, – прибавила тетка, – я сама отвечу ему.
Она потребовала чернил, перо и бумаги. Эмилия все еще не смела доверяться своим впечатлениям и сильно волновалась. Она перестала бы удивляться, если бы слышала вчера вечером про одно обстоятельство, не забытое госпожой Шерон, а именно, что Валанкур приходится племянником госпоже Клерваль.
Каково было в подробностях содержание теткиной записки, Эмилия так и не узнала, но результатом ее было появление Валанкура в тот же вечер. Госпожа Шерон приняла его одна и между ними происходил долгий разговор, прежде чем Эмилию позвали вниз. Когда она вошла в гостиную, тетка спокойно беседовала с Валанкуром. При появлении молодой девушки Валанкур вскочил ей навстречу, и она заметила в глазах его искру надежды.
– Мы все толковали о вашем деле, – начала госпожа Шерон. – Шевалье рассказал мне, что покойный Клерваль был брат графини Дюварней, его матери. Очень жаль, что он раньше не сообщил мне о своем родстве с госпожой Клерваль. Разумеется, я сочла бы это обстоятельство достаточной рекомендацией для допущения его к себе в дом.
Валанкур поклонился и хотел обратиться к Эмилии, но тетка остановила его.
– Поэтому я и согласна, чтобы он посещал вас; и хотя, я не хочу связывать себя никакими обещаниями или объявлять вам, что уже считаю вас своим родственником, однако я разрешаю вам не разрывать отношений с моей племянницей и признаю возможность союза вашего в будущем, в том, конечно, случае, если шевалье получит повышение по службе или произойдет другое какое-нибудь событие, которое даст ему возможность обзавестись женой. Но, прибавлю к сведению господина Валанкура, да и к вашему также, Эмилия, что до тех пор, я положительно запрещаю думать о свадьбе.
Эмилия несколько раз менялась в лице в продолжение этой пошлой речи, а под конец неприятное чувство ее усилилось до такой степени, что она хотела уйти из комнаты. Между тем Валанкур, не менее ее смущенный, не смел взглянуть на нее, чувствуя, что она страдает из-за него. Но когда госпожа Шерон умолкла, он сказал:
– Как ни лестно мне ваше согласие, сударыня, как ни польщен я им, но у меня еще остаются такие опасения, что я почти не смею надеяться.
– Прошу вас, объяснитесь, – сказала госпожа Шерон. Это неожиданное требование снова смутило Валанкура, хотя при других обстоятельствах он только улыбнулся бы.
– Пока я не получу от мадемуазель Сент-Обер разрешение принять ваше согласие, – проговорил он прерывающимся голосом, – пока она сама не дозволит мне надеяться…
– Ах, только-то! – прервала его тетушка. – Ну, так я беру на себя ответить за нее. Но в то же время, сударь, позвольте мне заметить, что я ее опекунша, и во всяком случае, надеюсь, что моя воля для нее закон.
Проговорив все это, она встала и выплыла из комнаты, оставив Эмилию и Валанкура в состоянии полного смущения. Надежды Валанкура наконец преодолели сомнения, и он обратился к Эмилии с жаром и искренностью, столь свойственными ему; но она долго не могла оправиться настолько, чтобы выслушать сознательно его признания и мольбы.
Поведение госпожи Шерон в этом деле объяснялось ее тщеславным эгоизмом. Валанкур в своем первом свидании с полной чистосердечностью изложил ей свои теперешние обстоятельства и свои надежды в будущем, а она с большей осторожностью, чем гуманностью, бесповоротно и резко отказала ему. Она мечтала о том, чтобы ее племянница сделала блестящую партию, не потому, чтобы она действительно желала ей счастья, которое, по мнению света, могут доставить богатство и знатность, а просто потому, что она желала сама участвовать в тех благах, какие должен ей доставить такой союз. И вот, узнав, что Валанкур – племянник такой богатой и именитой особы, как госпожа Клерваль, она вдруг пожелала этого брака, так как перспектива богатства и знатности для Эмилии обещала отразиться и на ней. Ее расчеты относительно состояния были основаны скорее на ее мечтах, а не на каком-либо намеке Валанкура, или признаках вероятия. Строя свои надежды на богатстве госпожи Клерваль, тетка, очевидно, забывала, что у той есть дочь. Валанкур, однако, не позабыл об этом обстоятельстве: он так мало ожидал себе благ со стороны госпожи Клерваль, что даже не упомянул о своем родстве с нею при первом своем разговоре с госпожой Шерон. Каково бы ни было в будущем состояние Эмилии, породниться с госпожой Клерваль могло считаться в глазах тетки неоспоримой честью, так как пышность и роскошный образ жизни этой особы, во всяком случае, возбуждали и всеобщую зависть и старание подражать ей. Таким образом, она не задумалась одобрить помолвку племянницы, имея в виду лишь сомнительный и отдаленный исход и столь же мало соображаясь с ее счастьем, как и тогда, когда она поспешно и необдуманно запретила этот союз.
С этого времени Валанкур стал частым гостем в доме госпожи Шерон, и Эмилия проводила в его обществе первые счастливые часы со времени смерти отца. Оба были слишком поглощены настоящим, чтобы серьезно думать о будущем. Каждый из них любил, чувствовал себя любимым, и они не могли думать, чтобы эта привязанность, составлявшая отраду их в настоящем, могла причинить в будущем долголетние страдания. Между тем госпожа Шерон стала поддерживать еще более частые сношения с госпожой Клерваль, и ее тщеславие было польщено возможностью благовестить всюду, куда бы она ни показывалась, о нежной привязанности, существующей между их племянником и племянницей.
За последнее время Монтони стал также ежедневным гостем в замке, и Эмилия не могла не заметить, что он действительно является в качестве претендента и получает поощрение со стороны ее тетки.
Так прошли зимние месяцы не только спокойно, но и счастливо для Эмилии и Валанкура; полк его стоял неподалеку от Тулузы, и он имел возможность часто посещать замок. Павильон на террасе был любимым местом их свиданий; там мадам Шерон и Эмилия работали над каким-нибудь рукоделием, между тем как Валанкур читал им вслух изящные произведения литературы, слушал восторженные отзывы Эмилии, выражал свои собственные мнения и все более и более убеждался, что их души родственны друг с другом – и что оба полны тем же благородными, великодушными чувствами.
Глава 13
Порою пастушок с Гебридских островов
Далеко забредет в унылую равнину
(Иль прихоть соблазнит его искать уединенья,
Иль заманит его воздушное виденье, какое иногда
Является, как существо живое, обманывая чувства)
И вдруг он видит на вершине обнаженного холма или внизу, в долине,
В ту пору, когда Феб погружает колесницу свою в океан,
Большое сборище людей, которые снуют туда-сюда.
Потом в одно мгновенье волшебное виденье исчезает.
Замок Лености
Госпожа Шерон была от природы очень скупа, но в данном случае ее тщеславие одержало верх. Несколько необыкновенно пышных балов, заданных госпожой Клерваль и всеобщее поклонение, оказываемое этой даме, подзадорили госпожу Шерваль поскорее устроить сватовство, которое должно было увеличить ее в ее собственных глазах и в глазах света. Она предложила ускорить свадьбу племянницы с Валанкуром, обязуясь выдать ей приданое, с условием, чтобы мадам Клерваль со своей стороны наградила племянника. Мадам Клерваль, приняв в соображение, что Эмилия, вероятно, будет наследницей теткиного богатства, дала свое согласие. Между тем Эмилия до последней минуты ничего не знала об этой сделке, пока, наконец тетка не приказала ей готовиться к свадьбе, которая будет отпразднована без дальнейшей проволочки. Удивленная и ничего не понимающая в этом неожиданном решении, состоявшемся даже без участия Валанкура, – он не знал о том, что произошло между обеими тетками и не смел надеяться на такое счастье, – Эмилия решительно воспротивилась поспешной свадьбе. Мадам Шерон, однако, из духа противоречия так же горячо настаивала на немедленной свадьбе, как прежде запрещала всякие сношения с Валанкуром. Подумав, Эмилия решила отбросить свою щепетильность; Валанкур теперь тоже был уведомлен об ожидавшем его счастье и явился к ней молить о согласии.
В то время как шли приготовления к свадьбе Эмилии, Монтони был объявлен женихом госпожи Шерон, и хотя госпожа Клерваль была очень недовольна, узнав о предстоящем браке, и желала бы помешать союзу Валанкура с Эмилией, но совесть подсказывала ей, что она не имеет права играть чувствами молодых людей. Госпожа Клерваль, хотя и светская женщина, не умела, как ее приятельница, довольствоваться поклонением и почетом, но слушалась голоса своей совести.
Эмилия с беспокойством замечала усиливающееся влияние Монтони на госпожу Шерон и его частые посещения. Ее мнение об этом итальянце сходилось с мнением Валанкура, с самого начала невзлюбившего Монтони, Однажды утром она сидела за работой в павильоне, наслаждаясь приятной свежестью весеннего воздуха и любуясь на яркие краски окружающего ландшафта; вместе с тем она слушала Валанкура, который читал вслух, но часто откладывал книгу в сторону и беседовал с Эмилией; вдруг ей пришли сказать, что тетушка просит ее к себе немедленно. Едва успела она войти в уборную, как ей бросилось в глаза расстроенное лицо тетки, представлявшее разительный контраст с ее светлым, веселым нарядом.
– Ну, племянница, – начала госпожа Шерон с видимым смущением, – я нарочно послала за вами… мне надо сообщить вам одну новость: с этих пор вы должны считать синьора Монтони своим дядей, – мы обвенчались сегодня утром…
Удивленная не столько самой свадьбой, сколько таинственностью, с какой она совершилась, и волнением, с каким тетка сообщала эту новость, Эмилия подумала, что, вероятно, это сделалось по желанию Монтони, а отнюдь не самой тетки. Но тетке, очевидно, хотелось представить дело совсем в другом свете, и она прибавила:
– Вот видите ли, я желала избегнуть хлопот и пиров; но теперь церемония окончена, я не намерена больше скрывать своего замужества и прикажу слугам, чтобы они признавали синьора Монтони своим господином.
Эмилия сделала слабую попытку поздравить тетку по случаю ее, очевидно, легкомысленного брака.
– Теперь я намерена отпраздновать свою свадьбу довольно парадно, – продолжала мадам Монтони, – а чтобы не терять времени, я воспользуюсь приготовлениями, уже сделанными для вашей свадьбы, которая, разумеется, будет отложена на некоторое время. Ваше венчальное платье уже готово; я желаю, чтобы вы показались в нем на моем празднике. Прошу вас также сообщить месье Валанкуру, что я переменила фамилию, а уж он уведомит об этом мадам Клерваль. Через несколько дней я даю большой вечер и намерена их также пригласить.
Все это так ошеломило Эмилию, что она почти не отвечала госпоже Монтони, и побежала сообщить новость Валанкуру.
Он, по-видимому, мало удивился, услыхав об этой поспешной свадьбе, но когда узнал, что намерены придраться к случаю, чтобы отложить его собственную свадьбу, и что даже убранство замка, сделанное ради свадебного дня его и дорогой Эмилии, послужит для празднования бракосочетания госпожи Монтони, его взяла досада и негодование. Он не мог скрыть своих чувств от Эмилии; на него не подействовали даже попытки ее рассеять его печальные мысли и заставить посмеяться над этой новой постигшей их невзгодой.
Когда он прощался с Эмилией, его задушевная нежность глубоко тронула ее; она поплакала, глядя ему вслед, хотя сама не могла дать себе отчета – о чем эти слезы.
Монтони, сделавшись мужем госпожи Шерон, овладел замком и забрал в руки всех его обитателей с апломбом человека, уже давно считавшего дом своею собственностью. Другу его Кавиньи, окружавшему госпожу Монтони лестью и угодливостью, которые она так любила, но которые зачастую возмущали самого Монтони, были отведены отдельные апартаменты, и слуги ходили перед ним по струнке, как и перед хозяином.
Через несколько дней госпожа Монтони, согласно своему обещанию, задала великолепный пир; гостей собралось множество; был там и Валанкур. Госпожа Клерваль извинилась и не приехала. Вначале был концерт, потом бал и ужин. Разумеется, Валанкур все время не отходил от Эмилии. Глядя на нарядное убранство комнат, он не мог сдержать своей досады при мысли, что все это было приготовлено для совсем иного празднества. Но он утешался надеждой, что в скором времени дело устроится по его желанию. Весь вечер госпожа Монтони танцевала, болтала, смеялась, между тем как ее супруг, молчаливый, сдержанный, несколько высокомерный, казалось, утомился всем этим шумом и легкомысленным обществом, собравшимся в его доме.
Это было первое и последнее празднество, устроенное в честь их свадьбы. Хотя серьезность характера Монтони и его несколько сумрачная надменность не позволяли ему веселиться на таких празднествах, но он не прочь был появляться в обществе. Ему трудно было бы встретиться в каком бы то ни было кружке с человеком более ловким и более умным, чем он сам; следовательно, в светских сношениях перевес всегда оставался на его стороне, и ему нравилось мериться своими силами и талантами с более слабыми собеседниками и затмевать их. Что касается его супруги, то в тех случаях, когда затрагивались ее ближайшие интересы, она забывала свое тщеславие, и действовала с осторожностью. Убедившись, что другие женщины красивее и изящнее ее, и от природы ревнивая, она стала всячески противиться желанию мужа посещать все светские собрания в Тулузе; очевидно, она боялась для него общества привлекательных женщин.
Прошло лишь несколько недель после свадьбы, как вдруг госпожа Монтони однажды объявила Эмилии, что ее супруг собирается ехать в Италию, как только окончены будут приготовления в дальний путь.
– Сначала мы отправимся в Венецию, где у синьора прекрасный дворец, – заявила она, – а оттуда проедем в его тосканское имение. Но отчего у вас такое унылое лицо, дитя мое? Ведь вы охотница до романтических, красивых видов? Без сомнения, вам понравится наше путешествие.
– Как, и я, тоже поеду с вами? – удивилась Эмилия.
Само собой разумеется; как могли вы предположить, что мы бросим вас здесь одну. Я вижу, вы все думаете о шевалье Валанкуре; он, кажется, еще не уведомлен о нашем отъезде, но он скоро узнает обо всем. Синьор Монтони отправился известить госпожу Клерваль о том, что мы уезжаем, и вместе с тем сказать ей, что о предполагаемом союзе вашем с Валанкуром не может быть и речи.
Равнодушие, с каким госпожа Монтони уведомляла племянницу о том, что она должна расстаться, быть может, навсегда с человеком, с которым ей на днях предстояло соединиться на всю жизнь, усугубляло еще горе Эмилии. Как только она получила способность говорить, она спросила, какая же причина этой неожиданной перемены в чувствах тетки к Валанкуру. Но из слов тетки она ничего не могла понять, кроме того, что синьор Монтони не желает этого союза и находит, что Эмилия может сделать гораздо более блестящую партию.
– Я предоставляю это дело всецело моему мужу, – прибавила мадам Монтони, – но должна сказать, что Валанкур никогда не пользовался моим расположением; меня уговорили, иначе я никогда не дала бы своего согласия на его брак с вами. Я была настолько слаба, – со мной это иногда случается, – что не могла хладнокровно видеть чужого горя, и вот я уступила вам, вопреки рассудку. Но синьор Монтони совершенно ясно доказал мне безрассудство этого брака и в другой раз ему уже не придется укорять меня. Я решила, что вы подчинитесь тем, кто сумеет руководить вами, – я все устрою, что нужно, для вашего счастья.
Может быть, Эмилия в другое время и оценила бы красноречивые доводы тетушки, но в ту минуту она была так поражена неожиданным ударом, обрушившимся на ее голову, что почти не понимала, что ей говорят. Каковы бы ни были слабости госпожи Монтони, она уж никак не могла упрекнуть себя в излишнем сострадании и нежности к другим людям, в особенности же к Эмилии. То же самое тщеславие, что раньше побуждало ее породниться с семейством госпожи Клерваль, теперь, наоборот, заставляло ее расторгнуть эту помолвку: ее собственный брак с Монтони удовлетворял ее честолюбие, и она задалась целью сыскать более выгодную партию для племянницы.
В ту минуту Эмилия была слишком удручена, чтобы возражать тетке или просить ее о чем-нибудь; она, было заикнулась, чтобы высказать свои мысли, но от волнения не могла говорить и удалилась в свою комнату поразмыслить на досуге о неожиданном, поразительном для нее событии. Даже в тиши уединения она долго не могла оправиться и собраться с духом; когда она немного успокоилась, ее мысли все-таки были самого мрачного, безотрадного свойства. Она ясно понимала, что Монтони хочет показать свою власть, распоряжаясь ее судьбой; ей даже пришло в голову, уж не старается ли он в пользу своего приятеля, Кавиньи. Перспектива ехать в Италию казалась ей еще непригляднее ввиду тревожного состояния страны, терзаемой в то время междоусобной смутой. Каждое из мелких государств находилось во вражде со своими соседями, и даже каждый частный замок подвергался опасности нападения. Она с ужасом помышляла о том, кому была поручена опека над ней, размышляла о расстоянии, которое будет отделять ее от Валанкура! При воспоминании о возлюбленном, все прочее поблекло, и все ее мысли опять затуманились безысходным горем.
В таком состоянии смятения и расстройства она пробыла несколько часов; когда ее позвали к обеду, она попросила позволения остаться в своей комнате. Но госпожа Монтони была одна, и просьба молодой девушки не была уважена. Эмилия и ее тетка мало разговаривали за обедом – одна была всецело поглощена своим горем, другая расстроена неожиданным отсутствием Монтони. Не только ее самолюбие страдало от такого недостатка внимательности к ней, но и ревность ее была встревожена: она подозревала, что ее супруг отправился на какое-то таинственное свидание.
Когда прислуга удалилась и обе женщины остались одни, Эмилия завела речь о Валанкуре, но тетка, не смягчаясь жалостью к ней и не чувствуя никаких угрызений совести, даже рассердилась, что смеют сопротивляться ее воле и не признавать авторитета Монтони, хотя Эмилия все время говорила с обычной своей кротостью. Наконец, после долгого, бесцельного разговора Эмилия ушла вся в слезах.
Проходя по сеням, она увидала, что кто-то вошел в ворота; ей показалось, что это Монтони, и она ускорила шага, но вдруг услышала позади знакомый голос Валанкура.
– Эмилия! Эмилия! – окликнул он ее взволнованным голосом.
Она обернулась и, взглянув на него, была поражена его изменившимся лицом.
– Вы плачете, Эмилия! мне необходимо говорить с вами. Как много я должен сказать вам! Пойдемте куда-нибудь, где мы могли бы побеседовать без стеснения. Но вы дрожите, вы больны! Вы едва стоите на ногах…
Увидев открытую дверь какой-то комнаты, он поспешно схватил Эмилию за руку и повел ее туда; но она пыталась выдернуть руку и проговорила с томной улыбкой.
– Мне уже лучше; если хотите видеть тетю, то она в столовой.
– Я хочу говорить с вами, Эмилия, – отвечал Валанкур. – Боже мой, неужели уже до этого дошло? Неужели вы соглашаетесь отвергнуть меня? Выслушайте меня внимательно всего несколько минут!..
– После того, как вы повидаетесь с тетей! – сказала Эмилия.
– Придя сюда, я и так уже был несчастен, – воскликнул Валанкур, – не растравляйте же моего горя этой холодностью, этим жестоким отказом!
Отчаяние, звучавшее в его голосе, тронуло сердце Эмилии; но она все-таки не соглашалась выслушать его раньше, чем он повидается с госпожой Монтони.
– Где же ее муж? Где же сам Монтони? – спросил Валанкур изменившимся голосом, – вот с кем мне необходимо переговорить!
Эмилия, испуганная гневом, сверкавшим в его глазах, со страхом уверяла его, что Монтони нет дома, и просила молодого человека успокоиться.
Один звук ее голоса мгновенно смягчил его раздражение.
– Вы больны, Эмилия, – проговорил он нежно, – ах, эти люди погубят нас обоих!
Эмилия уже не противилась, когда он повел ее в соседнюю приемную. Тон, которым он произнес имя Монтони, так испугал ее за него самого, что в эту минуту ей, прежде всего, хотелось как-нибудь успокоить его справедливый гнев. Валанкур выслушал ее доводы и просьбы и отвечал на них взглядами, полными отчаяния и нежности, скрывая, насколько мог, свои чувства к Монтони, чтобы не встревожить ее еще более. Но она заметила, что это притворство. Его напускное спокойствие беспокоило ее еще более и она, наконец, высказалась, что считает неполитичным требовать свидания с Монтони, так как это может сделать их разлуку окончательной. Валанкур уступил этим убеждениям: своими трогательными просьбами ей удалось исторгнуть у него обещание, что хотя бы Монтони и настаивал на своем намерении разлучить их, однако он, Валанкур, не будет стараться отплатить ему каким-нибудь насилием.
– Ради меня, – проговорила Эмилия, – откажитесь от мести, подумайте, как сильно это заставит меня страдать!
– Ради вас, Эмилия, – отвечал Валанкур, – я сдержу себя, – при этом глаза его наполнились слезами горя и нежности. – Но хотя я даю вам торжественное обещание исполнить ваше желание, однако не ожидайте, чтобы я покорно подчинился этому Монтони: если б я подчинился, я был бы недостоин вас. О, Эмилия, неужели он надолго разлучит меня с вами? Скоро ли вы вернетесь во Францию?
Эмилия пробовала успокоить его уверениями в своей неизменной привязанности; она говорила ему, что через год освободится от опеки тетки, достигнув совершеннолетия, но все эти доводы принесли мало утешения Валанкуру; он знал, что Эмилия и тогда будет находиться в Италии и что власть ее опекунов не прекратится, даже когда они утратят над нею законные права; но он сделал вид, что утешен ее уверениями. Эмилия, успокоенная исторгнутым обещанием и кажущимся самообладанием Валанкура, уже встала, чтобы уйти, как вдруг в комнату вошла ее тетка. Она бросила строгий, укоризненный взгляд на Эмилию, которая тотчас же вышла из комнаты, и с неудовольствием покосилась на Валанкура.
– Не ожидала я от вас такого поступка, – начала она, – и не рассчитывала видеть вас в своем доме, после того как вас известили, что посещения ваши нежелательны; еще менее думала я, что вы будете искать тайного свидания с моей племянницей и что она согласится видеться с вами без моего ведома.
Валанкур, чтобы оправдать Эмилию от такого обвинения, объяснил, что он пришел исключительно с целью видеться с Монтони. Затем он заговорил о своем деле сдержанно и почтительно, считая такой тон обязательным в разговоре со всякой женщиной, даже и такой, как госпожа Монтони.
Но его объяснения были встречены резким отпором: госпожа Монтони опять стала выражать сожаления, что слишком поддалась чувству сострадания; теперь она сознает безумие своего первоначального решения и во избежание повторения подобной ошибки поручила это дело всецело своему мужу, синьору Монтони.
Однако трогательное красноречие Валанкура до известной степени открыло ей недостойность ее поведения. Она почувствовала стыд, но не угрызения совести. Она сердилась на Валанкура, пробудившего в ней это тягостное ощущение, и по мере того, как росло ее недовольство собой, росла и ненависть к нему. Наконец она до того обозлилась, что Валанкур принужден был удалиться, чтобы не поддаться соблазну наговорить ей резкостей. Он окончательно убедился, что от госпожи Монтони ему не на что рассчитывать: можно ли ожидать жалости или хотя бы простой справедливости от человека, который, сознавая свою вину, не чувствует смиренного раскаяния?
От Монтони он также не ожидал ничего хорошего. Раз известно, что план разлучить влюбленных задуман им, то нельзя было рассчитывать, что он уступит просьбам и доводам, которые, наверное, предвидел раньше. Однако, помня обещание, данное Эмилии, Валанкур остерегался пуститься на какую-либо резкость, чтобы напрасно не раздражать Монтони. Поэтому он написал ему письмо, в котором убедительно просил, а не требовал свидания с ним. Сделав это, он решился спокойно ждать ответа.
Госпожа Клерваль играла пассивную роль во всей этой истории. Дав свое одобрение на брак Валанкура, она была уверена, что Эмилия будет наследницей состояния своей тетки. После свадьбы госпожи Монтони она убедилась в тщетности своих надежд, но совесть не позволяла ей принять какие-либо меры, чтобы порвать этот союз. С другой стороны, в ней было слишком мало сердечной доброты и энергии, чтобы содействовать этому браку. Напротив, она была втайне довольна, что Валанкур избавился от помолвки, которую она считала недостойной его, в смысле состояния; точно также и Монтони считал этот брак недостойным такой красивой девушки, как Эмилия. Хотя гордость госпожи Клерваль была задета отказом, которому подвергся один из членов ее фамилии, но она не удостаивала выражать свое неудовольствие и молчала.
Монтони в своем ответном письме заявлял Валанкуру, что их свидание ни к чему не поведет: так как ни та, ни другая сторона не намерены уступать, то оно может вызвать между ними только лишние пререкания. В силу этих соображений он отказывается видеться с Валанкуром.
Не теряя из виду советов Эмилии и данного ей обещания, Валанкур с трудом удержался, чтобы не пойти немедленно к Монтони и не потребовать того, в чем ему было отказано после его мягкой просьбы. Он написал второе письмо, повторял в нем свою просьбу, подкрепляя ее всеми аргументами, какие только мог придумать. Так прошло несколько дней в мольбах с одной стороны и в неумолимом сопротивлении с другой. Был ли это страх, или стыд, или ненависть, но Монтони упорно избегал человека, глубоко оскорбленного им. Он твердо стоял на своем отказе, не смягчался под влиянием горя, которым дышали письма Валанкура, и нимало не раскаивался в своей несправедливости. Наконец дошло до того, что письма Валанкура отсылались обратно нераспечатанными. Тогда, в первые минуты страстного отчаяния, молодой человек позабыл все обещания, данные Эмилии, кроме клятвы – избегать всякого насилия, – и сам отправился в замок к Монтони с твердым намерением увидеться с ним во что бы то ни стало. Монтони не принял его Валанкур спросил госпожу Монтони, затем мадемуазель Сент-Обер, но слуги наотрез отказались впустить его. Не желая входить в препирательство с прислугой, он, наконец ушел и, вернувшись домой, в состоянии близком к умоисступлению, написал Эмилии о случившемся, – красноречиво изобразил ей терзания своего сердца и умолял ее, раз нет другого средства видеться с ней немедленно, согласиться на свидание с ним без ведома Монтони. Вскоре после отсылки письма, когда страсти его несколько поулеглись, он понял, какую он сделал ошибку, доставив Эмилии новый повод к волнениям. Он отдал бы полжизни, только бы вернуть посланное письмо. Эмилия, однако, была избавлена от огорчения, которое испытала бы, читая его, – избавлена благодаря интриганству госпожи Монтони, еще ранее отдавшей приказание, чтобы все письма, адресованные на имя племянницы, подавались ей самой. Пробежав последнее отчаянное письмо Валанкура, и прочтя нелестные отзывы Валанкура о ее супруге, она без церемонии бросила письмо в огонь.
Тем временем Монтони, сгорая нетерпением поскорее выехать из Франции, поспешно отдавал распоряжения слугам, занимавшимся приготовлениями к отъезду, и торопился закончить все свои дела. Он упорно не отвечал на письма Валанкура, в которых тот, отчаявшись достигнуть большего и подавив свое разочарование, умолял только об одном – о разрешении проститься с Эмилией. Узнав, что она, в самом деле, уедет через несколько дней, что ему не суждено больше видеться с ней, он забыл все соображения осторожности и написал к Эмилии второе письмо, в котором осмелился предложить ей тайный брак. Это письмо точно так же попало в руки госпожи Монтони. Настал последний день пребывания Эмилии в Тулузе, но Валанкур не получил еще ни одной строки, которая облегчила бы его тоску или хотя бы подала надежду, что ему разрешено будет прощальное свидание с Эмилией.
В этот период мучительной неизвестности для Валанкура Эмилия находилась в состоянии какого-то столбняка, что часто бывает при великих, ошеломляющих несчастьях. Любя Валанкура нежной привязанностью и давно привыкнув считать его своим другом и спутником на всю жизнь, она не могла себе представить счастья вдали от него. И вдруг она узнает, что ее разлучают с ним, быть может, навеки и увозят на чужбину, куда до нее даже не будут доходить вести о возлюбленном… И все это бедствие творится над ней по произволу какого-то чужого человека, каким был для нее Монтони, и по капризу женщины, которая еще так недавно сама желала ускорить ее свадьбу! Тщетно старалась Эмилия совладать со своим горем и примириться с неизбежным. Молчание Валанкура больше огорчало, чем удивляло ее; но когда настал последний день ее пребывания в Тулузе и она не знала, позволено ли ей будет проститься с ним, она впала в отчаяние и, несмотря на свое нежелание говорить о нем с госпожой Монтони, спросила тетку, неужели ей откажут в этом последнем утешении? Тетка отвечала, что свидание ей, конечно, не разрешат, прибавив, что после дерзостей, которые наделал ей Валанкур в последний раз, и после того, как он осмелился преследовать синьора своими письмами, никакие просьбы не помогут.
– Если шевалье рассчитывает на такое одолжение с нашей стороны, – сказала она, – то ему следовало бы вести себя совсем иначе: терпеливо ждать, пожелаем ли мы оказать ему такую милость, а не упрекать меня за то, что я не считаю для себя лестной его женитьбу на моей племяннице; ему не следовало приставать к моему мужу. Его поведение с начала до конца было крайне самонадеянным и дерзким; я не желаю даже слышать его имени; советую вам отделаться от этой блажи и вздорных печалей, быть такой, как все люди, и не строить мрачной физиономии, точно вы плакать собираетесь. В самом деле, хотя вы молчите, вы не можете скрыть своей печали от моей проницательности: я вижу, что вы и сейчас готовы удариться в слезы, несмотря на мое приказание!
Эмилия отвернулась, скрывая слезы, затем вышла из комнаты, чтобы наплакаться вволю. Весь день прошел для нее в таком глубоком отчаянии, какого она еще никогда не испытывала в жизни. Перед тем как ложиться спать, она села в кресло и просидела так, не двигаясь, погруженная в скорбь, долгое время после того, как все домашние отправились на покой. Она не могла отогнать от себя мысли, что расставалась с Валанкуром окончательно и никогда более его не встретит – уверенность эта возникла не случайно – ее, по-видимому, оправдывали разные обстоятельства: и предстоящее длинное путешествие, и неизвестность насчет того, когда она вернется, и строгие запрещения, которым она подвергалась. Кроме того, у нее было какое-то впечатление, не то предчувствие, что она уезжает от Валанкура навсегда. Каким страшным казалось ей расстояние, которое разлучит их! Исполинская стена Альп воздвигнется между ними, и целые области будут разделять их. Жить где-нибудь в соседней провинции, жить в той же стране, хотя бы и не видясь с ним, представлялось ей счастьем в сравнении с этой ужасной далью…
Она так сильно волновалась, размышляя о своем горе и о том, что никогда больше не увидится с Валанкуром, что вдруг почувствовала приступ слабости и дурноты; беспомощно озираясь и отыскивая, что бы такое могло оживить ее, она случайно взглянула на окно. Едва имела она силу подойти к нему, распахнуть раму и сесть. Струя воздуха несколько оживила ее, и кроткий лунный свет, падавший на длинную аллею высоких вязов успокоил ее смятенный дух. Она решилась выйти в сад, надеясь, что движение и свежий воздух облегчат мучительную боль, сковывавшую ее виски. В замке все было тихо; спустившись по широкой лестнице в прихожую, откуда был выход прямо в сад, она тихонько, как ей казалось, неслышно, отперла дверь и вступила в аллею. Эмилия шла, то ускоряя, то сдерживая шаги, так как в тени меж деревьев ей все чудились какие-то движущиеся фигуры, и она боялась, не шпионы ли это, посланные теткой. Но желание еще раз увидеть павильон, где она проводила столько счастливых часов с Валанкуром, любуясь далекими видами Лангедока и родной Гаскони, преодолели ее страхи и она направилась к террасе, которая тянулась вдоль всего верхнего сада, сообщаясь с нижним несколькими мраморными ступенями в конце аллеи.
Дойдя до этих ступеней, она остановилась и оглянулась – теперь отдаленность ее от замка пугала ее среди тишины и темноты ночной. Но, не заметив ничего страшного, она поднялась на террасу. Там при лунном свете ясно виднелась широкая дорожка к павильону; луна серебрила кусты и деревья, окаймлявшие павильон справа, и кудрявые макушки других деревьев, подымавшихся в уровень с балюстрадой из нижнего сада. Эмилия остановилась, прислушиваясь; ночь была так тиха, что ни малейший звук не пропадал даром. Но в ушах ее раздавалась печальная песня соловья да легкий шелест листьев; она продолжала идти к павильону. Достигнув его, она, несмотря на темноту, скрывавшую знакомые предметы, ощутила волнение: окна были отворены и в их пролеты, окаймленные зеленью, виднелся пейзаж, залитый мягким лунным светом: рощи и равнины смутно рисовались вдали, на горах виднелись более яркие блики света; в соседней реке отражалось трепетное сияние луны.
На Эмилию эта красивая сцена производила тем более сильное впечатление, что она вызывала перед нею образ Валанкура.