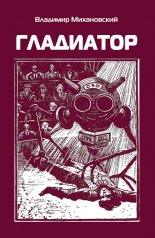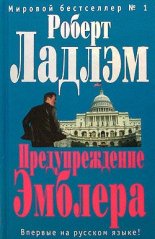Паша и Павлуша Токарева Виктория
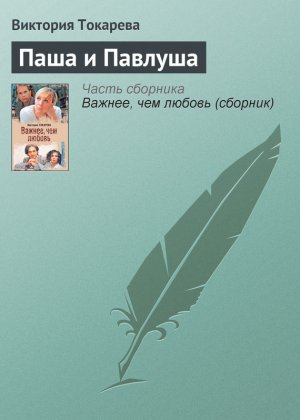
– И напрасно. Надо было тоже его укусить, чтобы Славик знал, как это больно.
Гоша воспринял рассуждения учителя как прямое руководство к действию. Он вылез из-за парты, подошел к Славику и, наклонившись, цапнул его за щеку. Славик вскрикнул, потом бурно зарыдал, а через минуту забыл. Паша продолжал диктовку. Дети писали. И Славик писал, старательно склонив голову набок. На щеке проступал синяк, о происхождении которого он уже не помнил. Счастливая особенность психики – забывать плохое, потому что помнить – это значит продлевать, удлинять страдания. Переживать – значит проживать еще и еще раз свое унижение.
Этот синяк как бы держал Пашины глаза на ниточке. Паша то и дело в него вглядывался, не мог отвлечься.
Ночью долго не мог заснуть. Синяк держал и мысли на ниточке. О чем бы Паша ни думал, возвращался к синяку. Думал о том, что все женщины – разновидности Марин, Панасючек и Тась. Есть еще вариант его сестры. Она положительная, потому что никакая. Как дистиллированная вода без солей и минералов.
А мужчины? Кто они? Таты и Павлуши, жертвенные «зайчики», алкоголики, рождающие дебилов… Синяк на щеке, незабытая слеза на синяке… С кем связался? На ком вымещает свое неверие в род человеческий? Славика в детском доме назвали Ярослав, потому что он был найден на Ярославском вокзале. В туалете. А Гоша – из благополучной семьи, единственный ребенок у престарелых родителей. Они могли бы иметь такого внука. Врачи считают, что позднее отцовство может быть причиной мутационных поломок. Человек изнашивается со временем, как всякий механизм.
Гошина мать приходила за сыном в конце дня, тихо делилась с Пашей: они с мужем не могут умереть, потому что не на кого оставить Гошу. У них нет никакой родни. И что Гоша будет делать в жизни один, без поддержки? Она смотрела на Пашу, и сколько бездонного отчаяния в глазах…
А на первой парте сидит Павлик. У Павлика – избирательный мутизм. Не разговаривает, хотя умеет говорить. Не привык. До десяти лет ни с кем не общался. Мать, приехавшая из Сибири, потеряла где-то паспорт, и, когда ребенок родился, его никуда не вписали. Он нигде не числился. И в школу не пошел. У пьющей мамаши были свои запьянцовские дела, она уходила из дома, запирала дверь на ключ. Ребенок рос в углу, в тряпках, как щенок, из дому его не выпускали. Обнаружили случайно. Соседей внизу залило, вызвали сантехника, взломали дверь – и увидели Маугли, дикого мальчика, голого, заросшего и бессловесного. Степень его отставания невозможно было определить. Пришлось поместить в больницу. Мать с большим трудом лишили прав материнства.
Оказывается, это очень трудно – лишить прав несостоятельную мать. Общество гуманно. Нельзя запретить дебилам рожать, если они хотят иметь ребенка. И растет армия дебилов. В нормальной семье – двое, трое детей. У дебилов – десять, двенадцать. Они рожают каждый год, как говорят врачи, рожают на дефектной основе. Страна дает им звание матерей-героинь. Исполком обеспечивает площадью – предоставляет целый этаж, четыре квартиры. А куда денешься? Дети растут при полной безнадзорности. Преступность и наркомания находят в первую очередь именно этих. И в их интернате в старших классах тоже растет токсикомания. Паша подозревал, кто у них главный: Прокопенко.
Паша не спал в эту ночь ни одной минуты. В сущности, его работа, а значит, и жизнь, погружена в такие глубины человеческого горя, и так много надо поправить, а он заколотил себя в убогий треугольник Паша – Марина – Павлуша. Да и треугольника нет – прямая: Марина – Павлуша. И что толку от его ненависти. На ненависти ничего хорошего взрасти не может. Одна озлобленность. Паша решил отозвать своего «генерала» с прежнего поста и возглавить другие войска.
Утром Паша пошел к Панасючке и поделился «ацетонными» прозрениями.
– А что я, по-твоему, могу сделать? – спросила Панасючка.
– Выгнать Прокопенко. Для начала.
Панасючка как бы не услышала, увела разговор в сторону. Она в этот период жизни меняла в квартире паркетную доску на паркет и любила говорить на эту тему. Паша захотел вернуть разговор к Прокопенко, но у него не вышло ни в этот день, ни в следующий. А на третий день Паша выяснил, что мамаша Прокопенко работает в солидной организации. У этой организации свой санаторий, в котором Панасючка отдыхает каждый сезон, плавает там в бассейне и проходит курс массажа. Помимо санатория, Панасючке перепадают талоны, по которым дают особую колбасу. Не ту, что в магазине, а совсем особую. Колбаса – за молчание. И ходят по коридорам старшеклассники в третьем измерении, балдеют.
Паша дождался педсовета и выступил. Он поставил вопрос о несоответствии Панасючки занимаемой должности. Должность – сама по себе, а Алевтина Варфоломеевна Панасюк – сама по себе. Она, как ворона на бреющем полете, низко и медленно летит над полем обездоленных и норовит выклюнуть себе реальный кусок.
Учителя обескураженно молчали. Они все знали: про низкий уровень контроля, про выдвижение любимчиков на должность старшего учителя, про подставных лиц. Числится рабочим по ремонту и обслуживанию здания, зарплата восемьдесят рублей. А где этот рабочий? А куда идет зарплата?
Все знали, но помалкивали. Панасючка сама жила и давала жить другим. С ней было удобно. А то, что во вред детям… Из них так и не вырастишь полноценных членов общества. Чего напрягаться. Однако в каждой душе учителя жива тоска по идеалу. Человеку свойственно работать хорошо. Он запрограммирован на полное самовыражение. А когда этого нет, наступает великая апатия.
Паша выступил и сел на место. Панасючка невозмутимо спросила: хочет ли кто-нибудь высказаться? Никто не захотел.
Нависла пауза. Все понимали, что Паша говорит правду. Но разве это можно?
Заведующая учебной частью Лина Глебовна наклонилась к нему и спросила шепотом:
– Скажите, а вас кто-нибудь поддерживает?
– Поддерживает, – ответил Паша.
– Кто?
– Совесть.
– А-а-а… – сказала Лина Глебовна.
Она родилась в тридцать седьмом году и, естественно, не осознавала событий тех лет. Но страх родителей передался ей с генами и остался в крови. Она боялась глубинно, хотя уже официально было разрешено не бояться. Мало ли. Перестройка перестройкой, а еще неизвестно, что за ней. Лучше не вылезать.
Панасючка еще раз спросила, хочет ли кто-нибудь выступить. Народ безмолвствовал. Педсовет был закончен. Однако Панасючка попросила Пашу задержаться.
Они остались с глазу на глаз. Панасючка как ни в чем не бывало рассказала Паше о преимуществах паркета над паркетной доской, потом простодушно заглянула ему в глаза.
– Ты понимаешь, что вместе мы работать не можем? – спросила она.
– Конечно, – согласился Паша.
– Значит, ты или я.
– Я, – выбрал Паша. – Ты не полезна и даже вредна.
– Кому?
– Обществу.
– А это не тебе решать, – сказала Панасючка.
По правилам перестройки все решает трудовой коллектив. Панасючка была уверена в своем коллективе. Ее «пораженки» – так она называла учительниц – не хотели в небо. Им было здесь прекрасно, «тепло и сыро».
Но на собрании произошло непредвиденное. Первой выступила заведующая учебной частью Лина Глебовна, а за ней следом и остальные «пораженки». Всех несло как на крыльях. Высказывались о Паше с такой степенью возвеличивания, будто это было не собрание, а грузинское застолье: и самый честный, и гуманный, и специалист. Их послушать, так без Паши бы вся школа развалилась, стены рухнули. Панасючку сровняли с землей. Больше всего ее поразила человеческая неблагодарность. Мало она для них делала, входила в положение, создавала условия. Панасючка была настолько растеряна, что не знала, какое принять решение – обидеться или защищаться. Однако не понадобилось ни первое, ни второе. В присутствии представителя роно было высказано пожелание: ей стать рядовым учителем, а Паше – директором школы.
Панасючка метнулась в роно. Там у нее было «схвачено». Заведующая выслушала с пониманием, потом успокоила.
– Уголовное дело на вас не завели, – сказала она. – Можете со следующей недели приступить к работе. Преподавателем.
Панасючка молчала. Адаптировалась к неожиданной информации. Заведующая предложила ей новую точку отсчета: тюрьма. И с этой новой платформы ее ситуация понижения выглядела не как провал, а как большое везение. Ей нужно не возмущаться, а благодарить. Одно дело – сидеть в тюрьме, неудобно спать, плохо питаться, довольствоваться навязанным общением. Другое – жить на свободе в привычной обстановке да еще работать в школе, получать заработную плату с двадцатью процентами надбавки.
Панасючка поднялась и вышла на улицу.
Роно размещалось в одноэтажном здании барачного типа с решетками на окнах. Решетки поставили от воров. «Что там красть? – подивилась Панасючка. – Папки с бумагами, бессмысленными отчетами, бумажной показухой? Всем этим хорошо костер разжигать в сырую погоду, и то какая-то польза». Решетки навеяли мысли о тюрьме, КПЗ, захотелось подальше отсюда. Но ноги не шли. Кончился бензин. Надо было уравновеситься, зарядиться от неба и деревьев, от свободы и воли. Взять из космоса немножечко топлива. Панасючка остановилась возле газетного киоска, купила рекламное приложение к «Вечерке», стала смотреть в строчки, чтобы переключить внимание с себя на что-то, не имеющее к ней никакого отношения. Отвлечься от себя.
Приложение печатало объявление, что кому требуется. Кто-то покупал, кто-то продавал, кто-то менялся, а кто-то приглашал няню к ребенку. Одно объявление привлекло ее внимание припиской: условия хорошие. Здесь же сообщались телефон и адрес: та же улица, что у Панасючки. Она зашла в автомат, набрала номер и спросила: что значит «хорошие условия»?
Ей ответили: зарплата, питание, все лето на даче. Панасючка подсчитала, получалось содержание кандидата наук.
– А ребенок дебил? – спросила она.
– Почему дебил? – обиделись в телефоне. – Нормальный, здоровый ребенок.
Так началась для Алевтины Варфоломеевны Панасюк новая жизнь. В этой жизни был один ребенок, а в прежней – сто. Там – восемь часов в помещении, здесь – четырехчасовое гулянье. Алевтине было под пятьдесят. Ее главные игры в жизни сыграны, наступил период осмысления. А осмыслять хорошо в тишине и на свежем воздухе.
Новая жизнь началась и для Паши. Дел было столько, что невозможно удержать в памяти. Дома под зеркалом повесил бумагу, на которой было написано: «Дела и делишки». А дальше пункты и тезисы.
Первый пункт: кадры. Провести переаттестацию, оставить только дефектологов, никакого дилетантства, никаких любителей.
Второе: микроклимат. Никаких тайфунов и ураганов в учительской. Некогда тайфуниться. Все закручено так, что тащить придется всем скопом, как бурлаки с лямками на плече.
Третье: наладить связь с объединением «Мосшвея», которое использует труд инвалидов. Поставлять им наволочки, вафельные полотенца. Получать живые деньги. Это для девочек. Мальчикам – картонажно-переплетное дело. Достать картон, коленкор, дерматин. Взбодрить столярно-слесарные мастерские. Однако где взять дерево? Да и вообще где взять ВСЕ? За какие деньги?
Иногда ему казалось, что ничего нельзя сделать. Невозможно прошибить лбом устоявшую заскорузлость. Тогда хотелось все бросить и не возникать. Но какой-то внутренний мотор был запущен. Паша знал: если не он, то никто.
Однажды приснился сон, будто идет по школьному коридору. Коридор этот не имеет конца. По сторонам стоят ученики и учителя: неполноценные и «пораженки». Они смотрят на Пашу с такой напряженной надеждой, как будто вся их жизнь зависит только от него одного, и он не может под этими взглядами ни остановиться, ни повернуть назад. Здесь же, в коридоре, стояла Марина, почему-то голая и в крови. Паша понимал, что это сон, заставил себя проснуться. Долго лежал в темноте. Чего только не приснится! Однако Паша понял: как бы он ни жег ее ненавистью, ни затаптывал занятостью – Марина выплывает из подсознания как заговоренная. И ничего с этим не поделать. Если только порвутся сосуды в мозгу и зальют кровью то место, где память. Утопят.
В учительской сказали, что видеть кровь во сне – очень хорошо. Значит, к кровной родне. К близким людям. Значит, у Марины все в порядке.
В середине зимы Паша случайно встретил Панасючку. Она катила коляску с ребенком. На ней были платок и валенки.
– А я хотела тебе позвонить, – сказала она.
– Зачем? – не понял Паша.
– Спасибо сказать. Так что – спасибо.
– Пожалуйста, – ответил Паша.
– А ты хорошо выглядишь, – искренне похвалила Алевтина. – Тебе идет власть. Другое выражение лица.
– Ты тоже хорошо выглядишь. Тебе идут платок и валенки.
– Так я же деревенская, – просто сказала она.
Ребенок заплакал. Алевтина взяла его на руки. Ее лицо стало ясным, панасючесть выпарилась, куда-то улетучилась.
– Такой хорошенький! – счастливо поделилась Алевтина. – Я его прямо в рыло целую, когда хозяева не видят.
Паша похвалил ребенка, и они разошлись.
На помойке валялись две доски. Паша подошел, взял их под мышку и понес. Дерево было крепким, могло сгодиться в столярной мастерской.
Они уходили в разные стороны. Панасючка – с ребенком. Паша – с досками. Каждый со своим.
Прошло четыре года.
За это время Пашина школа вышла на первое место в городе, что порождало массу неудобств. В интернат сгоняли практикантов, показывали иностранцам, всяким гостям города. А как известно, гости – это воры времени. Дел у Паши не убавилось. Одни дела кончались, другие наплывали. Ему иногда казалось, что он пытается наполнить дырявый мешок. А точнее – мешок без дна. Прорву.
Раз в месяц он заседал в медико-педагогической комиссии. Комиссия проверяла детей, которых отбраковывала общеобразовательная школа. Встречались дети, которые не годились даже в интернат. Их следовало переводить на социальное обеспечение. А иногда на комиссию попадали совершенно здоровые ребята.
В последний раз пришла пара рыжих: мама и сын. Мальчик – десятилетний, косоглазый, очень смышленый. Его невзлюбила, а точнее, возненавидела учительница Эльвира Станиславовна, и мальчик в ее обществе становился тупым, чуть только не дебильным. Пришлось вызвать эту Эльвиру Станиславовну, ставить вопрос о профнепригодности. Паша знал: дети, как и взрослые, бывают очень противные. Но ненавидеть их, а тем более мстить… Хорошо, что в комиссии оказались не формальные люди. А сидела бы Панасючка, вечно спешащая по своим делам, не стала бы вникать, и загремел бы рыжий мальчик в интернат. А там – другое общество, другое детство, а поскольку детство – фундамент жизни, то и другая жизнь.
Следующая за ними пара – бабушка и внучка. Девочка семи лет, некрасивая, долгоносенькая, все время улыбалась, была рада, что вокруг много доброжелательных людей. Девочка не могла ответить ни на один вопрос. У старухи слезились глаза от любви и от старости. Между ними не было кровного родства. Старуха рассказала, что первая жена его сына Валька родила эту девочку после развода и неизвестно от кого. Валька и сама не знала, от кого. Бывшая невестка принесла ребенка бывшей свекрови. А больше некуда. Валька бродяжничала, нигде не жила, не выбрасывать же в мусорный ящик. Вот и принесла. А сама сгинула. И сын уехал на Север, а там женился. И осталась бабка с девочкой, старая и малая, никому не нужные, только друг другу. Бабка пошла работать уборщицей в магазин, поближе к питанию. Ее жалели. Давали еду бесплатно, а в середине дня отпускали. Сами мыли за бабку полы. Сострадание объединяло людей, держало всех на плаву. Делало всех людьми. И бабка не помирала, потому что нельзя. А девочку на кого?
Паша смотрел на старуху. Ее лицо было как растрескавшаяся земля. Морщины такие глубокие, что в каждой можно спрятать монетку и она не выкатится. Ей было лет девяносто, не меньше.
Паша предложил интернат. Старуха спросила:
– А можно каждый день забирать?
– На субботу и воскресенье, – разъяснил Паша.
Старуха колебалась.
– Она там плакать будет.
– Поплачет, потом привыкнет.
– Человек не собака, ко всему привыкает, – согласилась старуха. – Так ведь жалко.
– Ну, вы подумайте, а потом нам скажете.
Старуха и девочка пошли из комнаты.
«Эх, Валька, Валька… – подумал Паша. – Ну что с тобой делать? Что с вами с такими делать? Судить? Стрелять?»
Паша вдруг почувствовал, что стул под ним сдвинулся в сторону и поплыл. Такое случилось в первый раз, но районный врач сказал, что все бывает в первый раз. Нужен отдых, нужен отпуск, нужен санаторий. В противном случае разовьется гипертония, и неизвестно, чем она закончится. У гипертонии много вариантов. Пашу не устроил ни один из перечисленных. Он взял отпуск и поехал в пансионат.
Пансионат располагался на самом берегу Черного моря и был отгорожен с двух сторон железной сеткой, чтобы на пляж не забредали неорганизованные отдыхающие под названием «дикари». «Дикари» – это вполне интеллигентные люди. Однако не надо.
Территория была небольшой, и получалось, что отдыхающие находятся в вольере. Как песцы и норки.
Паша не переносил скученности, поэтому приходил на пляж раньше всех, а в столовую – позже всех. Своих соседей по столу Паша за неделю не встретил ни разу. Они не пересекались. И это было хорошо. Паша лечился одиночеством, отсутствием обязательного общения.
Из женщин заприметил двоих: молодую и ровесницу. Молодая была коренастая, коротконогая, с прекрасными зубами, как калмычка. А ровесница – худая и гибкая, как водоросль, она неприятно волновала. Хотелось все время на нее смотреть. Несколько раз мелькнула женщина, похожая на Марину, но не Марина.
Он жил в номере с широкой двуспальной кроватью и диваном. Лоджия выходила на море. Покрывала и занавески были синие. Мебель белая. Ведомство умело заботиться о своих сотрудниках.
Три часа в день Паша сочинял уроки: читал, писал, сочинял для детей диктанты, чтобы в них присутствовала не только информация, но и некоторая художественность. Чтобы не было скучно. Скука – это внешняя примета бездарности. Скука, как засуха, убивает все.
Через неделю пребывания в пансионате Паша увидел соседей по столу. Это были Марина и трехлетний мальчик – кудрявый, большеглазый, с короткими зубами. Точная копия Павлуши, будто Павлуша размножил себя простым делением.
Фактор внезапности был такой ошеломительный, что Паша даже бровью не повел. Как сидел, так и остался. Внешне это читалось как полное безразличие. Ну, встретились. Ну и что?
Однажды московская соседка, Крашеная, рассказала Паше, что встретила своего будущего мужа перед революцией в Цюрихе.
– Он был немец? – спросил Паша.
– Нет. Он был еврей из Киева.
– Стоило ехать в Цюрих, чтобы встретить там киевского еврея! – удивился Паша. – Его можно было встретить в Киеве.
– Это так, – подтвердила Крашеная. – Его можно было встретить в Киеве, но я встретила его в Цюрихе.
То же самое случилось с Мариной и Пашей. Они могли встретиться в Москве, где стоят их дома. Но они встретились в Сочи, почти на том же месте, где расстались. Судьба сделала кольцо.
Жизнь вообще склонна вить кольца, поднимаясь по спирали. Но это не Пашино открытие. Это заметили до него.
Марина искренне удивилась встрече, удивление было со знаком плюс. Она осветилась лицом и сказала:
– Здравствуй, Паша. Тебя и не узнать. На Ружича похож. Я думала, что ты Ружич.
– А кто это? – спросил Паша.
– Он сейчас в Сочи гастролирует. Мим с гитарой.
– Странное сочетание: мим с гитарой.
– А я и Павлуша – не странное? – Марина кивнула на мальчика. Паша понял, что его тоже зовут Павлуша.
Он не ответил. Встретил ясный, незамутненный Маринин взгляд и увидел, что ей совершенно не стыдно за прошлое. Никаких комплексов. Значит, он корчился, извивался как уж на сковородке, а она: «Здравствуй, Паша». И все дела.
Марина изменилась. Она поправилась и побледнела. Румяна вместо румянца. Вместо белой кофты – черная синтетическая водолазка, чтобы реже стирать. А главное – суетливая зависимость, которая сквозила в голосе и в пластике.
Официантка принесла борщ. Паша взял ложку и стал есть. Он почувствовал себя свободным от Марины. Надо было ее увидеть, чтобы все прошло за одну минуту. Так же, как мгновенно влюбился – так же мгновенно освободился от нее. И даже жалко стало, что страдал так долго. «Дурак», – подумал Паша, отгоняя ложкой круг сметаны. Сметане он не доверял. Она редко бывала свежей.
Марина принялась кормить Павлушу. Он кочевряжился и не ел. Это был канючливый, невоспитанный мальчик с прозрачными соплями под носом, которые Марина вытирала прямо рукой.
– Съешь ложечку за дядю Пашу, – увещевала Марина.
– Пусть съест за папу, – переадресовал Паша.
– А он его не знает, – как бы между прочим проговорила Марина.
Паша хотел спросить: почему? Но сдержался. Приказал себе не расспрашивать. Должно же у него быть уважение к своим собственным страданиям. Паша сомкнул лицо.
Марина тем временем изображала из ложки пароход, сажала на пароход пассажира-фрикадельку, и по воздуху, как по волнам, ложка шла к Павлушиному рту. Но возле самой цели Павлуша сбил пароход, и пассажир-фрикаделька полетел в Пашину лысину. А Павлуша безмятежно глядел большими серо-желтыми глазами цвета куриного помета. Паша поднялся из-за стола, не дожидаясь второго.
– Ну вот, дядя Паша обиделся, – упрекнула Марина.
– Ну и пусть! – угрюмо сказал Павлуша.
«Весь в папу», – подумал Паша и вышел из столовой. Выбрался из вольера на дорогу. Сел в автобус и поехал в город. Там зашел в шашлычную, заказал солянку и шашлык. И уже когда ел – знал, что его ждет суперизжога. И не ошибся.
Прошла неделя.
Дни походили один на другой и катились незаметно. Утром Паша завтракал у себя в номере сыром и помидорами. Днем ездил в шашлычную. В промежутках плавал, играл в большой теннис, учил уроки. Марина и Павлуша иногда мелькали то тут, то там и были чем-то вроде изжоги.
Однажды Паша выходил из моря и увидел, что Павлуша стоит по щиколотку в воде в окружении детей. Дети на него брызжут, а он визжит, будто его режут. Паша посмотрел по сторонам, определяя, где же Марина. Марины поблизости не было.
Паша пошел мимо, но Павлушин визг его настигал, ввинчивался в уши и глубже, в мозги. Паша вернулся, взял его за руку и вывел из круга зверят. Здоровые дети жестоки. Им бы найти живое и мучить. Павлуша рыдал, не мог остановиться, его лицо было мокрым от слез и морских брызг. То и другое было одинакового вкуса.
Паша присел перед ним на корточки и вытер ему лицо прямо рукой, как это делала Марина. На бровях Павлуши расцвели красные пятна, на лбу – точки. Разнервничался.
– А мама где? – спросил Паша.
– Не знаю.
«Ну вот, родили на мучение, – подумал Паша. – Не нужен никому». Было очевидно, что Марина не понравилась Тасе. Павлуша-старший не смог ослушаться или не захотел. Они либо поженились и разошлись, тогда Марине положены алименты. Либо не поженились, а просто разошлись, тогда Марина будет получать двадцать пять рублей от государства. Раньше было – пять. Сейчас повысили. В некоторых странах благотворительные общества поддерживают таких бедолаг. А у нас каждая должна взять свою судьбу в свои руки.
Подбежала Марина в купальнике и туфлях на шпильках, вся в украшениях и в полной косметике. Шпильки вязли в гальке, румяна плавились и жирно блестели, и во всем ее открытом теле было что-то нищенски зависимое, предлагающее себя. Она и на Пашу смотрела подобострастно, как будто он в самом деле был Ружич.
– Ты зачем его сюда привезла? – строго спросил Паша.
– А куда я его дену? Мне не с кем его оставить.
– Оно и видно.
Паша вернулся в свой номер. Принял душ. Надел зеленую рубашку-сафари и собрался пообедать в городе. Но передумал. Пошел в столовую.
Марина и Павлуша уже бились над винегретом. Марина руками заталкивала ему в рот овощи, а Павлуша выплевывал обратно. На столе было накидано и наплевано, как в хлеву.
Марина сравнивала огурчики с камешками, а морковку с денежками, хотя деньги меньше всего похожи на вареную морковь. Павлуша самодурствовал, тряс руками и ногами. Это было типичное поведение невоспитанного ребенка, ребенка, которого не воспитывают изо дня в день, а все ему позволяют, потому что так короче. Удобнее. Вседозволенность требует меньше затрат.
Марина была на грани срыва. Паша понял: сейчас она отхлещет его по рукам, будет большой ор с пятнами на бровях, потом Марина начнет извиняться и унижаться, и все вернется на круги своя. Павлуша, одержав очередную победу, совсем посовеет, превратится в полного пса-диктатора. Похоже, он унаследовал Тасины гены.
– Встань! – приказал ему Паша.
Павлуша замер с раскрытым ртом.
– Встань! – повторил Паша.
Павлуша сполз со стула.
– Выйди из столовой.
– А мама? – спросил Павлуша.
– А мама останется здесь.
– А я?
– А ты выйдешь. Потому что ты мешаешь. Посмотри, все тихо сидят и едят, как большие мальчики. А ты как себя ведешь?
Павлуша тут же изобразил страдальческую гримасу, натянул верхнюю губу на зубы. Давил на жалость.
– Если не хочешь уходить, садись и ешь. И чтобы я тебя не слышал. Без единого звука. Понял?
Павлуша вскарабкался на стул и разинул рот. Марина молча покидала в него винегрет.
– Молодец, – похвалил Паша. – А теперь посиди спокойно. Пусть мама поест.
Павлуша пристально засматривал в Пашины глаза, пытаясь уловить в них слабину, которая скрывается за показной строгостью. Но строгость была настоящая. И воля мужская, неведомая Павлуше. Он сидел смирно, как бобик. Марине стало его немножко жалко.
– Вообще у него характер после болезни испортился, – заступилась она за сына.
– А чем он болел? – спросил Паша.
– Отравился. Упаковку снотворного съел. Думал, что конфеты.
– Надо убирать, – строго сказал Паша.
Павлуша слышал, что говорят о нем, и настороженно смотрел большими серо-желтыми глазами. Паша вспомнил, что этот редкий цвет глаз называется «авокадо».
– Дай маме салфетку, – велел ему Паша.
– Я? – удивился Павлуша.
– Да. Ты.
– Я маленький.
– Ну и что? Ты же мужчина, а она женщина.
Павлуша протянул салфетку, которой был накрыт хлеб.
– Не эту. Бумажную.
Павлуша передвинул руку и взял из стакана бумажную салфетку, рассыпав все остальные. Ему давали поручения. Это походило на игру. Павлуша с удовольствием играл в большого мальчика, и это было гораздо интереснее, чем оставаться маленьким.
Вечером Паша собрался в кино. К нему постучали. «Кто бы это?» – подумал Паша. Ни с калмычкой, ни с ровесницей он так и не познакомился, они только переглядывались издали. Но все может быть. На юге все убыстряется в сравнении с севером. Здесь и цветы раньше зацветают, и отношения быстрее формируются.
За дверью стояла Марина.
– У меня к тебе просьба на сто миллионов, – затараторила Марина. Раньше она не тараторила. – Ты не мог бы посидеть с Павлушей? То есть сидеть не надо. Ты живи своей жизнью, а я открою дверь в его комнату. Если он проснется, войди и поноси его на руках. Он успокоится, и ты его снова положи.
– А где твоя комната? – не понял Паша.
– Рядом с твоей. Твоя одиннадцатая. А моя тринадцатая.
Марина смотрела на него вверх и не дышала. Он не мог выносить этой ее зависимости. Можно было все то же самое сказать иначе. И иначе смотреть. Но она разучилась иначе. Видимо, жизнь за эти четыре года так повозила ее лицом по асфальту, что она забыла себя прежнюю.
– Я скоро приду, часов в двенадцать. Не позже.
Она решила взять судьбу в свои руки и хотела обернуться до двенадцати.
– Если он попросит пить, там на подоконнике. В термосе, – сообщила Марина, как бы подталкивая Пашу в нужном направлении.
– Ладно, – согласился Паша.
Она потянулась и поцеловала его в щеку. Это был поцелуй-унижение. И Паша сказал:
– Не вибрируй. Успокойся. Ты же женщина.
Марина приподняла брови, как бы удивившись этому открытию. Ее глаза были разрисованы фиолетовыми тенями, как у дикарки. Зеленый маникюр. Тяжеловесные украшения. Только перьев в голову не хватало.
Марина повернулась и зацокала по коридору, и ему казалось, что ей очень неудобно идти на каблуках. А идти придется далеко и долго.
Павлуша спал на животе, утопив лицо в подушку. Паша подошел к кровати, всмотрелся с пристрастием. Спинка ходила – значит, дышал. У Паши отлегло от сердца. Он все же чуть развернул головку и сделал в подушке вмятину, чтобы дать доступ воздуху.
Одеяльце слегка дыбилось над ребенком: так был мал, как кочка. В чем душа держится? И все время на краю: то лекарство съел, то возле моря один. Что стоит ему войти по грудь, потом по горло, волна подтолкнет… Много ли ему надо… Павлуша спал. Из-за полусферы щеки выступали маленький носик и раскрытые губы. И было невозможно себе представить, что этот спящий и тот орущий и канючливый – один и тот же человек.
Паша вернулся к себе. Лег, не раздеваясь, стал читать книгу о Хемингуэе. Однажды Хемингуэй был молод, беден, жил в Париже, любил Хэдли, родил сына Джона и написал «Праздник, который всегда с тобой». Он был счастлив. А потом, в конце жизни, был богат, жил на Кубе, имел дом, много кошек, жену Мэри, башню, но утратил что-то важное и убил себя. Ему было шестьдесят два года. Для смерти это мало. Однако шестьдесят два года – это время повторений. Все уже было, а теперь повторяется по второму и третьему разу. Новое – только смерть. Может быть, интересна только дорога, а в конце дороги той «плаха с топором». Хемингуэй густо жил и все успел. Рано завершил свой цикл, поэтому рано ушел. А Лермонтов еще раньше завершил и раньше ушел. Может быть, дело не в протяженности пути, а в его плотности. Но если опустить гениев, а взять обычных людей, то время реализации – от тридцати до сорока. Все, на что ты способен, надо заявить в это время. А на что он потратил свои от тридцати до сорока?..
Паша задремал. Взметнулся от крика. В его номер босиком и в пижаме вбежал Павлуша с раскинутыми руками. Паша вскочил, подхватил ребенка, ощущая его лопатки, как зачатки крылышек.
– Там бабай. – Павлуша показал на дверь.
– Ты же большой мальчик. Мужчина. Ты не должен бояться бабая.
Павлуша затих, перевесил тельце через Пашино плечо, как через балкон, и смотрел вниз и по сторонам.
Паша пошел вместе с ним в его комнату. Налил из термоса в стакан кипяченую воду. Павлуша потянулся навстречу питью и даже высунул язык. Стал пить, жадно и громко глотая. Напился и сказал:
– Не уходи. Я боюсь.
– Я хочу спать, – возразил Паша.
– Давай спать вместе.
Паша подумал, потом отнес Павлушу в свою комнату. Удобно уложил в кровать, а сам прилег рядом.
Павлуша приткнулся лбом к его руке, пониже плеча, и быстро заснул. Он вспотел во сне, лобик взмок. Паша слышал влажный след на своей руке и звук дыхания. Павлуша дышал, как будто произносил шепотом букву «и». Паша вдруг ощутил, как с каждым «и» его сердце обдает жаром. Это был не насос, механически и равнодушно перекачивающий кровь. Это была живая сумка, в которой копилась любовь. Копилась и грела.
Паше было неудобно пребывать в одной позе, но он боялся пошевелиться, чтобы не оторваться от «и» и не потревожить сон мальчика. Он лежал погруженный в любовь, как в море, и впервые без ненависти подумал о Павлуше-старшем: почему он такой? Потому что на него тоже брызжут. Его раздавила волевая мама, и, отходя в сторону, он самоутверждался на других.
Марина вернулась не к двенадцати, как обещала, а в два. Тихо прошла в комнату к Паше.
– Вы спите? – спросила она. – Ну ладно, не буду мешать…
Повернулась и пошла к двери. Она даже не поинтересовалась, удобно ли Паше соседство с ребенком, или он хочет остаться один… «Удивительная душевная неразвитость, – подумал Паша. – Заскорузла в своем эгоизме. А может быть, попытка выжить за любой счет…»
– Павлуша приедет? – спросил он из темноты.
Марина остановилась, и он услышал ее удивленное молчание.
– А ты не знаешь? – спросила она после молчания.
– Я ничего не знаю.
– Его посадили.
Паша сел на постели. Его глаза привыкли к темноте. Он хорошо видел Марину.
– А почему посадили?
– Ну, там многих взяли. Они все показывали один на другого. Как пауки в банке. Тату запугали, он раскололся. Всех заложил, только бы самому вылезти.
– А много дали?
– Тате?