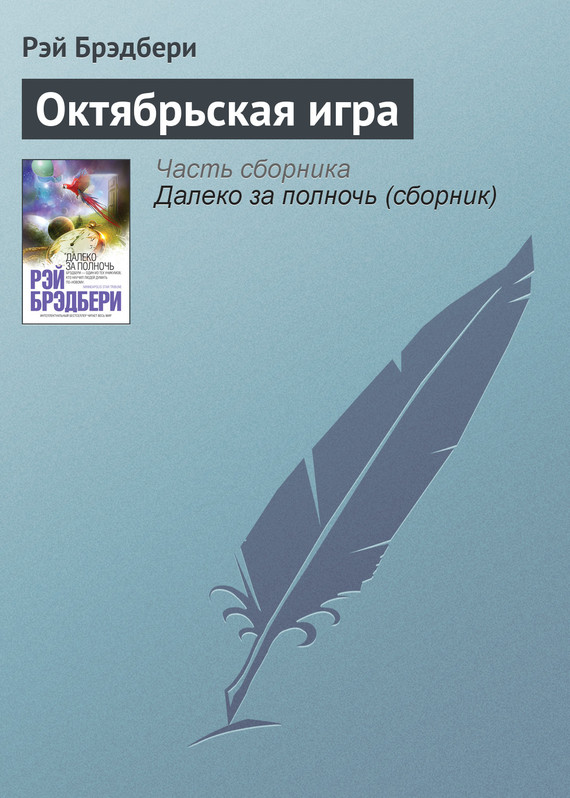Пушкин (часть 3) Тынянов Юрий

У него были приятели в герольдии, приказ заготовлялся.
Генерал-майор вдруг уставился на Карамзина. Ноздри его раздулись.
– Кутайсов, – сказал он сипло, – камердинер и по комнатной близости орден имеет. Он сапоги ваксит. А батюшка мой по заслугам отличен. Потому я именем Петровым и назван.
Собственно, ход мысли Карамзина и был таков: ему было известно, что славный арап был камердинер или денщик императора Петра. Поэтому он и вспомнил о Кутайсове.
Он смутился.
– Батюшка мой, – сказал брыкливо старик, – сам князь был, только что африканский. А вызван для примера. Фортификации учить. А что он черен, то больше был лицом нагляден и лучше запомнилось, какой великий муж из него образовался. Вот она, сударь, сова.
Согнув палец, он показал перстень с черной печатью. Он пил теперь непрерывно – стакан за стаканом, и бутыль с настойкою пустела.
– Тому документ есть верный, немецкий. Только я, сударь, его вам не дам.
Он начинал хмелеть.
– Жадный, – сказала Марья Алексеевна.
И опять старик покорился.
– Верьте, сударыня сестрица, я всегда и вечно ваш, – сказал он невестке, – а что тятенька с лица был нехорош, так сердцем-то, сердцем – прямой Аннибал. Даю слово Аннибала.
Марья Алексеевна вдруг сказала со вздохом:
– Сердцем-то зол был и с лица нехорош, а вот куртуази[12] у него было поболе, чем у вас, Петинька. Он улыбаться умел, – сказала она значительно.
Петр Абрамович загляделся на невестку.
– Эх, сердце золотое, – сказал он и вдруг раскрыл в улыбке белые зубы.
– Лучше, лучше был, и зубы белее, – махала ручкой Марья Алексеевна.
Сергей Львович был обеспокоен, и сердце у него замирало: Карамзин не обиделся ли?
Сергей Львович в смущении сказал Никите повторить его балладу. Тот было начал, да сбился.
Действительно, у Карамзина сделалось несколько скучное лицо. Он мало понял из раздраженной речи старика. Между тем Петр Абрамыч положил на нее много труда. Он вспотел и отирал лоб платком.
Он и правда видел у братца Ивана Абрамыча документ, о котором говорил. Родитель, над которым в Ревеле смеялись немцы майоры за черноту лица, позднее поручил одному доверенному немцу составить свою рефутацию. Сыновья по приказу старика, скопом, с превеликим трудом, с помощью знакомого немца аптекаря прочли ее и вытвердили.
Составлена она была с целью добыть дворянство. Петровское время было хлопотливое, и о дворянстве старый арап вспомнил только ко времени Елизаветы, когда все наперерыв стали доказывать благородство своего происхождения. Тогда же с дворянством был ему пожалован герб, которым теперь возгордился Петр Абрамыч: скрещенные над подзорной морской трубою знамена, а надо всем – сова – ученость и ум. Герб был вырезан у Петра Абрамовича на перстневой печатке.
Император Петр, – говорилось в рефутации, – желая показать всей знати пример, старался достать арапчонка с хорошими способностями. Арапчат – Neger[13], Mohren[14] – употребляли все дворы как рабов, – писал немец, – а Петр захотел доказать, что науками и прилежанием их воспитать можно. По темной же коже такой пример – полагал император – лучше запомнится всей знати – Ritterschaft und Adel[15], – которая ленилась и Петру противилась. О «губернаторстве Арапии» там не говорилось, но рассказывалось, со слов самого старого арапа, о том, что Ибрагим – или же Авраам – был из Абиссинии, княжеского рода, владевшего тремя городами. Петр Абрамыч был уверен, что кратко обо всем этом рассказал.
Он совершенно разочаровал Карамзина.
Знаменитый арап был креатурой императора – чисто анекдотическая и драгоценная черта слишком поспешного царствования.
К великанам, карлам, арапам император, по преданиям, питал особое любопытство. Дикие понятия его о природе человека казались забавны Карамзину, ученику Лафатера.
Теперь генерал-майор был вполне пьян.
– Как звать? – спросил он отрывисто Никиту.
– Никитой, сударь.
– Ты, Никишка, плох, – сказал генерал-майор, – вот у меня Гришка мой с гусляром поет – в масть и цвет! В дрожь приводит! Слезы! Сердце золотое! А ты – слова в нос произносишь. Ты плох.
Карамзин стал прощаться. Вечер был испорчен.
Самарова Гора, приют друзей сердца, московский английский home[16], сельское одиночество – все разом пропало.
Явление арапа, его грубость и нежность, его внезапные манеры – не то африканский мореплаватель, не то пьяный помещик – разрушили все милые обманы.
Сергей Львович говорил о Болдине, которого не знал, француз был придворным несуществующего двора, будущность была темна для Карамзина.
Вместе с Карамзиным ушел и француз, убедив сестрицу Аннет носить высокую прическу и не успев попросить взаймы.
Сергей Львович проводил гостей и вернулся омраченный. И потраченные деньги пошли прахом, и Карамзин ушел в неудовольствии. Словно все пустее и темнее в комнатах стало без Карамзина.
Всю жизнь старался быть как все и чтоб все было как у всех, и никогда ничего не выходило. Этот бюрлескный[17] тон старого дяди, которого не вынес Карамзин, возмущал и его, но он затруднялся выразить свое негодование.
Старый арап поднялся – и вдруг двинулся к лестнице – к антресолям.
– Мне внука поглядеть, – бормотал он, – и ничего боле. Внук-ат, он где?
Марья Алексеевна загородила ему дорогу.
– Не пущу, – сказала она со страхом и злостью. – Спит ребенок, не прибрано.
Арап отступил.
Глазки его тускло посмотрели на невестку.
– Деда? – прохрипел он. – Дядю? Крестик привез! От деда.
Он вытащил из кармана маленький золотой крестик, сжал его и потряс кулачком.
Надежда Осиповна все время смотрела на дядю со странным спокойствием, не отрываясь. Она всего два раза, ребенком, видела отца – и в первый раз он запомнился лучше и яснее, чем во второй. Она помнила цветочки на жилете со стразовыми пуговицами, пестрый бант, влажный поцелуй и удивительно легкую походку – он отскочил от нее, как мяч. И всю жизнь, все свои двадцать три года она помнила и знала, что это-то и было ее и матери несчастьем. И теперь она, широко раскрыв глаза, смотрела на дядю.
Вытянув вперед шею, со страшной решительностью, качаясь на легких коротких ножках, дядя шел на антресоли. Волосы торчком стояли на его седоватой голове.
Надежда Осиповна встала и пошла за дядей.
Тогда Марья Алексеевна отступилась.
Она села у камина и отвела глаза.
– Внука, – сказала она, – тоже, дед нашелся…
И она стала молчаливо глотать слезы, слезу за слезой, – как тогда в молодости, когда ирод ее тиранил.
Гости не знали, оставаться или уходить.
Василий Львович моргал и посапывал, как всегда бывало с ним в затруднительных обстоятельствах. Сестрицы щурились и украдкой пожимали друг другу руки, следя за переменами в лице Марьи Алексеевны.
Сонцев был искренне огорчен. Он хорошо поел, и какая-то непонятная происшедшая перемена мешала его пищеварению. Он дожевывал, огорченный, кулебяку.
Одна Капитолина Михайловна, как красавица, не давала себе труда тревожиться или сердиться на арапа. Тем более что старый арап, как казалось ей, не был нечувствителен к ее прелестям.
Но и на самом деле ни спора, ни ссоры, в сущности, не было, да и ссориться пока, по-видимому, не из чего было. Всегда вокруг Аннибалов образовывался этот непонятный для Марьи Алексеевны шум, свара, раздражительность, как в бане вокруг человека стоит клубом горячий туман.
Сергей Львович мелкими сердитыми шагами взобрался по лестнице наверх, за всеми.
– Не тревожьтесь, голубушка Марья Алексеевна – сказала Елизавета Львовна, – стоит ли тревожить себя, душенька!
Марья Алексеевна утерла глаза и нос платочком и, даже не посмотрев на сестриц, пошла на антресоли.
Аннет сжала украдкою руку сестре. Обе стали жадно прислушиваться.
Моргала и кланялась сальная свеча, с которой никто не снимал нагара. Окна были не завешены, и в них гляделась луна, стены голы. Белье лежало кучей в углу; на веревочке у печки сушились пеленки; распаренное корыто стояло посреди комнаты, и арап споткнулся. Беспорядок был удивительный. Трясущийся пламень придавал детской походный, кочевой, цыганский вид. Эта комната не была рассчитана на внимание посторонних. Пушкины были пустодомы.
Маленькая девочка присела перед арапом.
– Это кто? – спросил он изумленный.
– Ольга Сергеевна, батюшка, – сказала нянька, кланяясь. – Здравствуйте, батюшка Петр Абрамович.
Глаза у ней были молодые, она была разбитная, ловкая.
– Здравствуй, – сказал арап, – как звать?
В детской он присмирел, винные пары рассеивались.
– Аришкой, батюшка, из кобринских я, из Аннибаловых.
Арина говорила нараспев. Она была из Ганнибаловой вотчины и девкой отошла к Марье Алексеевне. Она низко кланялась Петру Абрамовичу. У Аннибалов дворня ходила по струнке.
– Дух здесь, Аришка, нехороший. Ты смотри за барчуком.
Сергей Львович подоспел.
Арап наклонился над ребенком.
– Тише, mon oncle[18], – сказала глухо Надежда Осиповна, – спит.
– Не спит, – сказал арап.
Ребенок в самом деле не спал. Он спокойно смотрел бессмысленными небольшими глазами цвета морской воды, еще не устоявшегося, утробного.
Арап всматривался в него.
– Белобрыс, – сказал он.
Он посмотрел еще.
– Кулер белесоватый.
Ребенок задвигался, смотря мимо всех.
– Расцелуйте его в прах! – закричал арап. – Честное аннибальское слово – львенок, арапчонок! Милый! Аннибал великолепный! В деда пошел! Взгляд! Принимаю! Вина!
Сергей Львович выступил. Пьяный арап распоряжался у него в доме, как у себя в вотчине. Несмотря на все свои чувства к жене, он всегда полагал, что несколько возвысил Аннибалов, породнясь с ними и подняв их до своего уровня. С детства он запомнил проезд какого-то вельможи по Петербургу, туман, фонарь, крик «Пади!» и калмыка с арапом в красных ливреях на запятках. Москву теперь клонило к старой знати. Турок Кутайсов был у всех в презрении.
Старый арап спугнул всех гостей и объявил Аннибалом и чуть ли не арапчонком его сына.
– Милостивый государь, – сказал Сергей Львович, вздыхая, с необыкновенным достоинством, – не устали ли вы с дороги и не время ли отдохнуть? И притом отца… отцу… Смею думать, сын мой не… львенок… и не арапчонок, а Пушкин, как я. Я ваше племя люблю и уважаю, – когда оно хорошее, – добавил он строго, – но согласитесь, что сын мой… что отец, как я…
Вдруг неожиданно легко арап поднял ребенка, побежал с ним к свече и поцеловал звонко и влажно на всю комнату.
Одной рукой держа ребенка, он другой сунул крестик в свивальник.
Марья Алексеевна сердито отнимала ребенка.
– Уронишь, – сказала она, отстраняя старика рукой, – прочь от ребенка, ироды.
Она стала качать мальчика, который наконец заплакал.
Арап обернулся к Сергею Львовичу. Он сделал одно короткое движение – схватился рукой за пояс, за саблю. Сабли не было, старик был давно в отставке.
– Как я… как ты! – захрипел он, и было удивительно, сколько низких, влажных хрипов есть в человеческой глотке. – Ты кто таков? Ты, сударь, – фьють!.. – свистнул он. – Свистун ты! А я – Аннибал. Вот мое племя!
Глаза его были влажные и дымные, он был пьян.
Сергей Львович побледнел.
– Не кричите, mon oncle, – сказала Надежда Осиповна глухо, и лицо ее пошло пятнами, – спит ребенок. Я кричать не позволю.
– На девку свою кричи, – тянула Марья Алексеевна далеким певучим голосом.
Арап попятился.
Губы у него прыгали и не находили слова.
– Пушкиных… забываю! – закричал он, сжав кулачки. – Прах отрясаю! – Он пнул ногою, стул и сорвался вниз по лестнице.
Слышно было, как он прогремел через залу и выбежал в сени.
Марья Алексеевна уложила ребенка в зыбку и вдруг сжалась в комочек, стала комочком, сухоньким, старым, востроносым; шмыгнула носом и прошла, тряся головой, куда-то.
Сергей Львович, все еще бледный, выпятив грудь, ходил по комнате. Он был ослеплен, оглушен срамом. Потом тихонько открыл двери и глянул вниз. Гостей не было.
Марья Алексеевна присела у окошка.
– Тоже, посол явился, – сказала она негромко, – дед.
Она трудно дышала. Голова ее качалась.
Генерал-майор шествовал через двор стремительно, неверными шагами.
Колымага ждала его.
– Дед, вишь, – сказала Марья Алексеевна, – сам еле ноги волочит. Горе мое!
А Сергей Львович долго еще хорохорился. Он все ходил, подпрыгивая, по детской и отшвыривал ногою разметанное по полу белье. Он старался понять, как начался, откуда взялся и куда зашел этот нелепый спор.
– Я готов всем жертвовать спокойствию, – говорил он, положа руку на сердце, – готов все стерпеть, и не в моем характере, друг мой… Но уж если меня затронут, и притом – где? – в моем же доме! Я не желаю, душа моя, более встречаться с этим… vieux raifort[19].
Тут он взглянул на Надежду Осиповну и обомлел. Она сидела на Аришкиной кровати, ногою качала колыбель, не смотря на него и не слушая. Глаза ее были раскрыты, и она, не мигая, плакала: из глаз текли большие мутные слезы. Она их не замечала… Потом она посмотрела на ребенка как на чужого. Вдруг она увидела Сергея Львовича, его походку, его прыгающие плечи, все его благородное негодование и вслушалась.
– Подите вон, – сказала она глухо.
И Сергей Львович, изумившись и втянув плечи, пошел из комнаты.
Она впервые его прогнала. Он даже толком не понял, за что.
– Выгнали дядю-то, – говорила шепотом в людской Арина, – надо быть, больше не приедет. Все кричал: мы, Аннибаловы! Меня признал. Двадцать лет не видал, а признал; у них взгляд вострый – беда!
– Пьяный приехал, – объяснял Никита, – характер у них непереносимый. И разговор грубый. Как на большой дороге. Генерал!
Глава вторая
Семейный корабль снялся с московского Елохова быстро и неожиданно: во флигельке стала протекать крыша, а съезжать было некуда. Марья Алексеевна собралась к себе в Петербург – продавать свой домик в Измайловском полку («дворня все в пустоту приведет – знаю их»). А Сергею Львовичу захотелось осмотреться. У него была в крови эта легкость передвижения: он любил освобождаться разом от всех тягот, сев в рессорную коляску или даже в наследственный рыдван. Он все позабывал тогда. При виде облаков и полей во взгляде у него появлялась неопределенная решительность – он любил дорогу.
Под скрип колес, при случайных встречах у него рождалось много счастливых и быстрых мыслей, а когда наступало полное их отсутствие, он сладко дремал.
Недолго думая, Пушкины переехали всей семьею в Петербург, а Сергей Львович, вспомнив приглашение тестя, поехал к нему в село Михайловское, предоставив жене и теще устраиваться на новом месте.
Свидание с тестем его смутило. Он ожидал родственных объятий, слез, раскаяния, воспоминаний и рисовал мысленно сцену прощения. Он прощал тестя от имени жены, да уж и Марьи Алексеевны, и своего.
Ничуть не бывало.
Глубокое равнодушие окружало старого арапа. Равнодушно пожал он руку зятю, машинально спросил о здоровье – и только через минуту улыбнулся долгой, бледной улыбкой. Потом они сидели на скамье, почернелой от дождей, желтые листья лежали по всем дорогам, и арап молчал. Лиловые щеки оползли на воротники, и глаза были застланы красной дымкой – тесть с утра кушал водку.
Он молчал и, двигая губами, смотрел на дорогу, листья, деревья. Он походил более на почернелое от пожара, оставленное людьми строение, чем на человека. Где его хваленая легкость – «как на пружинах», о которой помнили все, и Марья Алексеевна, и Аришка. Он забыл о собеседнике и, всему чужой, двигал вогнутыми губами. И только когда на повороте показались крестьянские девки в пестрых сарафанах, с кошелками в руках, и проплыли в ближний лесок за грибами, арап перестал жевать. Он проводил их глазами и обратился к зятю; взгляд его прояснился.
– Как хороши, – сказал он зятю и улыбнулся, как все Аннибалы – зубами.
Потом опять напала на него дремота; он дремал с открытыми неподвижными глазами, с двигающимся ртом и мерно подымающимся животом. Жилет его, дорогого шелка, со стразовыми пуговками, был засален.
В последний день он повел зятя погулять. Опираясь на тяжелую палку, он показал ему лес и границу своих владений, три молодых сосенки росли на пригорке, как ворота в усадьбу. Следы разрушения и заброшенности были везде. Скамья погнила, беседка покривилась, пашни поросли сурепицей. Потом они спустились. Справа и слева синели озера. Они постояли у озера. По озеру шла мелкая рябь, как морщины у старухи; потом их смывало, и вода молодела. Сергей Львович чувствовал одновременно и огорчение от всеобщего упадка, и странное довольство тишиною тестевых владений.
– Как море, – сказал он тестю, глядя на озеро.
Он никогда не видел моря. Арап посмотрел на него, не понимая. Он долго стоял, опираясь на палку, и зять более его не тревожил. Потом он взглянул на зятя и, как будто угадав его мысли, широко повел палкой по озеру, соснам, лесу.
– Все вам оставляю.
Тестевы владения остались для Сергея Львовича загадкою. Господский дом, который по рассказам Марьи Алексеевны был велик и хорош, – крыт был соломою. Длинный, шитый тесом, он походил на сарай. Банька рядом, справа службы, перед домом цветник – и эта соломенная крыша! Но жест старого арапа был широкий, озеро полноводно – и Сергей Львович уехал с недоумением, увозя на щеке влажный и равнодушный поцелуй тестя. Жирные, бледные льны шли по обеим сторонам, он ехал и думал, что это пшеница.
– Хороший нынче урожай, – сказал он с удовольствием вознице, кривому аннибаловскому Фомке.
В пути он несколько оправился, на ближней станции разговорился с двумя здешними помещиками и, приехав, долго хвалил прием тестя, значительно сказав жене и теще, что тесть одряхлел и, видимо, угасает, усадьба же запущена.
Теперь настала зима, а они все жили в Петербурге, не решаясь ни осесть, ни перебраться. У всех было в столице сомнительное расположение духа, никто не решался предпринять ничего основательного, и все считали время не более как на месяц вперед. Состояние императора было таково, что все менялось каждый день. Сергей Львович решил быть тише воды, осмотреться, но в Петербурге не оседать. Чем дале, тем лучше.
Так они жили в Измайловском полку, стараясь не слишком часто показываться на гуляньях и главных улицах, которые теперь были полны императором. Марья Алексеевна жила в самом средоточии военных, и знакомые офицеры, заходившие по старой памяти, рассказывали чудеса.
Нянька Арина, укутав барчука и напялив на него меховой картуз с ушами, плыла по Первой роте, по Второй, переулку и пела ребенку, как поют только няньки и дикари, – о всех предметах, попадавшихся навстречу.
– Вот солдат как шагает постановно. Вы на него взгляните, батюшка Александр Сергеевич, какой солдат… Шапочка медная… на солнце блестит… а под бляхой крест горит. Вот так шапочка. Вот вырастете и сами такую наденете.
Везде были солдаты. Латунная шапка с мальтийским крестом была на Преображенском солдате, шедшем по улице.
– А вот, батюшка Александр Сергеевич, и пушечки. Вот какие! Вот они грохочут, вот гудут. Что твой колокол. Вы шапоньку-то на уши да покрепче нахлобучьте, мороз, нельзя, заморозитесь. Пушечки. Да.
Арина плыла мимо артиллерийской казармы. Ворота были открыты, солдаты выкатывали пушки, а двое на корточках их чистили.
– Тетка, – сказал один негромко, когда нянька поравнялась, – по грибы, что ль, с барчуком вышла? Пушку не хочешь почистить?
– Без вас, без охальников, обойдуся, – сказала ровно Арина.
Она проплыла на главную, Измайловскую улицу. Ребенка она вела за руку. Он пристально, неподвижно на все глядел.
– Ай-ай, какие лошадушки – на седельцах кисточки, и кафтаны красные, шаровары бирюзовые, – пела Арина, – и шапочки бахарские, а ребятушки бородатые.
Это были казаки уральской сотни, которую император содержал в Петербурге. Они медленно ехали по широкой Измайловской улице. Улица была пустынна.
– Ай-ай, какой дяденька генерал едут. Да, батюшка. Сами маленькие, а мундирчики голубенькие, а порточки у их белые, и звоночком позванивает, и уздечку подергивает.
Действительно, маленький генерал дергал поводья, и конь под ним храпел и оседал.
– Сердится дяденька, вишь как сердится.
И она остановилась как вкопанная. Гневно дергая поводья, генерал повернул на нее коня и чуть не наехал. Он смотрел в упор на няньку серыми бешеными глазами и тяжело дышал на морозе. Руки, сжимавшие поводья, и широкое лицо были красные от холода.
– Шапку, – сказал он хрипло и взмахнул маленькой рукой.
Тут еще генералы, одетые не в пример богаче, наехали.
– Пади!
– На колени!
– Картуз! Дура!
Тут только Арина повалилась на колени и сдернула картуз с барчука.
Маленький генерал посмотрел на курчавую льняную голову ребенка. Он засмеялся отрывисто и внезапно. Все проехали.
Ребенок смотрел им вслед, подражая конскому скоку.
Сергей Львович, узнав о происшедшем, помертвел.
– Ду-ура, – сказал он, прижимая обе руки к груди. – Ведь это император! Дура!
– Охти, тошно мне, – сказала Арина, – он и есть.
Сергей Львович задыхался от события. Сперва он думал, что начнут разыскивать, и хотел немедля скакать в Москву. К вечеру успокоился. Пошел к приятелю, барону Боде, и осторожно описал событие. Барон пришел в восторг, и Сергей Львович осмелел.
Он, под строгим секретом, должен был рассказать все подробности происшествия, как император, грозно крикнув:
– Снять картуз! Я вас! – вздернул на дыбы своего коня над самой головой Александра – и проскакал в направлении к артиллерийским казармам.
– Первая встреча моего сына с сувереном, – сказал он с поклоном и развел руками.
Через неделю он окончательно решил, что в Петербурге оставаться небезопасно и нужно перебираться на житье в Москву. В России для него было всего два города, в которых можно было жить: Петербург и Москва.
Через месяц после того, как Сергей Львович спасся с семьею в Москву и, ходя в должность, желал одного: быть незаметным, – произошла смерть императора Павла.
Весть о смерти дошла до Москвы как-то необыкновенно быстро – чуть ли не в те же сутки, скорее самой скорой почты. Потом стали приходить подробности, и все оживилось. Император был убит, дворянские вольности возобновились. Французские круглые шляпы и панталоны разрешены. Всею душою Сергей Львович боялся двора и поэтому воображал себя в оппозиции. Он очень радовался со всеми забавному падению Кутайсова: как тот в одном белье бежал по улицам. Каково! Обер-шталмейстер! Москва стремилась в несколько дней наверстать великий павловский пост. В этот год на улицах и в домах болтали больше, чем в три предыдущие вместе. Балы шли беспрерывно.
Когда Надежда Осиповна выезжала, все в доме шло вверх дном. Она была ленива и никогда не одевалась ко времени. Но перед самым выездом начинали шнырять и носиться по дому девки, расплескивая из тазов горячую воду, обдавая паром и шурша отглаженными шелками. Надежда Осиповна покрикивала в своей комнате. Раздавался плеск вылитой воды и треск оплеух. Девки носились с красными опухшими щеками, и у них не было времени плакать. Надежда Осиповна, полуголая, мчалась в соседнюю комнату и вихрем пролетала назад. Сергей Львович жмурился не без удовольствия. Марья Алексеевна пожимала плечами и уходила к себе недовольная.
– На охоту ездить – собак кормить.
Потом Надежда Осиповна выходила из комнаты плавно и медленно, с достоинством, и Сергей Львович, щурясь, оглядывал ее, будто впервые ее видел. Они уезжали, оставляя за собою содом.
На балах теперь держали себя вольно, даже старики приободрились и молодились.
Иногда ночью дети просыпались и слышали: родители ссорились. Спали далеко за полдень.
Все себя в эти два месяца чувствовали героями дня, людьми на виду, все перепуталось – и старая знать, и люди помельче. У всех были надежды. Новая французская живописица Виже-Лебрень писала теперь каждый день портреты модных красавиц и написала в два присеста крохотный портрет Надежды Осиповны, очень милый, с локонами. Сергей Львович был недоволен, что нос горбат, но боялся сказать и хвалил.
Считая, что дворянские вольности избавляют его от дел, Сергей Львович прекратил хождение в должность. День был заполнен и без того. Он даже не успевал справиться со всеми делами. Быстро потрепав детей по щекам, он отправлялся в Охотный Ряд. Известные знатоки толпились у ларей, и брюхастые продавцы в синих кафтанах отвешивали поклоны. Все говорили вполголоса. Животрепещущая рыба лежала кучами. Заглядывали в жабры, в глаз – томный ли, смотрели: перо бледное или красное, принюхивались, обменивались мнениями и новостями. Тут же в ожидании стояли лакеи. Сергей Львович не всегда покупал рыбу, иной раз даже и не собирался. Это было нечто вроде Английского клуба, приятельские встречи. Приятнее таких встреч, да еще, пожалуй, тайных шалостей, не было в мире. Что перед ними блестящие и непрочные карьеры! Сергей Львович вовсе их и не желал.
Так проходило служебное время. Так шло месяца два и три. Потом Москва несколько угомонилась, все огляделись и заняли свои места. Сергей Львович вдруг стал порой огорчаться: надо же удрать такую дичь – переехать со всею семьею (и не без трудностей – сломалась в пути колымага) за месяц до совершения всего и начала нового века, Александрова. В Петербурге шла теперь раздача чинов и мест истинно умным людям; впрочем, и здесь, в Москве, Николай Михайлович Карамзин в несколько дней приобрел необыкновенный вес и получил два перстня с брильянтами. Сергея же Львовича новое царствование почему-то не коснулось, он в комиссариатском штате, да и туда не ходит, а жена опять на сносях.
Надежда Осиповна действительно была на сносях, и вскоре родился сын. Нарекли его Николаем.
Сергей Львович с изумлением увидел себя отцом разраставшегося семейства. У него не было ясных мыслей по этому поводу, и будущее вдруг стало казаться неверным; события шли одно за другим, застав его непредуготовленным. Вообще все в жизни шло быстро и не давало опомниться. Все, например, позабыли о том, что сестрица Аннет – невеста. Иван Иванович Дмитриев, поэт, купил себе и домик и садик в Москве, но не женился. Марья Алексеевна говорила, когда ее не слышали:
– Никогда и не думал. Приснилось ей.
Сестрица Аннет пожелтела и стала носить темные тона. Волосы взбивала по-прежнему, но стала прилежно ходить в церковь. Она считала себя и братьев жертвами; и Надежда Осиповна и Капитолина Михайловна были не из тех, которые могут устроить счастье. То же втихомолку думал про себя и Сергей Львович. Жена была прекрасная креолка, и все на нее заглядывались. Сергей Львович бледнел от ярости на балах, когда она танцевала с каким-нибудь высоким гвардейцем. Он вполне чувствовал тогда, что его рост мал. А между тем, как она забрюхатела, над ним был учрежден домашний надзор, который становился все тягостнее. Надежда Осиповна стремилась не выпускать из виду Сергея Львовича. Он даже не смел ущипнуть за щеку дворовую девку – вполне невинная шалость.
В этом неясном состоянии он стремился во что бы то ни стало вон из дому, в гости, от Бутурлиных к Сушковым, от Сушковых к Дашковым, а может, к кому и проще, и гораздо проще. По вторникам он ездил в Дворянский клуб. Он искал рассеяния, как будто гнался за потерянным временем или искал забытую вещь. Больше всего он теперь боялся, как бы новые события не отдалили от него друзей и знакомых и как бы знакомцы не возгордились. Небрежный поклон Дашкова привел его однажды в трепет. Глядя, как он ускользает со двора, Марья Алексеевна тихонько говорила старую песенку:
- Мне моркотно, молоденьке,
- Нигде места не найду.
К обеду или к вечеру, если обедал не дома – домашние обеды были довольно скаредные, – он чувствовал зато приятную усталость, вспоминал, зевая, bon mots[20] и нечаянные случаи за день. Надежда Осиповна задумчиво и подозрительно на него поглядывала, и Сергей Львович, заметив недоверие, начинал прилыгать. Она не во всем верила Сергею Львовичу и была права. Привыкнув еще с малых лет к рассказам Марьи Алексеевны о скрытности и уловках мужчин, она подозревала, что Сергей Львович имеет какую-либо низкую страсть на стороне. Жизнь с таким мужем была ненадежная. И действительно, Сергей Львович не все блистал в светском обществе, в последнее время он полюбил общество молодых сослуживцев, все по тому же проклятому комиссариатскому штату, еще мальчишек по возрасту, но душевно к нему расположенных. Он тайно играл с ними в карты. Устраивались светские игры: бостон, веньтэнь, макао и новомодные: штос, три и три. Сергей Львович предавался игре всем существом и трепетал от страсти, открывая карту. Когда он выигрывал, ему хотелось обнять весь мир, и опасался одного: как бы игрок не забыл о долге. Дома он упорно скрывал свои развлечения. Но когда бывал в выигрыше, ему стоило большого труда удержаться и не рассказать Надежде Осиповне. Он позванивал монетками в кармане и кусал себе губы. Потом вздыхал: в его собственном доме его не понимали.
Раз в месяц Сергей Львович, приняв озабоченное выражение, выезжал с семьею к матушке Ольге Васильевне, которая жила в Огородной слободе. Дом ее был большой, холодный, она никуда не выезжала. После жизни, проведенной в больших страстях, она управляла теперь кучей старух и тремя подслеповатыми лакеями. Управлять жизнью сыновей ей было уже не под силу, она только изредка роптала. Дочери были у нее в совершенном подчинении.
В доме была комната, заставленная разным хламом, превращенная в кладовую, куда она никогда не заходила. Сыновья, когда бывали, с привычной детской трусостью косились на запертую дверь: в этой комнате провел последние годы отец. О Льве Александровиче не вспоминали ни Ольга Васильевна, ни сыновья, по молчаливому сговору. Только подслеповатые лакеи иногда под вечер или ночью, когда не спалось, говорили о нем. Человек он был пылкий и жестокий и первую жену уморил из ревности к итальянцу-учителю, взятому в дом. Она умерла в его домашней тюрьме, в подвале, на соломе, в цепях. Итальянцу же он учинил такие непорядочные побои, что тот тут же на месте и умер.
Ольга Васильевна была его второй женой. Она уцелела. Под конец супруг одичал. Ему была отведена боковая, и Ольга Васильевна стала править домом и детьми. И была самая пора. Лев Александрович вышел в отставку сорока лет, сразу после смерти императора Петра III; он не захотел признать Екатерину императрицей и за это сидел два года в крепости. Выйдя из крепости, он тратил состояние с бешенством и злостью не то на самого себя, не то еще на кого-то. Он был любитель быстрой езды и загнал за свою жизнь конюшню дорогих коней. Встречные сворачивали в канавы, заслышав пушкинскую езду. Когда Ольга Васильевна принялась за счета и закладные, она почувствовала трясину под ногами: состояние оползало со всех концов. Она положила этому предел, утихомирила заимодавцев, собрала все, что осталось, и вывела детей в люди. Десять лет назад Лев Александрович умер. Давно дожидаясь этого, Ольга Васильевна после его смерти неожиданно почувствовала пустоту и скуку. Она перестала выезжать из дому и решила, что все равно никого не спасешь, ничего не остановишь, да и не к чему. Со времени мужнина падения Ольга Васильевна не переставала осуждать Екатерину и в особенности Орловых:
– Графы! Конюхи, им с кобылами возиться да на кулачки биться.
Законным царем она считала Петра Третьего и ворчала, когда при ней называли из усердия Екатерину матушкой:
– И матушка и батюшка!
Всю жизнь боясь припадков и странностей мужа, она с огорчением видела, что сыновья не в него, мелки. Строго их одергивая, она была бы, может, и рада, сама того не ожидая, большому с их стороны загулу, буйству или же другим крайностям. Нет! Это все кончилось. Сыновья – прыгуны.
Старуха протягивала Сергею Львовичу плоскую восковую руку для поцелуя и острыми глазками всматривалась в ненадежного сына. Оба сына были на подозрении в мотовстве и слабости. Она дважды переделывала завещание. Но Василья, Васеньку, она все же почитала, как старшего в семье, и извиняла его неудачи тем, что счастье не служит. О Сергее Львовиче она думала, что просвищется, и очень скоро, в пух. На невестку смотрела с испугом и была уверена, что «Сергея карьер не открывается» именно из-за нее. Детей она осторожно потрепывала по щекам, заглядывала в глаза и, сдержав вздох, тотчас усылала погулять.
– Что им в комнатах шуметь!
Сергей Львович преображался при матушке, как то бывало с ним, когда он приходил в комиссариатский штат. Вид у него был сдержанный. Он рассказывал старухе о Петербурге и придворных новостях и пугал заграничными событиями: говорил о французских победах, о Бонапарте и консульше Жозефине, креолке. Матушка косилась: Сергей Львович сыпал именами самых высоких петербургских людей, как будто только что с ними расстался. Случалось, он поругивал их:
– Ce coquin de[21] Кочубей, – говорил он.
Однажды он напугал мать, сильно обругав князя Адама Чарторижского, бывшего в силе.
– Аристократия его фальшивая, – сказал он, – а сам он батард[22], знаем мы эти дворские гордости. Мать его интриганка и гульливая полька, продалась французам – вот и все.
Ольга Васильевна расстроилась. Сынок, ни дать ни взять, норовил в крепость, как когда-то отец. И, с другой стороны, какую силу бунтовщики взяли, французы! Сын уже не казался ей более свистуном: в Москве знали, что времена неверные, царь молод, а третья правда у Петра и Павла. Старики теперь падали, молодые возвышались. Вот сидит сын с этим его коком надо лбом и с арапкою своею, а потом, смотришь, и в чести.
Старуха щурила на него глаза. Она была побеждена.
Вечером, лежа в постели, которую ей до того согревала самая толстая девка, Ольга Васильевна говорила своей полуслепой доверенной Ульяшке:
– Арапки теперь большую силу взяли. В Париже у набольшего ихнего – как зовут, не упомню, – тоже арапка в женах.
А Ульяшка ей поддакивала:
– Все как один – нового захотели, свежинки.