Сказка о глупом Галилее (сборник) Войнович Владимир
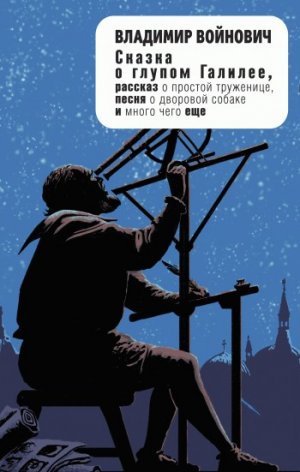
Секундное молчание нарушил Афанасьич.
– Не можем мы этого допустить, – мрачно сказал он, опуская голову. – Гринька был человек простой, и лежать ему среди простых людей. А ты какая ни на есть грешная, а Владычица, и похороны тебе будут особые.
- Ты, рябинушка, ты, кудрявая,
- Ты когда цвела, когда вызрела?
- Ты, рябинушка, ты, кудрявая,
- Ты когда взошла, когда выросла?
Старухи в черных одеждах выстроились в две шеренги по обеим сторонам дорожки, ведущей от крыльца к калитке. Крайняя начинала, остальные подхватывали, косясь на носилки, которые проносили между ними два мужика. Владычица лежала вся в белом и смотрела живыми глазами в небо. Старухи с песней поворачивали и шли вслед за носилками. В толпе, как и положено при настоящих похоронах, причитали и плакали бабы. Носилки принесли на кладбище и положили возле могилы. Афанасьич первым наклонился и поцеловал Владычицу в лоб. За ним по очереди пошли остальные.
– Доченька, моя родная! – кинулась к носилкам Авдотья, но ее тут же схватили и оттащили, бьющуюся в истерике, в сторону.
- Со восточной со сторонушки
- Подымалися да ветры буйные…
– Опускайте! – приказал Афанасьич.
А старухи еще громче завыли:
- Со громами да со гремучими,
- Со молоньями да со палючими…
И вырос на кладбище Владычиц новый холм.
На рассвете другого дня горбун Тимоха ходил по деревне и, как ни в чем не бывало, выкрикивал весело:
– Эй, народ, выходи, никто дома не сиди. Будем пить и гулять, Владычицу вызнавать.
Но никто не откликался на его веселый призыв. Наглухо были заперты двери и окна. Не бродила по деревне скотина, не копошились в кучах мусора куры, собаки забились в будки и не выглядывали. Даже дым не курился над трубами.
На поляне возле леса за большим столом сидели старики, готовые к церемонии вызнавания. Вопросительно и тревожно поглядывали они на сидевшего во главе стола Афанасьича, но тот с каменным выражением смотрел в одну точку перед собой и молчал.
Солнце поднялось уже высоко. Сбившийся с ног Тимоха медленно брел по деревне и, потеряв всякую надежду, уныло выкрикивал:
– Эй, народ, выходи, никто дома не сиди…
Потом сел в пыль посреди дороги и, обращаясь к молчащим избам, отчаянно закричал:
– Да что ж это деется, люди? Что же вы не выходите? Неужто теперь нам без веры жить?
Обхватив голову руками, он зарыдал.
И тогда со скрипом робко приотворилась какая-то дверь…
1968 год
Запах шоколада
Недавно В. В. оказался в польском городе Бжег на Одере, где ровно сорок лет тому назад стоял 159-й гвардейский истребительный, Краснознаменный и ордена Суворова третьей степени полк. Сначала В. В. ничего не мог вспомнить, но вдруг подуло каким-то ветром, возник шоколадный запах, он вспомнил, что да, тут была шоколадная фабрика, а рядом с ней солдатская столовая, а тут была (вот она тут и есть!) булыжная мостовая от столовой к казарме. Когда солдаты шли по этой дороге в столовую или из, вдоль строя бежали мальчишки и просили «зигарек». В. В. думал, что зигарек – это что-то курительное, а оказалось – часы. Привычка выпрашивать часы перешла к детям послевоенных лет от предыдущего поколения, произраставшего во времена немецкой оккупации. У германских солдат часы-штамповка ничего, говорят, не стоили, но у их советских преемников у самих наручные часы были редкость.
Дорога шла мимо озера, где, убегая в самоволку, В. В. на берегу, отдаленном от пляжа, в негустых зарослях ивняка встречался с девушкой по имени Элька Гемба. Они виделись регулярно, но всегда только днем, потому что вечером долгое отсутствие В. В. в казарме было бы замечено. Днем же он был почти всегда свободен, поскольку служил с некоторых пор планшетистом при командире полка, дежурил только во время нечастых ночных полетов, а в остальное время его ничем не занимали и не тревожили, может быть, потому как раз, что, отсутствуя то на ночных дежурствах, то в самоволках, он выпал из сферы внимания своих непосредственных мелких начальников.
Их знакомство произошло через папиросы «Неман», которые В. В. как авиамеханик получал по пачке в день. Она подошла, попросила закурить, потом подошла еще. Так оно и продолжилось. В. В. приходил со своим «Неманом», угощал ее, угощался сам, но их отношения, несмотря на настойчивые домогательства В. В., за пределы платонических, увы, так никогда и не перешли. Хотя она иногда обещала большее.
Она работала посменно на той самой шоколадной фабрике, и сама вся пахла шоколадом целиком, запах шоколада источали ее пальцы, губы и волосы. Этот запах кружил ему голову, сводил с ума не меньше, чем даже прикосновение к ней.
Ей было двадцать пять, а ему двадцать. Ему казалось, она не знала, как его зовут, и даже не интересовалась. Она называла его просто Мальчик, и ему это нравилось. Она учила его польскому языку, всяким словам, приличным и неприличным, и учила целоваться, а когда он слишком распускал руки, она убирала их оттуда, куда они забирались, прижимала к груди, целовала их и тихо шептала: «Я ти (тебе) дам. Мальчик. Скоро. Але не тераз (но не сейчас). Але дам».
Они встречались в кустах и только иной раз купались вместе, но расходились поврозь, потому что общение с ней грозило ему наказанием «за связь с местным населением», а это что-то близкое к моральному разложению и шпионажу. А у нее тоже могли быть немалые неприятности, потому что женщина, которая путается с русским солдатом, – это курва и достойна презрения.
Вспомнив Эльку, он вспомнил и весь этот город – до каждого дома и дерева и до прочих мелких подробностей и, оглядевшись вокруг, вдруг увидел: да здесь совсем ничего не изменилось! Все стоит на тех же местах и в том же виде, как сорок лет назад, словно время над этим местом не властно. И он вдруг почувствовал, что расхожее выражение «время летит» неправильно. Оно движется очень медленно, может быть, даже вообще стоит, а мы сквозь него пролетаем.
Впрочем, как сказать… Теория относительности утверждает, что если вы сидите в поезде и вам кажется, что поезд стоит, а дома и деревья едут мимо, то считайте, что так оно и есть.
В Бжег на Одере прикатил он из Чехословакии, из города Миловице, в котором еще недавно проживало сто тысяч человек советских военных и обслуживающих. После оставления его советскими войсками Миловице превратился в город-призрак. Пустые улицы, танковые ангары, армейский клуб, вывеска на строении «…ольствен… агазин» и сотни совершенно одинаковых «хрущебных» домов, пустых и безжизненных, как после атомной войны, с окнами нижних этажей, заклеенными (зачем?) газетами «Красная звезда», «Правда», «Известия».
Осматривая этот странный город-призрак, он вспомнил свою собственную службу и места, где она протекала, сел на свой «БМВ» и через четыре часа въехал в город, из которого его когда-то вывезли на тягаче «ГАЗ-63».
Добравшись до центра, он вылез из машины, стоял, вертел головой, но ничего не мог вспомнить.
Пока не подуло от шоколадной фабрики.
И тогда город стал проступать в памяти, как фотография в проявителе, и проявленное один к одному совместилось с реальностью. И он тут же нашел и узнал дома, которые были казармами, а теперь в них жили польские цивильные обыватели (obyvatel – по-польски гражданин), и дорогу, и саму столовую, и озеро, вдоль которого проходила дорога.
В пивной возле озера он встретил одного русского человека, который здесь жил давно, по-польски не понимал ни слова, но знал всех и за кружку пива готов был на многое. За кружкой пива В. В. спросил его, знает ли он Эльку Гемба, он сказал «знаю», и они поехали. По дороге В. В. ругал себя, думая, зачем ему встречаться с какой-то старухой, что может иметь она общего с девушкой, от которой он уходил с искусанными губами и распухшими частностями приложения к организму, но вдруг его охватило и испугало странное предположение, что если в этом городе время застыло, то, может быть, и Элька осталась такой, как была. И он встретит молодую женщину, которая скажет: «Мальчик, что же с тобой случилось?» Но его провожатый совпал в своих мыслях с В. В. и предупредил: «Но она старушка. Ей лет шестьдесят пять». В. В. согласился, что так примерно быть и должно, и, как ни странно, обрадовался.
Они подъехали к какому-то дому, В. В. постучался в дверь на первом этаже, дверь отворилась, и запах шоколада наплыл на него и окутал словно туман, в котором предметы немедленно потеряли отчетливость очертаний. Из тумана не сразу вырисовалась хозяйка, она стояла на пороге и выжидательно смотрела то на него, то на провожатого, вытирая мокрые руки о фартук. Ошалев от запаха, он внезапно потерял представление о времени, возрасте и обстоятельстве места действия и потянулся к ней руками и телом, но движение оказалось скорее воображаемым, чем физическим, и осталось незамеченным двумя другими участниками встречи, которые, впрочем, тоже были как будто взволнованы.
– Ну вот, – сказал провожатый, раскинув руки, одну – в сторону хозяйки, другую – в сторону В. В., как бы собираясь их обоих вместе соединить. – Ну вот.
В. В. пришел в себя и теперь смотрел на хозяйку с сомнением. Она была в возрасте, но взгляд еще живой и женский. Он спросил, зовут ли ее Элька. Она закивала головой: «Так, так, естем Элька». Он спросил фамилию. «Гембка». Не Гемба, а Гембка, но, может быть, он забыл, перепутал, может быть, Гембка. Он, вглядываясь в нее, спросил, не было ли у нее когда-нибудь русского друга, она, вглядываясь в него, сказала: нет, нет, русского не было. Хотя ей сейчас было бы приятно, чтобы какой-нибудь пожилой иностранец разыскивал ее из лирических побуждений. «Но может быть, ты не помнишь?» – спросил ее провожатый. «Нет, – сказала она, сожалея о несостоявшемся прошлом. – Если бы у меня такое было, я бы запомнила».
В. В. на этом не остановился и спросил, не жила ли пани когда-нибудь по улице Школьна, чтернаштя (четырнадцать). Пани покачала головой: нет, нет, не жила. И вдруг спохватилась: «Я знаю, о ком вы говорите! Она жила на Школьной, а потом переехала на Костюшко, у нее дочери лет уже, может, сорок. Да, правильно, ее звали Элька Гемба, «але она юж не жие» (но ее уже нет в живых).
Правду сказать, В. В. не очень-то удивился, он даже и не очень-то надеялся увидеть ее живой. Он сказал: извините, пани. Пани сказала: ну что вы, что вы. Она закрыла дверь, а он начал спускаться вниз, но вернулся и не успел еще дотянуться до кнопки, как дверь отворилась и хозяйка возникла снова с таким выражением, словно надеялась, что приезжий напомнит ей что-то, что сама она в памяти не удержала.
– Скажите, – сказал В. В. – вы работаете на шоколадной фабрике?
На фабрике? Шоколадной? Она удивилась: почему пан так думает? Пан объяснил: пахнет шоколадом. Правда? Она смутилась, как будто этот запах уличал ее в чем-то и соотносился с ней не по праву. Ах да! Она делала торт. Для внука. У него день рождения. И для него шоколадный торт. А на фабрике она не работает, пенсионерка. А когда работала, работала не на фабрике, а…
– Пшепрашем, пани, – перебил он ее. – Пшепрашем и привет вашему внуку. И передайте ему от меня… – Он снял с себя часы… чепуховые… та же штамповка, но современная, с календарем, будильником, таймером, чем-то еще и уверением, что в этих часах можно нырять на пятьдесят метров. – Вот… от меня… зигарек…
Провожатый вышел с ним на улицу и предложил поехать к Элькиной дочери. В. В. не захотел, а он спросил: «Почему ж ты не хочешь ее увидеть? Может быть, она твоя дочь?» – «Нет, – сказал В. В., – она не может быть моей дочерью». – «Почему?» – «Потому что не может быть».
Хотя так могло быть, но так не случилось. В день последнего их свидания В. В. расхрабрился и проявил большую настойчивость, и она уже почти совсем поддалась, но в последнее как будто мгновение опомнилась, оттолкнула его от себя и твердо сказала: нет, так не бенде (не будет). Он обиделся и отодвинулся. Она придвинулась, поцеловала и сказала на ухо, словно кто-то мог их подслушать: «Я ти кохам (я тебя люблю), Мальчик, я ти кохам». Он продолжал сопеть обиженно и услышал старый текст с новой вариацией: «Я ти дам. Але не тераз. Але не тутай (не тут)».
– Когда? Где? – спросил он сердито, подозревая, что ответа не будет, а будет сдавленный смешок, нежный поцелуй и повторение, что але не тераз.
– Ютро (завтра), – сказала она просто. – Ютро вечорем. Пшидешь до мне, Школьна, чтернаштя…
И стала объяснять ему, что она хочет, чтобы все было красиво. Чтобы были вино, свечи…
– Я на тебе женюсь! – вдруг пообещал он, хотя его никто за язык не тянул. Но он не врал, чувствовал, что он правда хочет прийти к ней, и прийти навсегда.
– Глупый, глупый, – сказала она, произнося это слово на польский манер, когда «л» почти не слышится и слово звучит как «гупый». – Гупый, то ти не вольно (нельзя).
– Можно, – сказал он с вызовом не слышащим его высшим силам. – Можно. Я ничей не раб и сам знаю, на ком можно жениться, на ком нельзя.
– Не вольно, – повторила она. – Ти ниц (ничего) не вольно, але я ти дам. Ютро вечорем, Школьна, чтернаштя. Запаментал (запомнил)? Школьна, чтернаштя…
…В тот день под влиянием каких-то неосознанных ими ощущений они расслабились и пошли по городу вместе. Никогда этого не делали раньше. А тут… Пошли вместе, и она взяла его под руку. И он шел, замерев, желая на всю жизнь приютить ее руку здесь.
Они не заметили группу военных на другой стороне улицы. Это были офицеры чужой, танковой, части и с ними один солдат.
Между прочим, в Советской армии между родами войск всегда была вражда, такая же бессмысленная и такого же точно происхождения, какая бывает между живущими по соседству народами. В. В. приходилось служить в местах, где встретить в темном закоулке человека с погонами другого цвета бывало страшней, чем солдата враждебной армии.
Солдат в черных погонах приблизился ленивой рысцой и, никак не обращаясь, сказал:
– Старший лейтенант Куроедов приказал тебе подойти.
Будучи человеком законопослушным (не очень, не очень), В. В. в другое время обязательно бы (может быть) подошел. Но тут с ним была девушка, в которую он был по уши (сегодня он это понял), потерявши голову (ой, что-то тут, кажется, грамматически не согласуется), в общем, совсем не в себе.
Элька хотела немедленно выдернуть руку, но он ее придержал и, слегка только повернув голову к гонцу, сказал:
– Если старшему лейтенанту нужно, скажи ему, пусть подойдет.
Гонец порысил назад, к офицерам, доложил, и В. В. увидел, что от группы офицеров отделился и направляется к ним старший лейтенант, наверное Куроедов.
– Мальчик, втекай (беги)! – прошептала Элька и вырвала руку из-под его подмышки.
– Зачем же? – спросил он беспечно.
Офицер прибавил шагу.
– Мальчик! – сказала Элька.
Он взял ее руку, чтобы пристроить на старое место.
Офицер побежал.
– Мальчик, – закричала она шепотом. – Мальчик, я ти прошу, втекай и запаментай: Школьна, чтернаштя…
Наконец-то он понял, что она права, и потек. Будучи лет на шесть-семь-восемь моложе старшего лейтенанта Куроедова, ему от последнего оторваться было не трудно. Но трудней было уйти от реальности.
Утром следующего дня 159-й гвардейский истребительный, Краснознаменный и ордена Суворова третьей степени полк был выстроен на плацу, и, сопровождаемый замполитом полка (под присмотром начальника особого отдела), старший лейтенант Куроедов ткнул пальцем в одну из выпяченных грудей и сказал уверенно:
– Он!
После чего В. В. был доставлен на гарнизонную гауптвахту, а оттуда прямо на поезд и в конце концов сам себя обнаружил на пересыльном пункте (армейском, а не тюремном) в городе Кинель Куйбышевской области. Власти проявили свойственный им гуманизм и не посадили преступника, а всего лишь выслали на родину.
Ужин при свечах с обещанными последствиями на Школьной, чтернаштя, не состоялся. И в появлении когда-то на свет Элькиной дочери, проживающей и поныне в городе Бжеге на Одере, В. В. ни малейшим образом не повинен.
А путешествие сорок лет спустя закончилось тем, что таможенник на польско-чешской границе спросил В. В., что он везет. В. В. показал две бутылки вина.
– А шоколад? – поинтересовался таможенник и попросил открыть багажник. Там не оказалось ничего, кроме запаски, набора инструментов и буксировочного троса на всякий случай. – Странно, – сказал таможенник, – очень странно, но ваша машина пахнет так, как будто сделана из шоколада.
– Моей машине это приятно слышать, – ответил В. В., – но она сделана в основном из металла. Правда, из надежного металла, потому что это «БМВ».
– Хорошая машина, – подтвердил таможенник с уважением. – Пан не собирается ее продать?
И, узнав, что пан не собирается, вернулся к теме шоколада, которым, по его мнению, где-то что-то все-таки пахло. В. В. ничем ему помочь не мог. Ничего похожего на шоколад он с собою не вез, кроме памяти, которая может хранить запахи, но вряд ли способна их источать.
1994
В кругу друзей
Не очень достоверный рассказ
об одной исторической вечеринке
Этот дом стоял за известным всему миру высоким забором из красного кирпича. В доме было много окон, но одно из них отличалось от всех прочих хотя бы тем, что светилось во всякое время суток. И люди, собираясь по вечерам на широкой площади перед забором, вытягивали шеи, до слез напрягали глаза и взволнованно говорили друг другу:
– Вон, видите, оно светится. Он не спит. Он работает. Он думает о нас.
Людям было лестно, что он думает именно о них, а не о чем-нибудь постороннем.
Если кто-нибудь из провинции ехал в этот город или должен был остановиться проездом, ему наказывали обязательно побывать на той знаменитой площади и посмотреть, горит ли окно. И осчастливленный житель провинции, возвращаясь домой, авторитетно докладывал на закрытых и общих собраниях: да, горит, да, светится, и, судя по всему, он действительно не спит и думает о нас.
Конечно, уже и в те времена некоторые люди злоупотребляли доверием своих коллективов: вместо того чтоб смотреть на окно, мотались по магазинам – где бы чего достать. А по возвращении все равно докладывали: светится, – и попробуй скажи, что нет.
Окно, конечно, светилось. Но того, про кого говорили, что он не спит, за тем окном никогда не бывало. Его заменяло гуттаперчевое чучело, сделанное лучшими мастерами, да так искусно, что, пока не потрогаешь, нипочем не поймешь, что оно не живое. Чучело повторяло основные черты оригинала и держало в руке изогнутую трубку английской работы, к которой при помощи специальных устройств подавался в определенном ритме табачный дым.
Что касается его самого, то он трубку курил только на людях, а усы носил накладные. Жил он совсем в другой комнате, в которой не было не то что окон, но даже дверей, а был потайной лаз через сейф с дверцами на две стороны, стоявший в официальном его кабинете.
Он любил эту комнату, где можно было быть самим собой: не курить трубку, не носить усы и вообще жить просто и скромно, соответственно обстановке, состоявшей из железной кровати с полосатым, набитым соломой матрацем, таза с теплой водой для умывания и старенького патефона с набором пластинок, на которых он собственноручно отмечал: хорошо, посредственно, замечательно, дрянь.
Здесь, в этой комнате, проводил он лучшие часы своей жизни тихо, спокойно; здесь, втайне от всех, жил иногда со старушкой-уборщицей, которая через тот же сейф пролезала к нему по утрам с веником и ведром. Он звал ее к себе, она по-деловому ставила веник в угол, отдавалась, а затем снова продолжала уборку. За многие годы он не обмолвился с ней ни словом и даже не знал толком, одна это старушка или каждый раз разные.
Но однажды с ней произошел странный случай: она вдруг стала закатывать глаза и шевелить беззвучно губами. Он испугался и спросил:
– Ты чего?
– Да вот я думаю, – с безмятежной улыбкой сказала старушка. – Плименница ко мне приезжает, братнина дочка. Угощенье надо приготовить, а денег всего три рубли. То ли купить на два рубли пошена, а на рупь масла, то ли на два рубли масла, а на рупь пошена.
Его тогда глубоко тронула эта народная мудрость, и он написал записку на склад, чтобы старухе выдали сколько надо пшена и масла. Старуха, не будь дура, отнесла записку не на склад, а в Музей Революции, где получила такую сумму, что купила под Москвой домик, коровку, ушла с работы и, по слухам, до сих пор возит молоко на Тишинский рынок.
А он, вспоминая тот случай, часто говорил соратникам, что настоящему диалектическому мышлению надо учиться у народа.
Как-то, проводив старушку и оставшись один, он завел патефон и под музыку думал о чем-то великом. И под музыку вспомнилось ему далекое детство в маленьком кавказском городке, вспомнилась мать, простая женщина с морщинистым скорбным лицом, и отец, упорным и каждодневным трудом достигший заметных успехов в сапожном искусстве.
«Coco, из тебя никогда не выйдет настоящий сапожник. Ты хитришь и экономишь на гвоздях», – говорил, бывало, отец, ударяя его колодкой по голове.
Это все не прошло даром, и теперь, в позднем возрасте, его часто мучили жестокие головные боли. Если бы отца воскресить и спросить: разве можно бить ребенка колодкой по голове? Как ему хотелось, как страстно хотелось воскресить отца и спросить…
Но сейчас его волновало другое. До него доходили мрачные слухи, что Адик, с которым он в последнее время крепко подружился, собирается изменить дружбе и перейти границу. Он считал себя самым вероломным человеком на свете и не мог поверить, что есть человек еще вероломнее. Его призывали приготовиться к защите от Адика, он эти призывы расценивал как провокацию и ничего не делал, чтобы не обидеть Адика напрасной подозрительностью. Самый подозрительный человек на земле, в отношениях с Адиком он был доверчив, как дитя.
Все же, чем ближе была самая короткая ночь, тем тревожнее было у него на душе. Боязно было оставаться в ту ночь одному.
* * *
Вечером, накануне самой короткой ночи, он надел свой выцветший полувоенный костюм, приладил под носом усы, раскурил трубку и стал тем, кем его знали все, то есть товарищем Кобой. Но прежде чем выйти в люди, он обратился к большому зеркалу, висевшему на стене против его кровати. С трубкой в руке мягкой походкой прошел он перед зеркалом туда и сюда, искоса поглядывая на свое отражение. Отражением он остался доволен. Оно передавало некоторую величественность отражаемого объекта, если не вглядываться слишком подробно. Но кто же позволит себе разглядывать товарища Кобу подробно? Усмехнувшись, товарищ Коба кивнул своему отражению и обычным путем, через сейф, пролез к себе в кабинет. Здесь он сел за стол и принял такую позу, словно работал, не отрываясь, целые сутки. Не меняя позы, нажал кнопку звонка. Вошел личный его секретарь товарищ Похлебышев.
– Послушай, дорогой, – сказал ему товарищ Коба, – что ты все ходишь со своими бумажками, как какой-то бюрократ, честное слово. Собери лучше наших ребят, пусть придут после работы, надо как-то отдохнуть, отвлечься, поболтать, повеселиться в дружеском тесном кругу.
Похлебышев вышел и вернулся.
– Все собрались и ждут вас, товарищ Коба.
– Очень хорошо, пускай подождут.
Он уже успел увлечься интереснейшим делом – вырезал из свежего номера «Огонька» портреты передовиков производства, мужские головы приклеивал к женским туловищам и наоборот. Получалась прелюбопытная композиция. Правда, заняла она у него довольно много времени.
Наконец он появился в той комнате, где его ожидали. На столе в три ряда стояли бутылки «Московской», «Боржоми» и сухого вина «Цинандали». Закуски тоже хватало. Ребята, во избежание путаницы, занимали за столом свои места в алфавитном порядке: Леонтий Ария, Никола Борщев, Ефим Вершилов, Лазер Казанович, Жорж Меренков, Опанас Мирзоян и Мочеслав Молоков. При появлении Кобы все поднялись из-за стола и приветствовали вошедшего бурными аплодисментами и возгласами: «Да здравствует товарищ Коба!», «Слава товарищу Кобе!», «Товарищу Кобе ура!»
Товарищ Коба обежал глазами лица ребят и удивился, заметив свободное место между Вершиловым и Казановичем.
– А где же наш верный соратник товарищ Жбанов? – поинтересовался он.
Похлебышев выступил из-за его спины и доложил:
– Товарищ Жбанов просил разрешения задержаться. Его жена умирает в больнице, ей хочется, чтобы последние минуты он побыл рядом с ней.
Товарищ Коба нахмурился. По лицу его пробежала легкая тень.
– Интересное получается положение, – сказал он, не скрывая горькой иронии, – мы здесь собрались, ждем, а ему, видите ли, женский каприз дороже внимания товарищей. Ну что ж, подождем еще.
Сокрушенно покачав головой, он вышел и вернулся к себе в кабинет. Заниматься было вроде бы нечем, все картинки из «Огонька» он вырезал, остался только кроссворд. Он сунул кроссворд Похлебышеву.
– Ты читай, а я буду отгадывать. Что там у нас по горизонтали?
– «Первая грузинская нелегальная газета», – прочел Похлебышев и сам же закричал: – «Брдзола»! «Брдзола»!
– Что ты мне подсказываешь? – рассердился Коба. – Я и сам мог бы угадать, если б подумал. Ну ладно, теперь читай по вертикали.
– «Крупнейшее доисторическое животное», – прочел Похлебышев.
– Это очень просто, – сказал товарищ Коба. – Самое крупное животное – слон. Почему не пишешь «слон»?
– Не подходит, товарищ Коба, – робея, сказал секретарь.
– Не подходит? Ах да, доисторическое. Тогда пиши «мамонт».
Похлебышев склонился над кроссвордом, потыкал острием в клетки, поднял на товарища Кобу отчаянные глаза.
– Опять не подходит? – удивился Коба. – Да что же это такое? Разве может быть животное крупнее, чем мамонт? Дай-ка сюда. – Посасывая трубку, смотрел, считал, размышлял вслух: – Десять букв. Первая буква «бэ». Может быть, бармалей, нет? Нет. Баран, бурундук – все это довольно мелкие животные, как я понимаю. А что, если позвонить нам нашим видным ученым-биологам? Что нам гадать, пусть ответят научно: было животное на «бэ» крупнее, чем мамонт, или же не было. А если не было, то автору этого кроссворда я не завидую.
Поздно ночью в квартире академика Плешивенко раздался резкий телефонный звонок. Хриплый и властный голос срочно потребовал академика к аппарату.
Сонная жена академика сердито сказала в трубку:
– Товарищ Плешивенко не может подойти к телефону. Он не здоров и спит.
– Разбудить! – последовал короткий приказ.
– Как вы смеете! – возмутилась жена. – Вы знаете, с кем говорите?
– Знаю, – нетерпеливо ответил голос. – Разбудить!
– Но это безобразие! Я буду жаловаться! Я позвоню в милицию!
– Разбудить! – настаивал телефон. Но академик и сам уже пробудился.
– Троша, – кинулась к нему жена. – Троша, ты слышишь?
Троша недовольно взял трубку и услыхал:
– Товарищ Плешивенко? Сейчас с вами будет говорить лично товарищ Коба.
– Товарищ Коба? – Плешивенко словно ветром сдуло с постели. В одних кальсонах, босой, стоял он на холодном полу. Жена со смешанным выражением счастья и ужаса стыла рядом.
– Товарищ Плешивенко, – раздался в трубке знакомый голос с кавказским акцентом, – извините, что звоню вам так поздно…
– Что вы, товарищ Коба… – захлебнулся Плешивенко. – Я так счастлив… Я и моя жена…
– Товарищ Плешивенко, – перебил Коба, – я вам, собственно говоря, звоню по делу. Тут у некоторых наших товарищей родилась довольно-таки смешная и необычная мысль: а что, если в целях поднятия производства мяса и молока вернуть в нашу фауну крупнейшее доисторическое животное… черт, никак не могу вспомнить название. Помню, что из десяти букв, на «бэ» начинается.
– Бронтозавр? – подумав, неуверенно спросил Плешивенко.
Коба быстро прикинул на пальцах:
– Бэ, рэ, о, нэ… – Прикрыл трубку ладонью и, подмигнув лукаво, шепнул Похлебышеву: – Запиши: «бронтозавр». – И громко сказал в трубку: – Совершенно верно. Именно бронтозавр. Как вы относитесь к этой идее?
– Товарищ Коба, – растерялся Плешивенко, – это очень смелая и оригинальная идея… То есть я хотел сказать, что это просто…
– Гениально! – очнувшись от оцепенения, ткнула академика кулаком в бок жена. Она не знала точно, о чем идет речь, она знала, что слово «гениально» в таких случаях никогда не бывает лишним.
– Это просто гениально! – решительно заявил академик, тараща глаза в пространство.
– Для меня это просто рабочая гипотеза, – скромно сказал товарищ Коба. – Сидим, работаем, думаем.
– Но это гениальная гипотеза, – смело возразил академик. – Это величественный план преобразования животного мира. Если только вы разрешите нашему институту взяться за разработку хотя бы отдельных аспектов проблемы…
– Мне кажется, об этом еще надо очень крепко подумать. Еще раз извините, что так поздно вам позвонил.
Плешивенко долго стоял с трубкой, прижатой к уху, и, напряженно вслушиваясь в далекие частые гудки, шептал благоговейно, но громко:
– Гений! Гений! Какое счастье, что мне довелось жить с ним в одну эпоху!
Академик не был уверен, что его слушают, но надеялся, что не без этого.
Когда товарищ Коба вернулся в общую комнату, все было в порядке: Антона Жбанова успели доставить и водворить на отведенное место. Леонтий Ария разлил водку в большие фужеры, товарищ Коба провозгласил первый тост.
– Дорогие друзья, – сказал он, – я пригласил вас сюда для того, чтобы в дружеском тесном кругу отметить самую короткую ночь, которая сейчас наступила, и самый длинный день, который придет ей на смену…
– Ура! – крикнул Вершилов.
– Не спеши, – поморщился Коба. – Ты всегда спешишь поперед батьки в пекло. Я хочу провозгласить тост за то, чтобы все наши ночи были короткие, чтобы все наши дни были длинные…
– Ура! – крикнул Вершилов.
– Тьфу ты, мать твою так! – Товарищ Коба, рассердившись, плюнул ему в лицо.
Вершилов смахнул плевок рукавом и осклабился.
– Я также хочу провозгласить тост за самого мудрого нашего деятеля, за самого стойкого революционера, за самого гениального…
Вершилов на всякий случай хотел еще раз крикнуть «ура!», зная, что каши маслом не испортишь, но товарищ Коба на этот раз успел плюнуть прямо в открытый для выкрика рот.
– …за великого нашего практика и теоретика, за товарища… – Коба выдержал многозначительную паузу и четко закончил: – Молокова.
В комнате стало тихо. Меренков переглянулся с Мирзояном, Борщев расстегнул ворот украинской рубахи, Ария хлопнул в ладоши и схватился за задний карман, из которого выпирало что-то угловатое.
В дверях появились и застыли две безмолвные фигуры.
Молоков, бледнея, отставил фужер и, поднявшись на ноги, вцепился в спинку стула, чтоб не упасть.
– Товарищ Коба, – упрекнул он коснеющим языком, – за что? Зря обижаете. Вы же знаете, что я недостоин, что у меня и в мыслях ничего похожего не было. Вся моя скромная деятельность – только отражение ваших великих идей. Я, если можно так выразиться, только рядовой проповедник кобизма, величайшего учения нашей эпохи. Я, если прикажете, готов отдать за вас все, даже жизнь. Это вы самый стойкий революционер, вы – великий практик и теоретик…
– Гений! – провозгласил Ария, поднимая фужер левой рукой, так как правая лежала еще на кармане.
– Замечательный зодчий! – констатировал Меренков.
– Лучший друг армянского народа, – вставил Мирзоян.
– И украинского, – добавил Борщев.
– А ты, Антоша, что же молчишь? – обратился Коба к грустному Жбанову.
– А что говорить мне, товарищ Коба? – возразил Жбанов. – Товарищи очень хорошо осветили вашу разностороннюю роль в истории и в современной жизни. Мы, может быть, еще слишком мало об этом говорим, может быть, слишком стесняемся высоких слов, но ведь это же все правда, все это действительно так, и сама наша жизнь повседневно дает нам много наглядных примеров того, что кобизм все глубже и глубже проникает в сознание масс и становится поистине путеводной звездой для всего человечества. Но мне, товарищ Коба, хотелось бы здесь, в непринужденной товарищеской обстановке, напомнить еще об одном громадном таланте, которым вы обладаете и о котором с присущей вам скромностью не любите говорить. Я имею в виду ваш литературный талант. Да, товарищи, – возвысив голос, сказал он, обращаясь уже ко всем. – Недавно мне довелось еще раз перечесть старые стихи товарища Кобы, которые он подписывал псевдонимом Соселло. И я должен сказать со всей прямотой, что стихи эти, как драгоценные жемчужины, могли бы украсить сокровищницу любой национальной литературы, всей мировой литературы, и если бы был жив сейчас Пушкин…
И тут Жбанов заплакал.
– Ура! – крикнул Вершилов, на этот раз тихо и безвозмездно.
Обстановка разрядилась. Леонтий хлопнул в ладоши – две безмолвные фигуры возле дверей испарились. Товарищ Коба смахнул со щеки набежавшую внезапно слезу. Может быть, он не любил, когда ему говорили такие слова. Но еще больше он не любил, когда ему таких слов не говорили.
– Спасибо, дорогие друзья, – сказал он, хотя слезы мешали ему говорить. – Спасибо за то, что вы так высоко цените мои скромные заслуги перед народом. Я лично думаю, что мое учение, которое вы так удачно назвали кобизмом, действительно хорошо не потому, что оно – мое учение, а потому, что оно передовое учение. И вы, дорогие друзья, вложили немало сил для того, чтобы сделать его действительно таковым передовым. Так выпьем же без ложной скромности за кобизм.
– За кобизм! За кобизм! – подхватили товарищи. Хлопнули по фужеру, потом еще. После четвертого фужера товарищ Коба решил поразвлечься и попросил Борщева сплясать гопака.
– У тебя, хохол, это очень хорошо получается, – поощрил он.
Борщев с места пошел вприсядку, Жбанов аккомпанировал на рояле, остальные прихлопывали в ладоши.
В это время бесшумный помощник принес Жбанову телеграмму, в которой сообщалось, что жена Жбанова скончалась в больнице. Это сообщение рассердило Жбанова.
– Не мешайте мне, – сказал он помощнику. – Вы же видите, что я занят.
Помощник удалился. Пока еще твердой походкой подошел лично товарищ Коба. Шершавой мужской ладонью погладил он верного соратника по голове.
– Ты настоящий большевик, Антоша, – сказал он проникновенно.
Жбанов поднял на учителя преданные и полные слез глаза.
– Играй, играй, – сказал товарищ Коба. – Из тебя мог бы получиться очень большой музыкант. Но все силы, весь свой талант ты отдаешь нашей партии, нашему народу.
Коба отошел к столу и сел напротив Молокова, Мирзояна и Меренкова, которые о чем-то толковали между собой.
– О чем беседа? – поинтересовался товарищ Коба.
– Мы говорим, – охотно отозвался Молоков, сидевший в центре, – что контракт с Адиком, заключенный по вашей инициативе, был весьма мудрым и своевременным.
Коба нахмурился. В свете поступавших сообщений меньше всего ему хотелось вспоминать об этом проклятом контракте.
– Интересно, – сказал он, глядя в упор на Молокова, – интересно мне знать, Моча, почему ты носишь очки?
Снова запахло грозой. Жбанов стал играть несколько тише. Борщев, приседая, поглядывал то на Молокова, то на Кобу. Меренков с Мирзояном на всякий случай отодвинулись, каждый к своему краю стола.
Молоков, белый как полотно, поднялся на непослушные ноги и, не зная, что сказать, молча смотрел на товарища Кобу.
– Так ты не можешь сказать мне, почему ты носишь очки?
Молоков молчал.
– А я знаю. Я очень хорошо знаю, почему ты носишь очки. Но я тебе этого пока не скажу. Я хочу, чтобы ты сам подумал своей головой и сказал мне правду, почему ты носишь очки.
Погрозив Молокову пальцем, Коба вдруг уронил голову в тарелку с зеленым горошком и тут же заснул.
– Надо ноги размять, – бодро сказал Мирзоян и с независимым видом вылез из-за стола. Вылез и Меренков. Пользуясь бесконтрольностью, Вершилов и Казанович сели в угол сыграть в картишки. Борщев, не получивший разрешения на отдых, все еще плясал под аккомпанемент Жбанова, но уже халтурил и не приседал, а лишь слегка подгибал ноги.
Ария играл сам с собой в «ножички».
Эта мирная картина неожиданно рухнула. Вершилов вдруг размахнулся и врезал Казановичу звонкую оплеуху. Казанович не стерпел и с визгом вцепился ногтями в лицо Вершилова. Покатились по полу.
Разбуженный шумом, поднял голову лично товарищ Коба. Заметив это, Борщев с новой силой пустился вприсядку, Жбанов заиграл в более быстром темпе, а Меренков и Мирзоян в такт музыке снова стали прихлопывать.
– Хватит, – сердито махнул рукой Коба Борщеву. – Отдохни.
Никола, шатаясь, подошел к столу и выпил фужер «Боржоми».
Вершилов и Казанович, рассыпав карты, все еще катались по полу. Казановичу удалось схватить противника за правое ухо, Вершилов же норовил ударить Казановича коленом ниже живота. Коба подозвал Арию.






