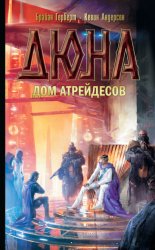Мастер Тойбин Колм

У Алисы были друзья, она принимала гостей и ходила на прогулки и пикники. Она научилась ладить с сестрами друзей своих братьев. Но Генри наблюдал за ней, когда в комнату входил какой-нибудь молодой человек, и замечал перемену в ее поведении. Она не могла расслабиться, а молчание давалось ей с огромным трудом. Она становилась словоохотливой, и в речах ее бессмыслица перемежалась с парадоксом. В ней чувствовались ужасный надрыв и беспокойство. Он видел, как изнуряют ее подобные светские события.
Даже семейные трапезы могли стать для нее испытанием, когда Боб и Уилки научились получать удовольствие, дразня ее и пользуясь ее беззащитностью. В те годы их отец буквально не находил себе места, и они пересекли Атлантику в поисках чего-то, не понятного никому из них, пытаясь отвлечься от страстного и нетерпеливого отцовского смятения. Их тащили из города в город, из гостиниц в апартаменты, они все время меняли домашних учителей и школы. Они свободно говорили по-французски и знали, что они странные. Из-за этого они – все пятеро – сильно отличались от сверстников, зная больше и в то же время меньше других. Больше – о богатстве, истории, европейских городах, больше об уединении и неопределенности, о том, как оставаться в одиночестве и как быть независимым. Меньше – об Америке, о паутине связей и привязанностей, которую сплетали их современники. В те годы они научились опираться друг на друга, предлагать друг другу приватный язык, защиту и слаженность действий. Они напоминали старинный город-крепость. Никто, сколь бы упорной ни была осада, не мог разрушить их стены. И Алиса, взрослея, оказалась в западне за этими стенами.
Сам Генри плохо помнил визит Теккерея на их семейный ужин в Париже, хотя помнил, чт о нем рассказывали другие. История повторялась и пересказывалась на все лады, и каждый член семьи, включая мать, обычно осмотрительную и сдержанную в высказываниях, считал, что ее следует поведать всем и каждому.
В то время Алисе было лет восемь или девять. Ее посадили рядом с писателем, и Генри знал, что для нее это большое испытание. Она переживала из-за каждого своего жеста, каждого кусочка пищи, которого касались ее нож и вилка. Она провела всю трапезу, размышляя о том, что же подумает о ней этот великий человек. Генри знал, что в таких случаях пульс у нее учащался, а ее попытки произвести впечатление были затейливыми, застенчивыми и кропотливыми.
Он не помнил, чтобы Алиса носила в те времена кринолин, но история строилась именно на нем. Теккерей повернулся к ней и окинул взглядом ее наряд.
– Кринолин! – воскликнул он. – Никогда бы не подумал. Столь юное и столь порочное создание!
Это замечание, высказанное, скорее всего, добродушно, для сестры Генри стало внезапным ударом. В следующие долгие минуты она не чувствовала ничего, кроме стыда, как будто тайная, темная сторона ее была вдруг выставлена на всеобщее обозрение. Он представлял, какими неожиданными были эти слова, видел замешательство сестры, ее беспомощную попытку улыбнуться. Генри один понимал, как все это жестоко, но ничего не сделал, чтобы заставить умолкнуть остальных – всех тех, кто выставлял напоказ эту историю перед каждым, кто соглашался слушать. Рассказчики испытывали еще большую радость, если Алиса при этом присутствовала и в который раз выслушивала историю о том, как ее унизил величайший романист того времени.
Уильям был самым старшим и самым неуязвимым. На него, похоже, никак не влияли ни долгие поездки, ни срывы и потрясения. Он был силен и популярен среди одноклассников, всегда уверен в своем праве принять участие в следующей игре. Он любил крики и гам, любил шумные компании. Любил грохот дверей и спортивные игры. Никто не замечал в нем книжного мальчика, и даже он сам, возможно, не заметил бы, если бы однажды бесстрашно не вступил в спор с отцом. Спорил он так самозабвенно и с таким наслаждением, что к подростковым годам начал обращаться со словами и фразами так же, как прежде он обходился с живыми изгородями и ухоженными газонами.
Ради Уильяма Алиса старалась быть утонченной, изысканной, женщиной мира, автором французской дневниковой прозы восемнадцатого века. Однажды мать упомянула, какое глубокое впечатление произвело на Неда Лоуэлла изображение Бостона в новом романе Хоуэллса[16]. Алиса явно хотела что-то сказать, и все повернулись к ней. Она не смогла начать. Лицо ее пылало.
– О бедняжка! – запинаясь, пробормотала она. – Если его так впечатлил роман, интересно, что он чувствует насчет Разграбления Рима, да и того, как флиртует его собственная жена.
И снова весь стол умолк. Мать отодвинула стул, словно собираясь встать. Все остальные удивленно смотрели на Алису. Уильям не улыбался. Она сидела, не поднимая глаз. Она неверно выбрала момент, и все поняли, какое странное впечатление может она произвести, если ее выпустить в свободное плавание.
Вот этот ее образ так и остался с ним навсегда. Пропасть между внутренней ее жизнью, во всей ее застенчивой уединенности, и жизнью, которая была для нее намечена, вызывала в нем замешательство. Когда начала отступать лондонская зима и дни стали удлиняться, он не стал писать романы, а вместо этого делал заметки для рассказов и создавал первые робкие наброски зачина. Преждевременная кончина сестры часто тревожила его мысли, и подробности ее странной жизни приходили ему на память, когда он меньше всего ожидал этого, усиливая его ощущение безвозвратности прошлого.
Ему вспомнился еще один вечер – сестре тогда было восемнадцать или девятнадцать лет. Он пришел домой с какой-то вестью – то ли о прослушанной лекции, которая могла заинтересовать его отца, то ли о своей очередной публикации. Полный радостных предвкушений, он открыл дверь, и тут же ему навстречу вышла тетушка Кейт и предупредила, что Алисе нездоровится.
Он сидел внизу и слышал, как Алиса зовет кого-то. Родители оба ухаживали за ней, а тетушка Кейт регулярно поднималась по лестнице, чтобы задержаться у двери в ее комнату или ненадолго присоединиться к родителям, а потом спускалась, чтобы вполголоса сообщить Генри, как обстоят дела. Генри не помнил, в каких именно словах описала она беду, приключившуюся с Алисой. Кажется, у нее случился приступ, а может быть, нервы расстроились, но он знал, что всю ночь родители по очереди приходили поговорить с ним, и он заметил их волнение из-за возникшей новой дилеммы. Их нервная дочь и ее странный недуг заслуживали их полного сочувствия и внимания.
Той ночью, слушая неутихающие рыдания Алисы в комнате наверху и зная, что ее баюкают и утешают, Генри заметил также, что мать, которой Алиса часто пренебрегала из-за банальности ее домашних забот, теперь отчаянно нужна своей дочери, и при тусклом свете в старой гостиной, куда она спускалась, чтобы посидеть с Генри, казалось, что мать получает определенное удовлетворение оттого, что в ней так нуждаются.
Все было не тем, чем казалось. Он придумал для своего рассказа образ гувернантки – милейшей особы, умной и очень компетентной, взволнованной своими новыми непростыми обязанностями, заботами о подопечных – мальчике и девочке, о которых рассказал ему архиепископ. А еще его не отпускали видения матери и тетушки Кейт – вот они, встревоженные и измученные, одна из них с лампой в руке, входят к нему в гостиную, губы у матери поджаты, но глаза блестят и щеки разрумянились, и сидят вместе с ним, пока сверху доносятся приглушенные стоны и крики Алисы. Обе мрачно и прилежно сидят в своих креслах – куда более живые и куда более вовлеченные, чем ему доводилось видеть за много лет.
И еще видение: вот они с Алисой и тетушкой Кейт в Женеве несколько лет спустя – тогда никто из них не осмеливался сказать Алисе или друг другу, что ее страдания кажутся почти преднамеренными.
Они пытались дать название ее болезни, и самое близкое описание, которое смогла найти мать, – это что Алиса страдала настоящей истерией. Генри понимал, что недуг ее неизлечим, поскольку она холила его и цеплялась за него, как за желанного гостя, в которого безнадежно влюблена. Пребывая в Женеве во время поездки по Европе, они, наверное, казались стороннему наблюдателю, а порой и самим себе редкостными образчиками жителей Новой Англии, прилежно любующихся достопримечательностями, наблюдающих Старый Свет умным и чувственным взглядом, братцем и сестрицей, что путешествуют вместе с тетушкой, коротая время, прежде чем где-нибудь осесть. Сестричка казалась ему тогда самойсчастливой, самой остроумной и наиболее обнадеживающей.
Он вспоминал, как ежедневно после полудня они втроем ходили к озеру. Тетушка Кейт следила за тем, чтобы Алиса как следует отдыхала по утрам.
– Учебники географии умалчивают, – заметила однажды Алиса во время такой прогулки, – что на озере есть волны. Придется теперь переписывать всю поэзию.
– С чего начнем? – спросил Генри.
– Напишу Уильяму, – ответила Алиса. – Он узнает.
– Тебе надо каждый день отдыхать, дорогая, и не следует писать слишком много писем, – заметила тетушка Кейт.
– А как же еще я смогу рассказать ему? – поинтересовалась Алиса. – Прогулки пешком утомляют сильнее, чем письма, а этот ваш свежий воздух, боюсь, меня убьет.
Она снисходительно улыбнулась тете, которая, как заметил Генри, нисколько не разделяла ее веселья по поводу смерти.
– Легкие любят отели, – сказала Алиса. – Они тоскуют по ним, особенно им нравятся фойе, лестницы, а также гостиные и спальни, если оттуда прекрасный вид, а окна заперты на щеколду.
– Ходи помедленнее, дорогая, – попросила тетушка Кейт.
Генри наблюдал, как Алиса подыскивает следующую реплику, которая повеселила бы его и возмутила бы тетушку Кейт, а потом, неспешно прогуливаясь, она на мгновение ощутила удовольствие от своего молчаливого присутствия в их обществе.
– Сердце, – продолжила она вскоре, – предпочитает удобный, теплый поезд, а мозг взывает к океанскому лайнеру. Опишу это все Уильяму, как только мы вернемся в отель, и надо поторопиться, милая тетя, медленная ходьба – сущая анафема для памяти.
– Если бы Дороти Вордсворт[17] научила брата подобным премудростям, его поэзия была бы, наверное, куда более совершенной.
– А разве Дороти Вордсворт – не жена поэта? – удивилась тетушка Кейт.
– Нет, его женой была Фанни Браун[18], – сказала Алиса и лукаво улыбнулась Генри.
– Иди помедленнее, дорогая.
В тот вечер, когда она сошла к ужину, Генри отметил, как тщательно Алиса оделась и уложила волосы. Он знал, что для нее все могло бы сложиться иначе, будь она писаной красавицей, или не родись она единственной девочкой в семье, или не обладай она столь острым умом, или если бы ее детство было не настолько необычным.
– А могли бы мы отправиться в путешествие вокруг света – только мы втроем: останавливаться в чудесных отелях и писать домой письма, включая туда остроумные замечания, сделанные кем-то из нас? – спросила Алиса. – Можем мы уехать навсегда?
– Нет, не можем, – ответила тетушка Кейт.
Тетя Кейт, вспомнил Генри, взяла на себя роль строгой, но доброжелательной гувернантки, пекущейся о двух детишках-сиротах – послушном, вдумчивом и основательном мальчике Генри и девочке Алисе, взбалмошной, но также готовой выполнить то, что ей скажут. И все трое были счастливы эти несколько месяцев, до тех пор, пока не задумывались о том, что ждет Алису, когда они вернутся домой.
Глядя на них со стороны, никто бы не догадался, что Алиса уже превратилась в странного и остроумного инвалида. В их компании Алиса почти приблизилась к выздоровлению, но Генри знал, что, даже если и так, они не могут вечно странствовать по городам и весям. За этим улыбчивым лицом, за этой милой фигуркой, весело спускающейся по лестнице каждое утро, чтобы встретиться с ними в вестибюле гостиницы, скрывалась тьма, готовая вырваться наружу, как только пробьет ее час.
К тому времени обреченность Алисы каким-то образом отразилась на всех аспектах ее существования и, несмотря на уравновешенные, счастливые деньки в Женеве, то, что ждало ее впереди, сложилось в историю, которая теперь очаровывала его и сбивала с толку, – о молодой женщине, кажущейся светлой и легкой, амбициозной и исполненной чувства долга, но вскоре ей суждено услышать леденящие кровь звуки в ночи и пугающие лица в окне и позволить дневным грезам превратиться в ночные кошмары.
Наихудшим стало для нее время перед самой женитьбой Уильяма и сразу после, когда она пережила тяжелейший свой нервный срыв и ее старые недуги дали о себе знать с новой силой. Уже в Англии, много лет спустя, она рассказала ему, что большая часть ее умерла тогда. Тем отвратительным летом, когда Уильям женился на женщине – хорошенькой, практичной и необычайно здоровой, которую, что самое жестокое, тоже звали Алиса, – Алиса Джеймс погрузилась в морские глубины, и темные воды окутали ее и сомкнулись над ней.
Да, несмотря на ее страшные болезни, подрывающие остатки сил, она сохраняла странную умственную энергию. Ее поступки были непредсказуемы или преднамеренно исполнены иронии и противоречий. Когда умерла мать, вся семья с особым вниманием следила за ней, уверенная, что это непременно приведет к окончательному распаду. Генри оставался в Бостоне, пытаясь измыслить способы помочь ей и отцу.
Но у Алисы припадков больше не было. Она стала, насколько это возможно, умелой, послушной и любящей дочерью, с легкостью взялась за ведение домашнего хозяйства и общалась со всеми остальными членами семьи так, словно именно она держала все в руках. Однажды перед своим отъездом в Лондон он увидел, как она провожает гостя в холле, – сложив руки на груди, она просила его приходить снова, и глаза ее сияли. Он заметил, что ее теплая улыбка стала почти печальной, едва затворилась дверь. Все в ее облике в эту минуту – от позы до выражения лица, до жестов, когда она вернулась в коридор, – все было позаимствовано у матери. Генри видел, как ценой огромных усилий Алиса пытается быть хозяйкой дома.
В течение года скончался отец, и, как только его похоронили, ее театр развалился. Она свела близкую дружбу с Кэтрин Лоринг, чей интеллект не уступал ее собственному и чья сила уравновешивала ее слабость. Мисс Лоринг стала ее компаньонкой, когда Алиса решила поехать в Англию, чтобы избавиться от чрезмерной заботы тетушки Кейт. Это был акт неповиновения и независимости и, конечно же, крик о помощи, обращенный к Генри. Она проживет еще восемь лет, но бльшую их часть проведет главным образом в постели. Это было, как она часто говорила, просто сморщивание пустого горохового стручка, ожидающего итога.
Он вспомнил эти слова, пока ждал в Ливерпуле ее прибытия в Англию, и он знал, что ее упрямая целеустремленность и предпочтения, а также внушительное наследство от отцовского имения с помощью мисс Лоринг на некоторое время отсрочат этот итог. Он решил не потакать мысли о том, что она нарушит его одиночество и лишит плодотворности изгнание. И все-таки он испугался, увидев, как ее сносят по трапу корабля – беспомощную и больную. Когда он подошел к ней, она не могла говорить, только страдальчески закрыла глаза и отвернулась, когда ей показалось, что он хочет к ней прикоснуться. Стало ясно, что ей не следовало путешествовать. Мисс Лоринг руководила размещением Алисы в подходящей квартире и поисками сиделки. У Генри возникло ощущение, что она так же зависит от беспомощности его сестры, как сама Алиса зависела от мисс Лоринг.
Она не желала выпускать мисс Лоринг из виду. Она лишилась семьи, утратила здоровье, но ее воля теперь объединилась с величайшей необходимостью иметь Кэтрин Лоринг исключительно в собственном распоряжении. Генри заметил, что состояние Алисы ухудшалось, вплоть до истерики, когда мисс Лоринг отсутствовала, но она спокойно, почти радостно ложилась в постель, стоило мисс Лоринг пообещать, что она останется и будет за ней ухаживать. Он написал об этой странной паре тетушке Кейт и Уильяму. Он старался выразить свою благодарность мисс Лоринг за ее преданность, такую щедрую и совершенную, но знал, что эта преданность зависит от того, останется ли Алиса прикована к постели. Генри не нравилась эта связь, не нравилось, что ее питало нездоровье. Он был недоволен унизительной зависимостью Алисы от ее самоотверженной подруги. Порой он даже верил, что мисс Лоринг причиняет вред его сестре, но не представлял, кто в таком случае мог принести Алисе пользу, и в конце концов отступил.
Мисс Лоринг проводила с Алисой бльшую часть суток – заботилась о ней, терпела ее, восхищалась ею так, как никто и никогда на свете. Алиа специализировалась на сильных суждениях и нездоровых разговорах, а мисс Лоринг, казалось, охотно слушала ее высказывания о смерти и удовольствиях, ей сопутствующих, об ирландском вопросе и беззакониях правительства, а также о мерзостях английской жизни. Когда мисс Лоринг уходила, пусть и очень ненадолго, Алиса печалилась и негодовала, что ей, сидевшей за одним столом с братьями и отцом – величайшими умами эпохи, – теперь только и осталось, что полагаться на поверхностное милосердие сиделки, которую наняла мисс Лоринг.
Генри навещал ее так часто, как мог, даже когда Алиса и мисс Лоринг снимали жилье за пределами Лондона. Иногда он слушал ее с интересом и восхищением. Она любила замысловатые шутки, силой своей личности превращая какое-нибудь маленькое недоразумение в нечто невероятно смешное. Например, ей очень нравилась тема преданности миссис Чарльз Кингсли своему покойному мужу[19], и она имела склонность пересказывать эту историю снова и снова с негодующей насмешкой и требовала от посетителей согласия, что ее стоит начать пересказывать еще до того, как она закончила.
– Известно ли вам, – спросит она бывало, – что миссис Чарльз Кингсли чтила память своего покойного супруга?
Тут она делала паузу, как будто этого довольно и больше ничего сказано не будет. А затем, тряхнув головой, давала понять, что готова продолжать.
– Знаете ли вы, что она всегда сидела бок о бок с его бюстом? Нанося визит миссис Чарльз Кингсли, вам приходилось наносить визит и ее мужу. И они оба сердито на вас пялились.
Алиса и сама яростно зыркала на собеседников, словно изображая зло в чистом виде.
– Но это еще не все, – продолжала она. – Миссис Кингсли, ложась в постель, прикалывала фото своего покойного мужа на подушку рядом с собой!
Тут она закрывала глаза и смеялась – сухо и протяжно.
– О, добрый ночной сон миссис Чарльз Кингсли! Можно ли представить себе что-нибудь более гротескное и отвратительное?
А еще были врачи. Их визиты и прогнозы вызывали у нее одновременно презрение и ликование, даже когда ей сообщили, что у нее рак. Малейшая глупая фраза какого-нибудь доктора обсуждалась несколько дней кряду. Однажды она объявила, что ее посетил сэр Эндрю Кларк со своей жуткой ухмылкой, словно эта жуткая ухмылка была хорошо известным придатком к нему. А потом, задыхаясь от смеха, рассказала историю о том, как один друг много лет назад долго ждал сэра Эндрю, а тот по прибытии представился, извинился за опоздание и сказал: «Будьте покойны!»
– И я сказала мисс Лоринг, пока мы его дожидались, что готова спорить на деньги, что спустя все эти годы, войдя в эту комнату, он произнесет ту же самую фразу. «Внимание!» – сказала я, и тут дверь открылась, вошел джентльмен в расцвете сил с жуткой ухмылкой на губах, и с этих губ слетело: «Сэр Эндрю Кларк. Будьте покойны!», словно он говорил это впервые, после чего последовал давно созревший всплеск веселья со стороны самого сэра Эндрю, даже перезревший, я бы сказала.
Она наблюдала за собой, с предвкушением выискивая признаки умирания, казалось, она настолько же бесстрашна перед лицом смерти, насколько ее пугало все остальное. Она терпеть не могла священника, жившего в апартаментах этажом ниже, и делилась своими страхами, что, если ей станет совсем плохо среди ночи, он может явиться и отслужить при ее кончине до того, как его остановят.
– Ты только вообрази: открываешь глаза в последний раз и видишь этого священника, похожего на летучую мышь, – говорила она, величаво глядя куда-то вдаль. – Это совершенно испортило бы посмертное выражение лица, которое я тренировала годами! – Она горько хохотнула: – Как ужасно быть такой беззащитной.
С течением времени он понял, что его сестра больше никогда не встанет с постели, и сделал открытие: мисс Лоринг придерживалась такого же мнения. Она поклялась остаться с Алисой до конца. Эти бесконечные разговоры о «конце» тревожили его, и порой, наблюдая за общением этих двоих – перманентной пациентки и ее компаньонки, – таким веселым, шумным, оживленным, он чувствовал острую необходимость срочно оказаться подальше от них, сократить свое пребывание рядом с ними, возвратиться к своему, тяжким трудом добытому уединению.
Пока Алиса жила в Англии, он написал два романа, и оба впитали своеобразную атмосферу мира, в котором пребывала сестра. Он понимал дилемму женщины эпохи реформ, женщины, разрывавшейся между правилами, в которых ее воспитали, и необходимостью менять эти правила, а также – и это была, по его мнению, еще более критическая дилемма – женщины, воспитанной в свободомыслящей семье и ограничивавшей свою свободу мышления, оставаясь респектабельной конформисткой во всех прочих отношениях. Приступая к написанию «Бостонцев», он без труда мог представить себе конфликт между двумя людьми, боровшимися за власть над третьим. Он сам пережил подобную, хоть и краткую, схватку с мисс Лоринг, пока не отступил и не оставил за ней поле боя. Во втором романе, «Княгиня Казамассима», также написанном после прибытия Алисы в Англию, он, сам того не осознавая, написал ее двойной портрет. В первой половине она была княгиней – утонченной, блестящей, обладающей мрачным могуществом, только что прибывшей в Лондон. В другой половине она, должно быть, себя узнавала: она была Рози Мьюнимент, лежачей больной, – «прикованная к постели маленькая калека», «маленькая, старая, резкая, изувеченная, болтливая сестрица», «непоколебимое, яркое создание, словно бы отполированное болью».
Она читала все его работы и выразила свое огромное восхищение этим романом, ни разу не упомянув прикованную к постели сестру, которую очень не любят два главных героя. В своем дневнике она писала о деятельности Генри и об успехах Уильяма. «Это весьма неплохой показатель для одной семьи, – написала она, – особенно если я доведу себя до смерти, а это самая тяжкая работа из всех».
Таким образом, переехав в Лондон, Алиса, столько лет игравшая в умирание, начала умирать по-настоящему. Она страстно жаждала, как она сказала Генри, какой-нибудь осязаемой болезни и с огромным облегчением восприняла известие о том, что у нее рак. Ей было всего сорок три. Алисе приснилась лодка, которую швыряло по бурному морю, и, проплывая под черной тучей, она увидела свою умершую подругу Энни Диксвелл, которая оглянулась и посмотрела на нее. Алиса была готова отправиться к ней.
Генри и мисс Лоринг ухаживали за ней, пока она угасала, боли ее приглушались морфием. Казалось, она ничуть не изменилась, и он думал, что вот так она, наверное, и ускользнет, умрет, как говорится, – и не заметит. Но смерть ее не была легкой.
Однажды он вошел к сестре в комнату и поразился произошедшей в ней перемене. Она была совсем плоха, дышала с трудом, а пульс ее, по словам мисс Лоринг, был слабым и прерывистым. Лихорадка сделала ее неразговорчивой, но время от времени у нее начинался страшный кашель – до рвоты, ее рвало и рвало, потом она падала без сил на подушки. Потом она пыталась что-то сказать, но кашель вернулся, выворачивая ее наизнанку, а после она утихла. Врач сказал, есть все основания считать, что это ее состояние может продолжаться не день и не два.
Генри не отходил от нее, отчаянно стараясь хоть как-то утешить. Он боялся за нее, уверенный, что, несмотря на все ею сказанное, она тоже боится. Каждое мгновение она могла уйти, и он ждал, зная, что ей нужно сказать что-то напоследок, прежде чем смерть поглотит ее.
А затем случилась новая перемена. Через несколько часов боль и мучения, казалось, утихли, кашель и даже жар отступили, а близость смерти еще сильнее заострила ее черты. Она не спала. Он сидел у постели сестры, сожалея, что матери нет рядом, что она не может поговорить с ней, произнести те слова, что помогли бы ей, облегчили бы ее путь в мир иной. Он попытался представить себе, что мать находится в комнате, он почти прошептал свою просьбу: мама, приди, будь здесь, мама, помоги Алисе своей нежностью. Ему хотелось спросить сестру, чувствует ли она, что в комнате витает призрак их матери.
Было ясно, что ей осталось недолго, хотя Кэтрин Лоринг настояла, чтобы он не засиживался допоздна, и он согласился, что ничего не может сделать. Он собрался уходить. Но тут она снова заметалась в постели, не могла ни повернуться на бок, ни вдохнуть. А потом она прошептала что-то, и оба они – он и мисс Лоринг – пристально посмотрели друг на друга. Медленно, с явным усилием Алиса повторила громче, чтобы теперь они смогли ее расслышать.
– Еще один день я не выдержу, – сказала она. – Не просите, умоляю.
Эти слова помогли ему, когда он медленно брел по Кенсингтону к себе на квартиру. Он всегда боялся, что, когда придет конец, это окажется для нее самым ужасным, а все ее разговоры о желании умереть превратятся в обычную браваду. Он почувствовал облегчение, что сестра говорила то, что на самом деле чувствовала. Он смотрел на нее, зная, что сам на ее месте пришел бы в ужас, но она была иной. Она не дрогнула.
Под покровом ночи, как рассказала ему Кэтрин Лоринг, она погрузилась в нежный сон. Заступая на дневное бдение у ее постели, он размышлял о ее снах и надеялся, что морфий сделал их золотистыми и разогнал весь мрак и страхи, клубившиеся вокруг ее жизни. Он так хотел, чтобы теперь она была счастлива. Но не мог заставить себя перестать желать, чтобы она снова начала дышать, вопреки всему, чтобы она не умирала. Он не мог представить ее мертвой, хотя так долго наблюдал ее умирание. Приехал доктор и отменил все назначения, поскольку она больше не нуждалась в дополнительной медицинской помощи.
Для Генри, в его почти пятьдесят, это была первая увиденная смерть. Он не присутствовал, когда умирали мать и отец. Он дежурил у материнской постели, но не был свидетелем ее последнего вздоха. Он описывал смерть в своих книгах, но ничего не знал об этом долгом дне ожидания, когда дыхание сестры становилось поверхностным, потом, казалось, затихало, а после снова учащалось. Он силился представить, что происходит с ее сознанием, с ее великолепным остроумием, и чувствовал, что все, что от нее осталось, – прерывистое дыхание и слабеющий пульс. Не было ни воли, ни знания – просто тело, медленно сходящее на нет. И это вызывало в нем еще большую жалость к ней.
Его воображение всегда рисовало дом смерти как место безмолвное, неподвижное и настороженное, но теперь он знал, что тишины в этом доме нет, потому что воздух заполняли звуки дыхания Алисы – все изменения его интенсивности. Ее пульс участился, а затем ненадолго замер, но она еще не умерла. Он размышлял о том, так ли умирала их мать. Алиса единственная об этом знала, единственная, у кого он не мог спросить.
Он встал и коснулся ее, когда дыхание ее стало легче и выровнялось и она забылась спокойным сном. Это продлилось еще час. Она по-прежнему не была готова уйти, и он спрашивал себя, кто она теперь, которая ее часть еще существует в эти последние часы? Когда она перестала дышать, он встревоженно наблюдал. Несмотря на столько дней бдения у ее постели, он оказался не готов. Она снова вдохнула – трудно и поверхностно. Он снова пожалел, что матери нет рядом с ним, что она не будет держать его за руку, когда Алиса наконец ускользнет. Мисс Лоринг начала считать ее вдохи – всего один вдох в минуту, сказала она. Когда настал конец, казалось, лицо Алисы прояснилось, и это было странно и трогательно. Он встал и подошел к окну, чтобы впустить в комнату немного света, а когда вернулся к постели, она вздохнула в последний раз. И в комнате наконец стало тихо.
Он остался рядом с ее телом, зная, что вот так безмятежно лежать в смерти – именно то, чего она жаждала. Она казалась красивой и величавой, и он верил, вопреки своим прежним сомнениям, что если бы она видела себя, свое тело, ожидающее кремации, то ощутила бы мрачное восхищение тем, чем она стала. Для него было очень важно, чтобы ее прах вернулся в Америку и упокоился в Кембридже[20], рядом с родителями. Его утешала мысль, что они не похоронят ее в Англии, не оставят ее в этой стылой земле вдали от дома.
Мертвые черты ее менялись с переменой света. Она выглядела то юной, то старой, то измученной, то необычайно, исключительно красивой. Он улыбнулся ей – лежащей неподвижно, с бледным и осунувшимся, но изысканно прекрасным лицом. Он вспомнил, как она негодовала на тетушку Кейт, завещавшую ей теплую шаль и прочие мирские блага. Им с сестрой обоим суждено умереть бездетными, а все, чем они владели, принадлежало им, пока они были живы. У них нет прямых наследников. Оба отказались от помолвок, глубоких дружеских привязанностей, любовного тепла. Им никогда не хотелось всего этого. Он чувствовал, что их обоих отвергли, отправили в изгнание, оставили в одиночестве, в то время как их братья женились, а родители сошли в могилу друг за другом. Печально и нежно он погладил ее холодные, сложенные вместе руки.
Глава 4
Апрель 1895 г.
Однажды вечером, пока он трясся в пролетке на какой-то званый ужин, ему в голову пришла идея написать рассказ, в котором вся драма заключалась бы в особой и сильной привязанности между осиротевшими братом и сестрой. Он не сразу нарисовал себе портрет этой пары и не сразу представил конкретные обстоятельства, в которых они оказались. Все было так туманно и обрывочно, что вряд ли годилось даже для наброска в блокноте. Брат и сестра заключили союз симпатии и нежности, а это означало, что они считывали чувства и импульсы друг друга. Однако они друг друга не контролировали, скорее – слишком хорошо понимали. Смертельно хорошо, подумал он и записал это в блокнот, не имея четкого представления о сюжете или о происшествии, которое иллюстрировало бы эту сентенцию. Может, это было избыточно, но мысль о составном «я» не покидала его. Два существа с одной и той же чувствительностью, одним воображением, вибрирующие едиными нервами, испытывающие одни и те же страдания. Две жизни, но почти один и тот же опыт. Например, оба остро переживали кончину родителей, безвозвратная потеря преследовала обоих, причиняя почти парализующие страдания.
Часто идеи посещали его вот так, случайно, без предупреждения. Часто они возникали в минуты, когда он был занят совершенно другими вещами. Эта новая идея рассказа о брате и сестре стала навязчивой, требовала от него немедленного воплощения на бумаге. Он не забывал о ней. В его воображении она оставалась по-прежнему свежей и ясной. Медленно, каким-то мистическим образом она начала сливаться с историей о привидениях, рассказанной ему архиепископом Кентерберийским, и постепенно он начал видеть нечто постоянное и явственное, как если бы процесс воображения сам по себе был призраком, мало-помалу обретающим плоть. Он видел их – брата и сестру, одиноких, отверженных, брошенных где-то в старом доме, давно забывшем, что такое любовь. У них общее сознание, одна душа, они одинаково страдают и в равной степени не готовы к великому испытанию, которое им уготовано.
Как только замысел окреп, зарождающийся рассказ со всеми его ответвлениями сюжета и возможными последствиями вывел его из мрака неудачи. Теперь он был полон решимости трудиться гораздо больше. Он снова взялся за перо – то самое, что помнило все его усилия и священную борьбу. Именно сейчас, он был уверен, он создаст творение всей своей жизни. Он готов был начать заново, вернуться к старому высокому искусству художественного вымысла, и устремления его на этот раз были слишком чистыми и глубокими, чтобы облечь их в какое-либо высказывание.
Во время послеполуденного ничегонеделания он время от времени пробегал глазами страницы своего блокнота. Однажды он даже внутренне улыбнулся, увидев несколько строк, которые казались настолько многообещающими всего три года назад, что он позволил им заполнить его рабочий день и даже его мечты, те самые строки, что стали причиной долгих месяцев летаргии, от которой он пробуждался теперь. Он заставил себя прочесть их до конца:
Ситуация с отпрыском жившего во время оно старинного венецианского семейства (забыл какого), который стал монахом, а потом был чуть ли не силой забран из монастыря и водворен обратно в мирскую жизнь, чтобы его род не прервался. Он был последним – и было абсолютно необходимо, чтобы он женился. Надо как-то адаптировать это к современности.
Его взгляд быстро переместился на список имен – перечень призраков, взятых из некрологов и уведомлений о смерти, список персонажей и мест, названия, которые лежали мертвым грузом в блокноте или которые все еще можно было использовать. Он мог днями напролет вдыхать в них жизнь. Биг – Вина (имя) – Дорин (тж.) – Пассмор – Траффорд – Норвал – Ланселот – Вайнер – Байгрейв – Хассон – Домвиль. Последние семь букв были помещены на эту страницу безо всякой задней мысли. Он не мог вспомнить ни откуда взялась эта фамилия, ни каково точное происхождение всех предшествующих фамилий и имен. И не имел представления, почему это имя он использовал, а прочие – нет. Эта запись и это имя теперь казались такими далекими, и ему самому казалось невероятным, что его пьеса выросла из такого безнадежного начала и, коль скоро ее заменили новой пьесой Оскара Уайльда, ее постиг столь же безнадежный конец.
Кончина родителей, как он думал, принесла ему некое странное облегчение. Возникло чувство, что это больше не повторится, мать могла упокоиться лишь однажды, и только один раз ее тело могло быть предано земле. И это событие, при всей его черной, жестокой печали, уже в прошлом. Со смертью родителей и долгим уходом Алисы он уверовал, что больше ничто не может его ранить. Посему провал на театральной сцене стал для него потрясением такой остроты и силы, с которыми он не ожидал столкнуться снова. Ему пришлось признать, что это было почти равносильно скорби, хотя и понимал: подобные признания сродни богохульству.
Он знал, что больше не потерпит унижений от театральной публики, – он посвятит себя, как и обещал, безмолвному искусству художественной прозы. Если бы он сейчас смог работать, его дни стали бы совершенством, полным наслаждения одиночеством и удовольствия от уже написанных страниц.
Вскоре после возвращения из Ирландии, когда он погрузился в рутину чтения, переписки и наведения домашнего порядка, его молодой друг Джонатан Стерджес принес некую новость, а за ним последовал Эдмунд Госс, и с теми же самыми новостями. Они касались Оскара Уайльда.
За предыдущие месяцы Генри много думал об Уайльде. Две его пьесы до сих пор давали на Хеймаркет и в Сент-Джеймсе. Генри без труда подсчитал, сколько денег они ему приносят. Он писал об этом Уильяму, отмечая, что одним из новых явлений лондонской жизни стал вездесущий Оскар Уайльд – внезапно преуспевающий, а не абсурдный, внезапно трудолюбивый и серьезный, а не впустую растрачивающий свое и чужое время. Впрочем, Стерджес и Госс сообщили ему сведения, которых Генри не передал ни Уильяму, ни, конечно же, кому-то другому. Оба его друга обожали собирать и рассказывать свежие новости, и Генри позволил каждому думать, будто он явился первым. Ему не очень-то хотелось, чтобы оба узнали, как часто в стенах этого дома обсуждаются выходки Оскара Уайльда.
Еще до отъезда в Ирландию Генри слышал, что Уайльд потерял всякую осмотрительность. Он делал в Лондоне все, что заблагорассудится, и рассказывал об этом кому заблагорассудится. Он был повсюду, соря деньгами, выставляя напоказ свой новый успех и славу, а также сына маркиза Куинсбери – юношу столь же глубоко неприятного, как и его отец, по мнению Госса, однако гораздо более миловидного, как позволил себе признать Стерджес.
Генри предположил, что новость, которую сообщили оба его посетителя, уже известна всем. Он слышал, что отношения между Уайльдом и сыном Куинсбери стали общим местом, но Стерджес и Госс, по-видимому, чувствовали, что они и еще кое-кто посвящены в подробности, а эти подробности, по их утверждению, были настолько ужасающи, что их едва ли можно было пересказать даже шепотом. Генри спокойно наблюдал за своими гостями, велел подать им чаю и внимательно выслушал их деликатные рассуждения о вещах, мягко говоря не очень деликатных.
Госс называл их «уличными мальчишками», но Стерджес позабавил Генри сильнее, упомянув вполголоса «молодых людей, чье местожительство не вполне постоянно».
– Он их нанимает, как вы нанимаете кэб, – наконец позволил себе Госс выразиться напрямую.
– За деньги? – невинно поинтересовался Генри.
Госс очень серьезно кивнул. Генри так и подмывало улыбнуться, но он тоже хранил серьезность.
Его это не поразило и ничуть не шокировало. Все, что касалось Уайльда, с того самого момента, когда Генри впервые его увидел, даже когда они встретились в Вашингтоне у Кловер Адамс[21], предполагало глубочайшие залежи тайного и наслоения неизведанного. Поведай ему Госс и Стерджес, что Уайльд каждую ночь, переодевшись женой священника, раздает милостыню беднякам, это бы его ничуть не удивило. Он смутно припоминал рассказанные кем-то обрывочные сведения о родителях Уайльда, не то о безумии его матери, не то о ее революционных настроениях, а может – о том и о другом вместе, о распутстве его отца или, возможно, о его революционных настроениях[22]. Он полагал что Ирландия слишком мала для таких, как Оскар Уайльд, и все же тот всегда нес с собой непокорный ирландский дух. Даже Лондон не смог вместить одновременно его самого, две его пьесы и множество всевозможных слухов.
– А где жена Уайльда? – спросил он у Госса.
– Дома. Дожидается его с кучей неоплаченных счетов и двумя маленькими сыновьями.
Генри не смог нарисовать мысленный портрет миссис Уайльд, и вряд ли он вообще когда-нибудь встречался с ней. Он даже не знал, да и Госс тоже, ирландка она или нет. Но вот мысль о маленьких сыновьях – ангельской, как уверял Госс, наружности – больно его задела. Он вообразил двух ангелочков, ждущих возвращения своего чудовищного папаши, и подумал, хорошо, мол, что он не знает их имен. Он представлял, как они, знать не зная об отцовской репутации, все же медленно составляют о нем впечатление и тоскуют о нем, когда его нет рядом.
По мере того как до него доходили слухи, Генри полагал, что хорошо представляет себе Уайльдову натуру, но у него перехватило дыхание, и он молча прошелся по комнате, когда Госс рассказал, что Уайльд подал в суд на маркиза Куинсбери за то, что тот назвал его содомитом.
– Похоже, маркиз даже не знал, как пишется это слово[23].
– Он, как мне представляется, вообще не слишком силен в орфографии.
Генри стоял у окна и смотрел на улицу, словно ждал, что там внизу вот-вот появится Уайльд или маркиз собственной персоной.
Госс всегда умудрялся намекнуть, что его сведения поступают из самых высокопоставленных и надежных источников. Неким образом он давал понять, что связан с членами кабинета или офисом премьер-министра, а в особых случаях речь шла об информаторе, близком к самому принцу Уэльскому. Стерджес же, в свою очередь, опирался на самые свежие сплетни, полученные в клубе или от случайных, не слишком-то надежных собеседников, и не скрывал этого. В течение всех этих безумных недель визиты Госса и Стерджеса ни разу не совпали – и это большое везенье, думал Генри, потому что оба приносили совершенно одинаковые сведения.
Госс навещал его каждый день, Стерджес – только когда у него были новости, хотя с началом процесса Стерджес тоже начал приходить ежедневно. Всякий раз появлялось какое-то новое преувеличение или очередной фрагмент интриги. Госс встретил Джорджа Бернарда Шоу, и тот рассказал ему о своей встрече с Уайльдом, о том, что он остерегал его от подачи иска к маркизу Куинсбери. Уайльд согласился, сказал Шоу, что это было бы безрассудством, и все улеглось, но тут заявился лорд Альфред Дуглас, наглый и раздражительный, как описал его Шоу, и потребовал, чтобы Уайльд судился с его папашей, он набрасывался на всех, кто советовал Уайльду соблюдать осторожность, и настаивал, чтобы тот сию же минуту уехал с ним. Дуглас был багров от ярости, сказал Шоу, испорченный мальчишка. Но вот что странно – Уайльд, казалось, находился в полной его власти, следовал за ним по пятам и, похоже, уступил его настояниям. Он просто таял от жаркого гнева этого юнца.
Стерджес первым принес сообщение о том, чт маркиз Куинсбери намеревался рассказть суду.
– У него, как мне сказали, имеются свидетели. Свидетели, которые не пощадят нас и раскроют все подробности.
Генри вгляделся в молодое лицо Стерджеса, его широко раскрытые глаза. Ему хотелось похлопать его по плечу и сказать, что он охотно выслушает все подробности, как только они станут достоянием гласности, и что он не хочет пощады.
История Уайльда заполнила дни Генри. Он читал все, что печаталось об этом деле, и с нетерпением ждал новостей. Он писал о процессе Уильяму, давая понять, что не испытывает никакого уважения к Уайльду, что ему не нравятся ни его произведения, ни его деятельность на сцене лондонского высшего общества. Уайльд, настаивал он, никогда не был ему интересен, но теперь, когда тот отбросил всякую осторожность и, казалось, был готов превратить себя в публичного страстотерпца, этот ирландский драматург начал вызывать у него огромнейший интерес.
– Я слышал новость чрезвычайной важности, – выпалил Госс, не успев даже присесть и покачиваясь на ходу, словно у него под ногами палуба корабля. – Уверен, что папаша Дугласа представит немало прохвостов. Чумазая беспризорщина будет давать показания против Уайльда, и, как мне сообщили, свидетельства будут неопровержимыми.
Генри знал, что нет нужды задавать вопросы. Да и в любом случае он не знал, в какую форму облечь вопрос, который надо бы задать.
– Видел я имена этих свидетелей, – театрально закатил глаза Госс, – сколько же там ничтожеств! Судя по всему, Уайльд якшался с ничтожествами, ворами и шантажистами. Может, тогда цена и казалась небольшой, но теперь это, похоже, дорого ему обойдется.
– А что же Дуглас? – спросил Генри.
– Говорят, он замешан по самые уши. Но Уайльд хочет, чтобы он держался от этого подальше. Похоже, наигравшись со своими юными приобретениями, он передаривал их Дугласу и бог знает кому еще. Оказывается, существует список тех, кто снимал этих мальчишек.
Генри заметил, что Госс наблюдает за ним, ожидая реакции.
– Отвратительно, – сказал он.
– Да, список, – повторил Госс, как будто Генри ничего и не говорил.
Ни Стерджес, ни Госс не посещали заседаний суда, но оба, казалось, наизусть знали все обмены репликами. Уайльд, по их словам, держался самонадеянно и высокомерно. Он говорил так, утверждал Стерджес, будто сжигал все мосты, поскольку собирался уехать во Францию. Он был остроумен и надменен, беспечен и полон презрения. Всегдашние источники Госса однажды вечером доложили, что Уайльд уже отчалил, но на следующий день выяснилось, что ничего подобного, и Госс предпочел об этом не упоминать. Тем не менее оба информатора Генри не сомневались, что Уайльд уедет во Францию, и у обоих имелись имена беспризорников, которые давали показания, и каждого они описывали как личность со своим характером и собственным досье.
На третий день процесса Генри заметил новую напряженность в голосах и Госса, и Стерджеса. Накануне они, независимо друг от друга, не спали допоздна и обсуждали дело. Ждали, пока не доведались, что Уайльд в тот день появился в суде, а значит, они могли прийти со свежими новостями. Госс провел часть предыдущего вечера с поэтом Йейтсом, который, как сказал Госс, единственный среди тех, с кем он говорил, восхищался Уайльдом и хвалил того за мужество. Поэт обрушился на публику, клеймя ее лицемерие, сообщил Госс.
– Я не знал, – прибавил он, – что публика любит возиться в сточной канаве, я так и сказал Йейтсу.
– Он знаком с Уайльдом? – спросил Генри.
– Все ирландцы заодно, – ответил Госс.
– Но хорошо ли он его знает? – настаивал Генри.
– Он поведал мне удивительную историю, – сказал Госс. – О том, как однажды провел с Уайльдами Рождество. Дом, говорит, был еще краше, чем про него рассказывали, – весь белый, повсюду диковинные и красивые вещицы. А самой главной красотой в этом доме была сама миссис Уайльд – умная и весьма привлекательная, если верить Йейтсу. А еще два кудрявых мальчугана – воплощение невинности и очарования, совершенные создания. Все было превосходно, говорит, и дом – само совершенство, и там царит не только отличный вкус, но и величайшая теплота, красота и великая любовь.
– Выходит, недостаточно великая, – сухо заметил Генри. – Или, пожалуй, чересчур.
– Йейтс намерен нанести ему визит, – сказал Госс. – Я пожелал ему удачи.
Стерджес внимательно слушал, когда Генри впервые коснулся того, что рассказал ему Госс.
– Совершенно ясно, – сказал Стерджес, – что Бози – любовь его жизни. Он все бросит ради него. Уайльд нашел любовь своей жизни.
– Тогда почему он не увезет его во Францию? – спросил Генри. – Там таких людей принимают нормально.
– Он все еще может уехать во Францию, – заметил Стерджес.
– Невозможно объяснить тот факт, что он не сделал этого до сих пор, – сказал Генри.
– Мне кажется, я знаю почему, – ответил Стерджес. – Я много раз обсуждал это с теми, кто хорошо его знает или хотя бы думает, что хорошо его знает, и думаю, я понял.
– Пожалуйста, объясните, – попросил Генри, усаживаясь в кресло у окна.
– За один только короткий месяц, – медленно произнес Стерджес, словно заранее обдумывал следующее предложение, – он сидел в зрительном зале на премьере двух своих пьес, пережил триумфы, всеобщие похвалы и лицезрел свое имя, напечатанное огромными буквами. Это любого выбило бы из колеи. Никто не может осуждать человека, который только что опубликовал книгу или поставил пьесу.
Генри промолчал.
– А тут еще, – продолжал Стерджес, – он побывал в Алжире, и можете себе представить, слухи о некоторых его похождениях просочились и к нам. Похоже, ни он, ни Дуглас не ведали стыда, якшаясь с местными племенами, и возбуждение, должно быть, свело с ума и самого Уайльда, и, конечно, местных, не говоря уже о ком-то еще.
– Могу себе представить, – кивнул Генри.
– А когда он вернулся, ему негде было жить, он скитался по гостиницам, и к тому же без гроша в кармане.
– Этого быть не может, – возразил Генри. – Я подсчитал его доходы в театре. Они очень высоки.
– Бози потратил их за него, – ответил Стерджес. – Да еще и задолжал слишком много. Уверен, у Оскара нет денег даже на то, чтобы оплатить номер в гостинице, и управляющий захватил все его пожитки как залог.
– Это не мешает ему уехать во Францию, – сказал Генри. – Мог бы купить там новые вещи, и даже получше прежних.
– Он абсолютно сорвался с якоря, стал неспособен мыслить здраво, – сказал Стерджес. – Неспособен принимать решения. Успех, любовь, отели – все это слишком для него. К тому же он уверен, что его отъезд станет ударом для Ирландии, и с этим я ничего не могу поделать.
Как только слушания завершились, для Госса стало совершенно очевидно, что, если Уайльд не сбежит, его арестуют. По словам Госса, полиции известно, где Уайльд находится, и с каждым часом возрастала вероятность, что ему предъявят обвинение в непристойном поведении, а то и в чем похуже, учитывая свидетелей, повылезавших из сточных канав Лондона.
– Помните, я говорил вам про список? И теперь в городе царит страх, а правительство, как мне сообщил весьма авторитетный источник, решительно настроено покончить с разгулом непристойности. Боюсь, последуют и другие аресты. Я даже слышал некоторые фамилии и был весьма шокирован.
Генри наблюдал за Госсом, обращая внимание на модуляции его голоса. Внезапно его старый друг превратился в ярого сторонника искоренения непристойности. Жаль, в комнате не было какого-нибудь француза, чтобы охладить пыл Госса, поскольку друг его, кажется, влился в воинственные ряды английской общественности, охваченной угаром фарисейства. Ему хотелось предостеречь его, что это пагубно отразится на стиле его прозы.
– Вероятно, временное одиночное заключение поможет Уайльду, – сказал Генри. – Но не мученичество. Такого никому не пожелаешь.
– Очевидно, Кабинет обсудил список, – продолжил Госс. – Полиция, похоже, уже опрашивает людей и многим посоветовали пересечь Канал. И я уверен, пока мы с вами тут беседуем, многие уже сели на пароход.
– Да, – согласился Генри. – И помимо морального климата они найдут там диету получше нашей.
– Пока неясно, кто находится под подозрением, но ходит много слухов и предположений, – прибавил Госс.
Генри заметил, что Госс тайком за ним наблюдает.
– Думаю, каждому, кто был, так сказать, скомпрометирован, следует отправиться в путешествие как можно скорее. Лондон – большой город, и многое может происходить в нем тихо и тайно, но теперь тайна выплыла наружу.
Генри встал, подошел к книжному шкафу, расположенному между двух окон, и принялся рассматривать книги на полках.
– Я тут подумал, если вы, возможно… – Госс умолк.
– Нет, – резко обернулся к нему Генри. – Не думайте. Не о чем тут думать.
– Что ж, это большое облегчение для меня, должен признаться, – тихо пробормотал Госс, вставая.
– Так вы пришли, чтобы спросить об этом? – Генри впился взглядом в лицо Госса, и взгляд его был прямым и достаточно враждебным, чтобы предотвратить какой-либо ответ.
Стерджес продолжал навещать Генри и тогда, когда Уайльда уже заключили под стражу до вынесения приговора и всякая возможность его побега во Францию исчезла.
– Говорят, его мать торжествует, – сказал Стерджес. – Она уверена, что он нанес жесточайший удар Империи.
– Трудно представить, что у него есть мать, – сказал Генри.
Генри спрашивал и у обоих своих визитеров, и у всех, с кем общался за эти недели, знает ли кто-нибудь, что сталось со златокудрыми детишками, чье имя было опорочено навеки. Отличился Госс.
– Он теперь банкрот, однако его жена – нет. У нее есть собственные деньги, и она перебралась в Швейцарию, насколько мне известно. Она сменила фамилию себе и сыновьям. Фамилию отца они больше не носят.
– А знала ли она до суда, чем занимается ее муж? – спросил Генри.
– Нет, насколько я понял, не знала. Это был для нее огромный удар.
– А что знают мальчики?
– Этого я не могу вам сказать. Я не слышал, – сказал Госс.
День-деньской он думал о них, настороженных, прекрасных созданиях, оказавшихся в стране, на языке которой не понимают ни слова, – их имена стерты, а отец повинен в каком-то мрачном, неназванном преступлении. Генри представил их в замкообразных швейцарских апартаментах, в комнатах наверху с видом на озеро, их няню, отказывающуюся объяснить, зачем они проделали такой долгий путь, почему вокруг так тихо, почему мама держится от них наособицу, а потом вдруг крепко прижимает к себе, словно им угрожает опасность. Он думал, как мало им нужно сказать друг другу об окружающих демонах, об их новом имени, о колоссальной изоляции, о тектоническом сдвиге, который привел к их каждодневному одиночеству в этих промозглых комнатах, будто в ожидании неминуемой катастрофы, о призрачной памяти отца: вот они карабкаются по ступенькам, а он стоит на голой, полуосвещенной лестничной площадке и улыбается им, и манит из тени.
Когда Уайльду вынесли приговор и взбаламученный ил мрачного лондонского дна осел, отношения Генри с Эдмундом Госсом вернулись в прежнее русло, потому что и сам Госс стал прежним. Сразу же после того, как Уайльда заключили в тюрьму, Госс перестал вещать как член палаты лордов.
Однажды днем, когда они сидели у Генри в кабинете и пили чай, вдруг всплыла одна старая тема, так сильно занимавшая мысли Генри. Речь зашла о Джоне Аддингтоне Саймондсе[24] – друге Госса, с которым тот вел постоянную переписку, умершем двумя годами ранее. Из всех тех, заметил Генри, кто упивался каждым мгновением дела Уайльда, ДжАС, как он его величал, был бы самым активным и заинтересованным. Ради этого он бы непременно вернулся в Англию.
– Он бы, конечно, возненавидел Уайльда, – сказал Госс. – За вульгарность и грязь.
– Да, – терпеливо ответил Генри, – но его бы захватило то, что вышло наружу.
Саймондс жил главным образом в Италии и с большой, пожалуй, даже чрезмерной чувственностью писал о ее ландшафтах, искусстве и архитектуре. Он сделался знатоком итальянского света и итальянской колористики, но помимо этого он стал экспертом в другом, более щекотливом вопросе, который он называл «проблемой древнегреческой этики», – вопросе любви между двумя мужчинами.
Десять лет назад Генри и Госс обсуждали Саймондса так же ненасытно, как обсуждали Уайльда во время судебного процесса. В то время Госс не так свободно вращался среди сильных мира сего, и между ними существовало негласное понимание, что озабоченность Саймондса касается каждого из них лично, – понимание, которое с годами уменьшалось.
В восьмидесятые годы Саймондс в письмах из Италии не скрывал своих пристрастий. Он писал откровенные послания всем своим друзьям и многим из тех, кто его друзьями не являлся. Он разослал свою книгу на упомянутую тему всем, кто мог, по его мнению, инициировать дебаты. Многие получившие книгу были возмущены и пристыжены. Саймондс хотел вывести эту тему из тени на свет, открыто ее обсуждать, и это, как заметил Госсу Генри тогда, был явный признак того, что он слишком долго не был в Англии, перегрелся за столько лет на итальянском солнышке. Госс интересовался общественной жизнью и хотел обсудить последствия того, что говорил Саймондс, для законодательства и общественных взаимоотношений. А Генри, со своей стороны, был очарован Саймондсом. К тому времени Генри получил от него несколько писем об Италии, а несколькими годами ранее случайно оказался за обедом рядом с женой Саймондса. Он помнил, что она в основном молчала, была особой довольно скучной, и когда Генри заинтересовался ею в связи с ее супругом, то не смог припомнить ни единого сказанного ею слова.
Однако она произвела на него впечатление человека с твердыми взглядами, незыблемыми установками, и по мере того, как Госс продолжал рассказывать ему о Саймондсе, Генри, словно художник, начал работать над воображаемым портретом миссис Саймондс. Она, по словам Госса, не испытывала ни малейшей симпатии к тому, что сочинял ее муж, не одобряла восторженный тон, которым он описывал Италию, ее ужасала его гиперэстетическая манерность, и, наконец, она ненавидела всю эту его озабоченность любовью между мужчинами. По словам Госса, она изначально была косной, узкой, холодной кальвинисткой, и ее искания нравственной цели были столь же болезненны, сколь и поиски абсолютной красоты, которым посвятил себя ее муж. Госс утверждал, что супруги усугубляли друг друга и с течением времени миссис Саймондс все больше алкала вретища, а ее супруг тосковал по древнегреческой любви.
Госс в своих праздных разговорах о Саймондсах даже не осознавал, насколько Генри увлекся. В любом случае, рассказ явился Генри настолько быстро и легко, что у него просто не было времени сказать об этом Госсу. Он взялся за дело.
А что, если бы у подобной пары был ребенок – мальчик, впечатлительный, умный, внимательный к окружающему миру и глубоко любимый обоими родителями? Какое воспитание получил бы этот ребенок? Какое отношение к жизни ему привили бы? Он слушал Госса и задавал вопросы, а из ответов начал конструировать сюжет рассказа. Его первые идеи впоследствии показались ему слишком радикальными, так что он отказался от амбиций родителей насчет их сына – одна мечтала, чтобы сын посвятил себя церкви, а другой, то есть отец, хотел сделать из сына художника. Вместо этого он сделал идею более драматичной – мать просто хотела спасти душу сына, а для этого ей нужно было оградить его от писаний отца.
Поначалу он раздумывал, а не вырастить ли ему этого мальчика неотесанным невеждой, максимально далеким и от надежд матери, и от честолюбивых замыслов отца. Но, работая в одиночестве, вне бесед с Госсом, он решил иметь дело только с мальчиком, а временные рамки рассказа сделать максимально сжатыми и драматическими. А еще нужно ввести постороннего, американца. Пусть это будет поклонник отцовского творчества, один из немногих, кто понимает его истинный гений. Отца, решил он, можно сделать поэтом или романистом, или и тем и другим. Американца очень любезно принимают, он остается бок о бок с семейством несколько недель, и эти недели совпадают с болезнью и смертью ребенка. Американец понимает то, о чем не догадывается отец, – ночью у постели больного ребенка мать втайне решила, что будет лучше, если ее мальчик умрт. И она смотрела, как он гибнет, держа его за руку, но ничего не делая, и позволила ему угаснуть. Американец не способен передать эту информацию автору, которым он так восхищается.
Генри набросал костяк рассказа за одну ночь, сразу после ухода Госса, а потом работал стабильно, ежедневно. Он знал, что эта тема требует невероятной деликатности подхода, и все равно, возможно, она покажется чудовищной и неестественной. Однако история его заинтриговала, и он решил попытаться, поскольку общая идея – морального разложения, пуританства, невинности – была также чрезвычайно интересна и во многом типична для определенных современных ситуаций.
Он вспомнил, как перепугался Госс, когда рассказ появился на страницах журнала «Инглиш иллюстрейтед». Тот сказал, что большинство узнает Саймондсов, а кто не узнает – вообразит, что речь идет о Роберте Льюисе Стивенсоне. Генри сказал ему, что рассказ написан и опубликован; он ни на миг не задумывается, увидит ли кто-то в его героях себя или других. Госс продолжал нервничать, зная, какой большой вклад внес в его создание. Он настаивал, что писать рассказы, используя фактический материал и реальных людей, нечестно, странно и в некоторой степени подло. Генри не желал его слушать. Госс в отместку перестал делиться с ним своим обычным запасом сплетен.
Впрочем, вскоре его друг забыл о своих возражениях против искусства художественного вымысла как дешевой имитации настоящего и истинного и опять начал рассказывать Генри новости, которые ему удалось собрать со дня последней их встречи.
Когда Стерджес рассказал Генри, что жена Уайльда приехала из Швейцарии лично сообщить мужу-арестанту о смерти его матери, он снова задумался о судьбе детей, рожденных в союзе противоборствующих сил.
Перед мысленным взором его возникла картина: он и Уильям у окна отеля «Экю» в Женеве. Тогда ему было двенадцать, а Уильяму – тринадцать, и время, проведенное ими в Швейцарии, казалось ему вечностью скорби: бесконечные часы скуки, грязные улицы, дворы и переулки, черные от старости.
Он представил себе сыновей Уайльда, с чужими именами, с неизведанной судьбой, как они смотрят в окно вслед уходящей матери. Он спрашивал себя, чего они боялись больше всего с наступлением ночи – двое испуганных детей в неумолимом городе, с его густыми и мрачными тенями, два малыша, не понимающие до конца, почему мама покинула их, оставив на попечение слуг, во власти безымянных страхов, едва уловимых знаний и памяти о злодее-отце, которого изолировали от мира.
Глава 5
Май 1896 г.
Болела правая рука. Когда он спокойно писал, не делая росчерков, то не чувствовал даже легкого дискомфорта, но когда прекращал писать, когда просто шевелил кистью – брался за дверную ручку, например, или брился, – то ощущал мучительную боль в запястье и в районе кости, идущей к мизинцу. Поднять со стола лист бумаги для него теперь стало чем-то вроде пытки средней тяжести. Уж не повеление ли это богов, думал Генри, чтобы он не переставал писать, не выпускал перо из пальцев?
Каждый год с приближением лета им овладевала одна и та же настойчивая, безотчетная тревога, рано или поздно перерастающая в панику. Поскольку трансатлантические путешествия стали более легкими и комфортабельными, популярность их тоже выросла. С течением времени его многочисленные кузины и кузены, казалось, обзавелись множеством собственных кузенов и кузин, а друзья – сонмами новых друзей. В Лондоне все они желали посетить Тауэр, Вестминстерское аббатство и Национальную галерею, а со временем и его имя было внесено в этот список великих местных памятников, которые необходимо обозреть. Когда вечера стали более долгими и ласточки вернулись с юга, к нему косяками потянулись письма – письма-рекомендации и, как он их называл, письма-дерзновения от самих туристов, уверенных, что их визит будет лишен должного блеска, если они упустят исключительную возможность встретиться со знаменитым писателем и не воспользуются благом его общества и его советами. Если его ворота окажутся для них заперты, подразумевалось в их письмах – на самом деле они часто настаивали и умоляли, – они не получат полного удовлетворения, ибо их деньги будут потрачены зря, а это, как ему открылось, становилось все более и более важным для его соотечественников на исходе столетия.
Он вспомнил одну сцену, записанную им в блокноте в прошлом году. С тех пор она не выходила у него из головы. Джонатан Стерджес рассказал ему о встрече в Париже с Уильямом Дином Хоуэллсом, которому было под шестьдесят. Хоуэллс сказал Стерджесу, что не узнает города, все здесь для него ново и каждое впечатление он испытывает впервые. Хоуэллс выглядел печальным и задумчивым, будто намекая, что для него уже слишком поздно, он на склоне жизни и теперь ему остается лишь впитывать ощущения и сожалеть, что молодость прошла без них. А потом, в ответ на какую-то фразу Стерджеса, Хоуэллс положил руку ему на плечо и воскликнул:
– О, вы же так молоды! Живите и радуйтесь жизни, живите на полную, большая ошибка этого не делать. Не так уж и важно, что именно вы делаете, – просто живите.
Стерджес по ролям разыграл их диалог и вложил в его слова странный и жалостный призыв, внезапный трагический всплеск, словно Хоуэллс впервые говорил правду. Генри знал Хоуэллса тридцать лет и регулярно с ним переписывался. Когда бы Хоуэллс ни приехал в Лондон, он чувствовал там себя как дома, как повидавший мир космополит. Генри крайне удивило тогда, что своей реакцией на Париж Хоуэллс создал у Стерджеса впечатление, будто он вообще не жил и ему уже поздно начинать.
Генри хотел бы, чтобы его американские гости чувствовали себя в Лондоне так, как Хоуэллс в Париже. Чтобы эти визиты вызывали в них благоговейный трепет или сожаление или заставляли бы понимать мир и свое место в нем, как никогда прежде. А вместо этого он выслушивал от них, что, дескать, таких тауэров и в Соединенных Штатах полно, а некоторые их исправительные учреждения уж по крайней мере размерами выгодно отличаются от лондонского Тауэра. И кстати, их река Чарльз, похоже, куда лучше служит своей цели, нежели Темза.
И тем не менее каждое лето он с интересом созерцал Лондон глазами своих визитеров, воображал, будто он один из них, будто видит Лондон впервые, так же, как представлял жизнь, которой мог бы жить, когда ездил в Италию и обратно в Соединенные Штаты. Новый уличный пейзаж, даже одно-единственное здание могли наполнить его мыслями о том, кем он мог бы стать, кем он мог бы быть сейчас, если бы остался в Бостоне или проводил свои дни в Риме или Флоренции.
В детстве для него и для Уильяма, а возможно, и для Уилки с Бобом или даже для Алисы причины переезжать из Парижа в Булонь, или из Булони обратно в Лондон, или вообще из Европы назад в Соединенные Штаты никогда не казались такими прочными, как вечное беспокойство их отца, его сильнейшее возбуждение, которого они так никогда и не смогли понять. Все его детство семья Генри обретала пристанище только затем, чтобы вскоре снова быть вырванной с корнем, или, поселившись, как это часто бывало, в неудачном жилище, они сидели на чемоданах, ожидая скорого отцовского объявления, что им опять придется уехать. Это вызывало у Генри острую жажду защищенности и оседлости. Он не мог понять, зачем его семья перебралась из Парижа в Булонь. Ему было двенадцать или тринадцать лет, и, наверное, тогда грянул кризис на фондовой бирже, или какой-то арендатор не внес арендную плату, или пришло тревожное письмо о дивидендах.
Живя в Булони, они часто гуляли с отцом по берегу моря. Генри запомнилась одна из таких прогулок – безветренный и спокойный день в начале лета, уходящее вдаль песчаное пространство, широкая морская гладь. Они зашли в кафе с большими прозрачными окнами и посыпанным отрубями полом, что, по мнению Генри, придавало ему шарм цирковой арены. В кафе было пусто, не считая пожилого господина, с перекошенным лицом ковырявшегося в зубах, и еще одного посетителя, макавшего булочки с маслом в кофе и, к вящему восторгу Генри, уничтожавшему их в крошечном промежутке между носом и подбородком. Уходить Генри не хотелось, но отец настаивал на ежедневной прогулке по пляжу, посему пришлось лишиться удовольствия созерцать пищевые обычаи французов.
Должно быть, отец что-то рассказывал, пока они шли домой. Во всяком случае, перед его мысленным взором сейчас предстал яркий образ – бурно жестикулируя, Генри Джеймс-старший обсуждает какую-то лекцию, книгу или новый круг идей. Ему нравилось слушать отца, особенно если рядом не было Уильяма. Они не шли по мелководью и вообще не подходили к волнам слишком близко. Ему запомнилось, что шли они очень быстро. Возможно, у отца в руках даже была трость. Это была картинка счастья. И для стороннего зрителя она, наверное, такой и осталась – идиллической сценкой общения отца и сына, беззаботно гуляющих вместе поздним утром по пляжу в Булони. В море купалась какая-то женщина – молодая женщина, за которой присматривала женщина постарше, сидя на песке. Купальщица была дама дородная, даже, пожалуй, чересчур, но элементы купального костюма надежно защищали ее телеса. Она очень умело плыла, позволяя волнам вынести себя на берег. Затем она стояла в море спиной к берегу и плескала руками по воде. Генри не обратил на нее внимания поначалу, когда отец остановился и сделал вид, что ищет глазами некую точку далеко на горизонте. Затем отец в полном молчании сделал несколько рассеянных шагов вперед и повернулся, чтобы снова обшарить взглядом горизонт. На этот раз Генри сообразил, что отец рассматривает купальщицу, изучает ее яростным, голодным взглядом, а потом отворачивается к невысоким дюнам у него за спиной и притворяется, что они интересуют его в той же степени.
Когда отец отвернулся в очередной раз и направился в сторону дома, он затаил дыхание и молчал. Генри хотел придумать отговорку, чтобы побежать вперед, оторваться от него, но затем отец снова повернулся, и выражение лица у него было оживленное, лицо покрылось пятнами, а взгляд стал колючим, словно от злости. Теперь отец застыл на берегу и, дрожа от возбуждения, разглядывал пловчиху, стоявшую спиной к нему в облегающем ее тело купальном костюме. Отец больше не прилагал усилий, чтобы казаться небрежным. Его взгляд был преднамеренным, целенаправленным, но никто другой этого не заметил. Женщина не оборачивалась, ее компаньонка уже удалилась. Генри знал, что для него было важно сделать вид, что ничего особенного в этом нет. Не было и речи о том, чтобы упомянуть или как-то прокомментировать все это. Отец не шевелился и, казалось, не замечал его присутствия, но, должно быть, знал, что он здесь, думал Генри. Как бы там ни было, он слишком упивался разглядыванием купальщицы, чтобы обращать внимание на сына. Наконец, развернувшись, отец направился в сторону дома. И все время оглядывался на ходу с затравленным видом неудачника. А женщина снова уплыла в море.
Генри любил мягкость красок на побережье вблизи Рая[25], любил переменчивый свет, сливочные облака, плывущие по небу словно с какой-то целью, известной лишь им одним. Последние годы он летом всегда приезжал сюда. И это лето не стало исключением. Он шел быстрым шагом, пытаясь хоть раз насладиться днем, ничего не загадывая, но не переставал спрашивать себя, чего же он хочет сейчас, и отвечать, что хочет самого большего – спокойной работы, спокойных дней, маленький и красивый дом и этот мягкий летний свет. Перед отъездом из Лондона он купил себе велосипед, который теперь лежал, дожидаясь его, на тропинке, ведущей к пляжу. Он поймал себя на том, что даже не хочет возвращать прошлое, что научился не просить об этом. Его мертвые не вернутся. Избавившись от страха, что они умрут, он испытал странное удовлетворение и теперь как будто хотел только одного – чтобы время замедлилось.
Каждое утро он стоял на террасе и жалел, что не имеет возможности запечатлеть эти мгновения красоты и сохранить их при себе.
Мощеная терраса была изогнута, словно нос корабля, и с нее открывался чудесный вид, одновременно чистый и переменчивый, как морской простор. А внизу раскинулось местечко Рай – самое неанглийское во всей Англии – с красными черепичными крышами, меандрами мощеных булыжниками улиц и сгрудившимися на них домами. Типично итальянский городок на холме, он обладал особой атмосферой – чувственной и одновременно аскетичной. Теперь он ежедневно гулял по улочкам Рая, разглядывая дома, лавочки с решетчатыми переплетами витрин, квадратную колокольню, выдержанную красоту кирпичной кладки. А дома Генри ждала терраса – его оперная ложа, из которой он мог обозревать все царства мира. Его терраса, думал он, дружелюбна, как человек, и даже более дружелюбна. Он сожалел, что не может купить этот дом, и уже начал роптать по поводу планов владельца вернуть себе дом в начале июля.
В июне ночей почти не было. Он допоздна задерживался на террасе, пока медлительный туман наползал на долину и опускалась мягкая, прозрачная мгла. А спустя несколько часов уже начинал брезжить рассвет. Его единственный гость в эти дни праздности и трудолюбия еще раз написал, подтвердив даты своего приезда и отъезда. Оливер Уэнделл Холмс-младший[26] был его старым другом, теперь отдалившимся, частью группы единомышленников, молодых людей, которых он знал по Ньюпорту и Бостону. Уже в тридцать с небольшим они стали выдающимися людьми и теперь оказывали ведущее влияние на эпоху. Когда они приезжали в Англию, то казались ему непостижимыми – такие уверенные, они всегда так умело завершали фразу, так привыкли, что их слушают. И все же в сравнении с мужчинами их круга из Англии и Франции они, как ни странно, выглядели зелеными юнцами, их дерзость была сродни невинности. Его брат Уильям тоже был таким, но то была лишь одна его половина. Другая же состояла из глубочайшего самосознания, где вся его незрелость и свежесть были погребены под толстым слоем иронии. Уильям знал, какой эффект может произвести его зрелая и сложная личность, но это лежало в той области, о которой их современники, обладающие влиянием в литературном мире Соединенных Штатов или в юриспруденции, ровным счетом ничего не знали. Они оставались естественными, и это для Генри представляло огромнейший интерес.