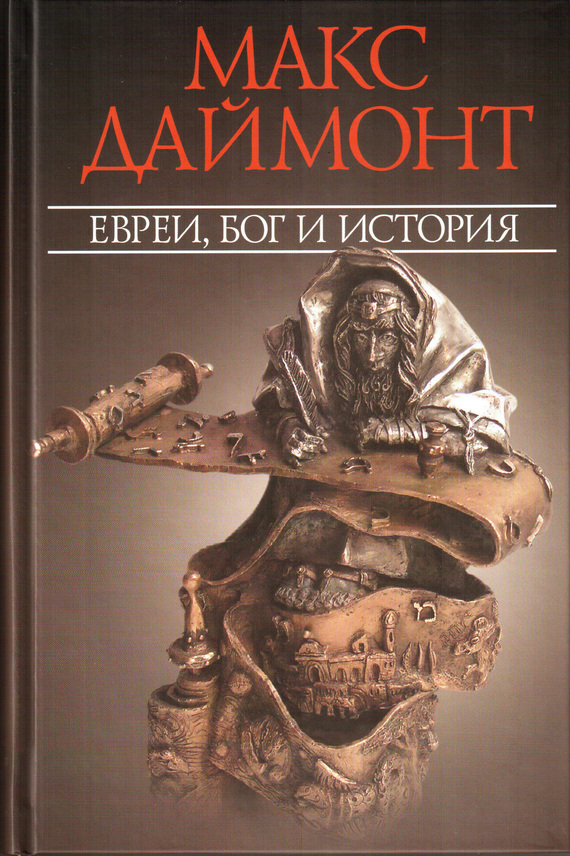Книжка праздных мыслей праздного человека Джером Джером

Первая книжка праздных мыслей праздного человека
Этот маленький томик с любовью и признательностью посвящается моему истинно-дорогому и искренно любимому другу моих добрых и злых дней; другу, который в начале нашего ближайшего знакомства хотя и бывал частенько не в ладах со мною, но с течением времени сделался моим лучшим товарищем; другу, который никогда не возмущался тем, что мне то и дело приходилось покидать его, и (по миновании этого неприятного времени) никогда не отплачивал мне никакими огорчениями; другу, который, встречая со стороны моих домашних женского пола особ только неприязненную холодность, а со стороны моего верного пса – недружелюбную подозрительность, да и с моей стороны получая с каждым днем все больше и больше разных незаслуженных огорчений, за все это лишь сильнее и сильнее сгущал вокруг меня атмосферу своей преданности; другу, который никогда не упрекает меня в моих недостатках, никогда не занимает у меня денег и никогда не мнит о себе; товарищу моих праздных часов, утешителю моих горестей, поверенному моих радостей и надежд, – моей старой и выдержанной трубке.
Предисловие
Так как некоторые из моих немногих друзей, которым я показывал эти очерки в рукописи, нашли их недурными, а некоторые из моих многочисленных знакомых, которые были несостоятельнее, обещали поддержать меня покупкой моей книги, если я выпущу ее в свет, то я и почувствовал себя не вправе задерживать дольше ее издание.
Не будь данных обстоятельств, т. е. не будь этого, так сказать, публичного поощрения, я никогда не решился бы предложить читателям свои «праздные мысли» в качестве духовной пищи. Ведь читатели требуют от книги, чтобы она их улучшала, поучала и возвышала, а эта книга не в состоянии возвысить даже… корову.
Вообще я не могу рекомендовать свою книгу ни с какой полезной целью. Все, на что я могу рассчитывать, это только то, что, когда вам надоедят книги «лучшей марки», вы возьмете в руки на полчаса и мою книгу. Это все-таки принесет вам некоторую пользу, хотя бы даже одним тем, что послужит для вас переменой в чтении.
I
О том, как бывают в стесненных обстоятельствах
Это иногда случается. Я сел за письменный стол с благим намерением написать что-нибудь хорошее и оригинальное, но оказалось, что, хоть убейте меня, я положительно не в состоянии придумать ровно ничего хорошего и оригинального, по крайней мере в данную минуту. Единственно, о чем я могу думать именно в эту минуту, это лишь о том, что значит находиться в стесненных обстоятельствах.
Мне думается, что на такие мысли навело меня то положение, что я уселся к столу, опустив руки в карманы. Я всегда сижу так, когда бываю один и думаю; исключение бывает только в то время, когда я нахожусь в обществе моих сестер, теток или их дочерей. Эти дамы каждый раз, когда я по привычке запихиваю руки в карманы, смотрят такими подавленными, что я поневоле скорее вытаскиваю свои руки из карманов. Когда я спрашивал своих дам, почему так угнетающе действует на них моя манера держать в карманах руки, дамы хором отвечали, что эта привычка неджентльменская.
Никак не могу понять, в чем тут заключается «неджентльменность». Совать свои руки в чужие карманы, особенно в дамские, это действительно не по-джентльменски, но почему не по-джентльменски держать руки в собственных карманах, это для меня положительно непостижимо.
Впрочем, мне приходилось слышать брюзгливую воркотню на эту манеру и со стороны мужчин, но только пожилых. Мы же, молодежь, никак не можем осуждать друг у друга то, без чего чувствуем себя, так сказать, «не в своей тарелке». Невозможность держать руки в карманах, когда нечего ими делать и некуда их больше девать, всегда сильно стесняет, угнетает и раздражает нас. Ведь не имеют же многие дамы ничего против обыкновения настоящих джентльменов держать руки в карманах, когда в последних звучит презренный металл? Странно, очень странно!
Положим, часто не знаешь, что делать с руками и в карманах, когда в последних пусто. Много лет тому назад, когда весь мой капитал зачастую заключался в нескольких несчастных серебряных монетах, я охотно готов был пожертвовать один шиллинг, лишь бы выменять побольше звенящих медяков. Вы чувствуете себя гораздо лучше, когда у вас гремят в кармане одиннадцать медяков, нежели когда там уныло перекатывается из угла в угол одинокий серебряный шиллинг. Да, во дни золотой, хотя и безденежной юности, над которой мы в зрелые годы так беспощадно иронизируем, я не прочь был и каждый пенни разменять на два полупенни.
Что касается вообще вопроса о стесненных обстоятельствах, то я смело могу считать себя в нем авторитетным. В доказательство этого достаточно сказать, что я был провинциальным актером. Если же читатели найдут это доказательство недостаточно веским, то могу добавить, что одно время был «прикосновенен» и к денной прессе в качестве… репортера. Мне приходилось существовать по целым неделям на пятнадцать шиллингов, даже иногда и на десять, а однажды я вынужден был прожить полмесяца и еще на меньшую сумму, вырученную от продажи старого костюма.
Необходимость обходиться пятнадцатью шиллингами в неделю удивительно хорошо знакомит нас с законами, так сказать, домашней экономии. Вы узнаете, что при таком бюджете нужно быть очень осторожным в трате даже полушки; что стакан пива и проезд в трамвае могут при данных условиях быть удовольствиями для вас недоступными; что бумажные воротнички можно менять только раз в четыре дня и что о каких бы то ни было приобретениях для обновления или пополнения туалетных статей нельзя и мечтать.
Советую вам испытать это положение пред тем, как жениться, а также заставить вашего сына и наследника попрактиковаться в такой экономии пред тем, как отправить его в школу; тогда он не будет очень требовательным насчет карманных денег и вполне удовольствуется тем, что вы станете давать ему.
Для некоторых юношей эта практика будет спасением. Подразумеваю тех деланных неженок, которые воображают, что не могут пить другого кларета, кроме высшей марки, и сочтут личным оскорблением, если предложить им кусок простой жареной баранины. Ведь изредка и в действительности встречаются такие жалкие субъекты, хотя, к чести человечества, надо сказать, что по большей части они существуют лишь в воображении женщин-бытописательниц.
Попадались и мне на моем жизненном пути такие, и каждый раз, видя их задумавшимися над самым разнообразным «меню», я чувствовал почти непреодолимое желание схватить их за шиворот и потащить в какой-нибудь «бар» на городской окраине, чтобы хотя только посмотреть, как питаются там люди. А еще лучше заставить такого матушкина сынка самого попробовать там мясного пудинга на четыре пенса, картофеля на пенни и полпинты портера в ту же цену. Воспоминание об этом и живое впечатление, полученное от смешанного запаха плохого табака, кислого пива и кухонных испарений, могли бы внушить ему желание глядеть немножко вперед, а не только себе под ноги.
В подобных уроках нуждаются и те, которые, к великому удовольствию попрошаек и торговцев в разнос сластями и т. п., очень щедро разбрасывают деньги, но никогда не платят долгов. «Я всегда даю на чай не меньше шиллинга и представить себе не могу, как можно давать меньше!» – хвалился мне однажды один мелкий правительственный чиновник, с которым я иногда встречался за столом в ресторане, на Риджент-стрит. Я согласился с ним, что именно в таких фешенебельных ресторанах неловко давать служащему меньше шиллинга, но в то же время дал себе слово свести его как-нибудь в харчевню на Ковент-Гарден, где «услужающие», ради удобства, бегают в одних жилетах, а рубашки меняют только раз в месяц.
Много смешного и наговорено и написано о лишениях. Но одно дело письменно или изустно острить над чем-нибудь, а другое – испытать на себе то самое, над чем смеешься, когда видишь, как подвергаются этому другие. Могу по собственному опыту уверить вас, что вовсе не смешно казаться скаредным и безжалостным; не смешно и быть одетым во все поношенное и чувствовать себя пристыженным, когда является необходимость сказать свой адрес. Право, для бедняка положительно нет ничего смешного в бедности. Скажу больше: это для человека мало-мальски щепетильного настоящий ад. Не мало я знаю мужественных людей, которые не дрогнули бы пред подвигами Геркулеса, но не были в силах вынести постоянных мелких уколов самолюбию, сопряженных с бедностью.
Трудно переносить не самые лишения, а глумления над ними. Велика важность бедность сама по себе, если только она не доходит до такой крайности, когда совсем уж нечего есть и нечем прикрыть свою наготу. Если бы все дело ограничивалось одними лишениями лично для себя, то многие и не охнули бы. Неужели Робинзон Крузо мог огорчаться заплаткой на своей одежде? Да и была ли у него там, на необитаемом острове, вообще какая бы то ни было одежда? Очень может быть, что ему там в ней и надобности не было. Но предположим, что была, – так неужели Робинзон, будучи один на всем острове, стал бы страдать от того, что у него отваливаются подошвы от сапог и приходится связывать их веревочками, или от того, что у него не изящный шелковый дождевой зонт, а простой, самодельный, из козьей шкуры, лишь бы этот зонт мог служить ему? Нет, все это нисколько не могло тревожить Робинзона, потому что вокруг него не было «друзей», которые могли бы смеяться над его обтрепанностью.
Быть бедным не страшно. Весь ужас положения в том, что нельзя скрыть свою бедность от других. Не от ощущения холода бежит во всю прыть бедняк, лишенный теплой одежды, и не от стыда краснеет он, когда спешит уверить вас при встрече, что считает вредным для своего здоровья одеваться «слишком тепло», а от того, как вы взглянете на это.
Бедность – не порок. Будь это пороком, тогда никому и в голову не пришло бы стыдиться своей бедности. Нет, бедность – недостаток и как таковой и наказуется. Человек бедный презирается во всем мире; презирается и первым богачом, и последним нищим; и никакая прописная мораль, которой так щедро угощают молодежь школьного возраста, не заставит уважать бедняка.
Люди ценят одну видимость. Вы открыто пройдетесь по многолюдным улицам Лондона под руку с самым отъявленным негодяем, лишь бы он был хорошо одет, но спрячетесь в темный угол, если у вас явится необходимость перемолвиться парой слов с самой добродетелью в поношенной одежде. Добродетель в потрепанном платье отлично знает это, поэтому и сама старается не встречаться с вами, чтобы не оскорбить вас своим видом.
Не стесняйтесь скорее отвести глаза в сторону, если нечаянно заметите на улице знакомого, который прежде пользовался благосостоянием, а потом пришел в упадок и теперь свидетельствует об этом всей своей внешностью. Поверьте, он и сам только того и желает, чтобы остаться незамеченным вами. Не бойтесь и того, что он может обратиться к вам с просьбой о помощи: он пуще вас боится, как бы вам самому не вздумалось предложить ему эту помощь.
Привыкают к стесненным обстоятельствам тем же путем, каким вообще привыкают ко всему, т. е. благодаря стараниям того чудодейственного врача-гомеопата, имя которому Время. Опытный взгляд сразу улавливает разницу между новичком в бедности и уже освоившимся с нею; между закаленным в многолетней борьбе с нуждой и в конце концов как бы сдружившимся с ней и злополучным новоиспеченным бедняком, всячески усиливающимся скрыть свою только что начавшуюся нужду.
Эта разница особенно сказывается в манере закладывать свои вещи. Не напрасно сказано каким-то наблюдателем: «Уменье закладывать вещи является делом искусства, а не случая». Одни идут к «благодетелям» с тем же спокойным и полным достоинства видом, с каким ходят к своему портному, приняв даже еще более независимую мину.
Привлеченный самоуверенностью такого джентльмена, приемщик немедленно его обслуживает, к немалому негодованию дамы, более близкой к очереди и не без иронии замечающей вслух, что она, так уж и быть, готова подождать ради «постоянного клиента». Привычный глаз этой дамы не ошибся: это действительно «постоянный» клиент.
Но сколько труда и мучений тому, кто в первый раз несет «на отдых» свои часы. Отвечающий первый трудный урок ученик гораздо спокойнее и смелее такого новичка. Прежде чем вступить в святилище заклада, несчастный новичок так долго и с такой мучительной нерешительностью заглядывает в его окна, что, в конце концов, собирает вокруг себя толпу уличных зевак и возбуждает полное бдительной подозрительности внимание ближайшего постового полисмена. И только тут, видя себя предметом общего напряженного любопытства, новичок начинает показывать вид, что желает приобрести по сходной цене золотую сигарочницу или что-нибудь в этом роде из массы выставленных в окнах предметов, и, разыгрывая более или менее удачно человека, вполне обеспеченного, но, тем не менее, соблюдающего, где можно, разумную экономию, он направляется ко входу в святилище.
Вступив вовнутрь «благодетельного» учреждения, новичок так тихо делает нужные ему расспросы, что его приходится несколько раз переспрашивать и просить говорить погромче. Услыхав наконец от него, что его «больной приятель просил получить ссуду под часы», ему указывают пройти во двор, в первую дверь направо, за углом. Получив это указание, новичок спешит удалиться с таким пылающим лицом, что если бы к нему приложить спичку, то она загорелась бы. Убежденный, что теперь уже весь Лондон догадался о его тайне и собрался побить его камнями, он бегом направляется в указанное место.
Очутившись там пред стойкой приемщика, он вдруг забывает свое имя и место жительства; а когда ему строгим голосом предлагается вопрос, откуда он взял «эту вещь», он начинает запинаться, заикаться и нести такую околесицу, что только каким-то чудом удерживается соврать, что украл часы. Тем не менее он одним своим смущением доводит приемщика до заявления, что «здесь такими делами не занимаются», и что ему, ради безопасности, лучше скорее убираться отсюда.
Получив такую отповедь, новый неудачный клиент ломбарда выскакивает оттуда как ошпаренный и без оглядки мчится на противоположный край города, почти не сознавая, что делает и где находится.
Кроме таких чисто нравственных мучений, проистекающих от необходимости заложить часы, сколько еще неприятностей, когда без собственных часов человек становится вынужденным распределять свое время по трактирным или церковным часам. Но первые обыкновенно идут слишком медленно, а последние всегда спешат. Увидеть время на трактирных часах через окно часто не удается. Если же вы осмеливаетесь приотворить с этой целью дверь, то рискуете быть принятым за попрошайку или даже за кое-кого похуже. Во всяком случае появление вашей головы в полураскрытой двери вызывает в трактире тревогу. Заметив произведенное вами неблагоприятное впечатление, вы сконфуженно удаляетесь и утешаете себя надеждой, что, быть может, будете счастливее в следующей попутной пивной.
Но там окна оказываются настолько высоко, что вы должны подпрыгивать, чтобы увидать что-нибудь в них. Возле вас тотчас же группируется местная уличная молодежь; она принимает вас за странствующего музыканта или фигляра и очень разочаровывается, когда убеждается, что при вас нет никаких соответствующих инструментов и приспособлений.
Затем еще одно неудобство. По какому-то странному капризу судьбы, когда вы только что поместили свои часы в «верные руки», почти вслед за тем непременно кто-нибудь из встреченных на улице попросит вас сказать, который час. Когда же ваши часы бывают при вас, этого почти никогда не случается.
Добрые старые джентльмены и леди, которым никогда не приходилось быть в стесненных обстоятельствах, – да и дай им Бог так с тем и покончить своевременно свое земное поприще! – смотрят на залог вещей как на последнюю степень падения; но люди новых поколений, в первый раз загнанные нуждой в ломбард или тому подобные учреждения, встречают там такую массу клиентов, что оказываются в положении того мальчика, который, попав в рай, удивлялся, что там «видимо-невидимо и старых и молодых мальчиков».
Мое же личное мнение таково, что знаться с учреждениями для заклада вещей все-таки приличнее, чем прибегать к услугам друзей и знакомых. Это мнение я всегда и стараюсь внушать тем из моих знакомых, которые начинают намекать на свое желание занять у меня два-три фунтика (стерлингов, конечно), «до послезавтра». К сожалению, не все с этим соглашаются. Один даже заметил мне, что в этом отношении он «принципиально» расходится со мной во мнении. Было бы ближе к истине, если бы он сказал, что не соглашается со мной только потому, что это ему выгоднее. Конечно, гораздо выгоднее занимать без процентов, нежели платить в закладных кассах двадцать пять за сто.
Есть своя постепенность и в стесненных обстоятельствах. Ведь мы, в сущности, все находимся в стесненных обстоятельствах, – один больше, другой меньше. Одни стеснены неимением тысячи фунтов, другие – отсутствием в кармане нужного шиллинга. Каждый стеснен по своему положению.
II
О том, как бывают не в духе
С меланхолией можно еще примириться. На дне ее даже скрывается некоторого рода удовольствие; быть меланхоликом, – да ведь это нечто незаурядное! Но быть просто не в духе – это уж совсем другое, сортом гораздо ниже. Каждый бывает не в духе, часто сам не сознавая почему именно. От этого состояния вы ровно ничем не гарантированы. Вы можете быть не в духе на другой день после получения большого наследства так же легко, как и после того, когда спохватились, что забыли в вагоне трамвая свой шелковый дождевой зонт.
Ощущения, сопряженные с бытием не в духе, отчасти напоминают те, которые вызываются одновременными приступами зубной боли, несварения желудка и жестокого насморка. Вы становитесь несообразительным, раздражительным и беспокойным; грубым к незнакомым и опасным для своих друзей; угрюмым, брюзгливым и придирчивым – словом, в тягость самому себе и всем окружающим вас.
Пока вы не в духе, вы не в силах ни думать о чем-либо дельном, ни, тем более, делать что-либо нужное, хотя бы даже и по обязанности. И вы отлично сознаете это, но сладить с собой не можете. Не будучи в состоянии усидеть на месте, вы схватываете шляпу и отправляетесь гулять. Но не успели вы добраться до первого угла улицы, как уж начинаете досадовать, зачем вышли из дому, и повертываете назад. Очутившись снова у себя в кабинете, вы берете в руки книгу и собираетесь читать. Но Шекспир вам кажется пошлым и плоским, Диккенс – тяжелым и чересчур прозаичным, Теккерей – скучным, а Карлейль – не в меру сентиментальным. Перебрав чуть не всю свою библиотеку знаменитых авторов, вы с негодованием швыряете последнюю книгу в угол и браните оптом всю пишущую братию.
Возле ваших ног трется кошка; вы выталкиваете ее за дверь, которую затем запираете на ключ. Тут вам приходит в голову, что не мешало бы написать два-три письма. Беретесь за перо, но, написав что-нибудь вроде следующего: «Дорогая тетушка! Улучив пять минут свободного времени, спешу воспользоваться ими, чтобы написать вам», – вам уж больше не удается выжать из своего подавленного мозга ни одной фразы. Чуть не изжевав или измяв в зубах – смотря по материалу – ручку пера, вы бросаете ее куда попало, рвете начатое письмо на мельчайшие клочья и вскакиваете с кресла с твердым намерением развлечься посещением ваших добрых знакомых Томпсонов. Но пока вы надеваете перчатки, вам начинает казаться, что Томпсоны – люди очень глупые, что, если вы пойдете к ним, вам придется понянчиться с их последним отпрыском и что, вдобавок, у них никогда не бывает ужина. Вы проклинаете Томпсонов и решаетесь остаться дома.
В это время вы чувствуете себя совершенно разбитым. Вам хотелось бы умереть и попасть в рай. И вот вы начинаете представлять себя лежащим на смертном одре, окруженном всеми вашими родными, друзьями и знакомыми, проливающими ручьи слез. Мысленно вы благословляете их всех, в особенности тех из знакомых дам, которые помоложе и покрасивее. Вы говорите себе, что все эти люди оценят вас, когда вас уже не будет на свете, и с горечью сопоставляете их предполагаемые будущие добрые чувства к вам с тем равнодушием, которое они до сих пор питали к вашей особе, прикрываясь лишь маской лицемерия.
Все-таки мысль, что вас будут оплакивать хоть мертвого, на минуту утешает вас, но вслед за тем вы обзываете себя дураком за то, что могли хоть на одно мгновение вообразить себе, что даже ваша смерть в состоянии будет огорчить кого-нибудь. Вообще никому нет дела до вас, хотя бы вас повесили, расстреляли, взорвали или если бы вы даже женились. Никогда никому вы не были милы и дороги; никто никогда не воздавал вам даже должного, и вообще вам с самой колыбели не сладко жилось на свете; следовательно, не сладко будет умирать, – с полной логичностью заключаете вы.
В итоге этих и тому подобных размышлений вы доходите до степени белого каления в ненависти ко всему миру вообще, а в частности к собственной особе, которую вам, за неимением под рукой другого подходящего субъекта, очень хотелось бы даже хорошенько отдуть, если бы этому не мешали, так сказать, анатомические условия.
Кое-как вы дотягиваете до того времени, когда привыкли ложиться спать. Окрыленные надеждой, что хоть сон даст вам облегчение, вы опрометью мчитесь в спальню, срываете с себя и разбрасываете по всему полу свою одежду, поспешно тушите свечу и с таким ожесточением бросаетесь на постель, что она вся трещит и дребезжит.
Но и сон недружелюбен к вам и упорно бежит от вас. Вы ворчите, стонете, ворочаетесь с боку на бок, то раскрываетесь, потому что вам кажется нестерпимо жарко, то вновь закутываетесь одеялом, дрожа от ощущения холода. Когда-то, когда-то вам, наконец, удается забыться в тяжелом, тревожном сне с кошмарными видениями, от которых тщетно стараетесь избавиться, глухо крича что-то и размахивая руками. Просыпаетесь вы поздно, и все в том же «не в духе».
Так обстоит дело с нами, холостяками. У людей семейных картина немного видоизменяется. Будучи не в духе, они шпыняют своих жен, капризничают за столом, среди дня посылают спать своих детей, вообще приводят в расстройство весь дом. Возбужденные ими шум, суета и беспорядок доставляют им некоторого рода облегчение, потому что тогда они страдают не одни, а в компании.
Наружные признаки того состояния, которое определяется словами «быть не в духе», приблизительно одни и те же, но внутренние ощущения при этом бывают различны, в зависимости от личных свойств каждого субъекта. Поэтому каждый человек различно характеризует свое, так сказать, душевное недомогание. Одни в это время говорят о себе, что на них напала страшная беспричинная тоска; другие жалуются: «решительно не могу понять, что это сегодня делается со мной: все опротивело!»; третьи, встретив вас где-нибудь в собрании, выражают особенную радость видеть вас, потому что надеются с вами «отвести душу». «Что же касается меня лично, – добавляют они, – то я чувствую себя так, точно не доживу до следующего утра».
У многих такое состояние бывает только по вечерам, когда затихают шум и суета делового дня, не дававшие вам время почувствовать то, что делается внутри вас. Во всяком случае днем у вас есть возможность тем или другим способом отделаться от скребущих у вас на сердце кошек, но вечером, когда вы одиноки и настолько обеспечены, что не нуждаетесь в добавочных вечерних трудах, вы вполне во власти своего «нутра».
Угнетенное состояние духа вызывается у нас не действительностью; она слишком груба, чтобы допускать расплывчатость чувств. Мы можем проливать слезы над трогательной картиной, но если бы мы встретили такую же картину в живых лицах, то поспешили бы отвернуться от нее. В истинной нужде нет ничего патетического, как нет наслаждения в настоящей горести. Мы не играем острыми мечами и по доброй воле не прижимаем к сердцу змею. Когда кто-нибудь демонстративно предается своим горестям и, видимо, усиливается разжигать их в себе, это значит, что он не испытывает действительных страданий. Сначала, действительно, могло быть и настоящее страдание, но с течением времени оно побледнело, от него осталось одно воспоминание, которое и доставляет своего рода удовольствие.
Я знаю, что меня назовут циником многие старые дамы, ежедневно погруженные в созерцание крохотных поношенных башмачков, хранящихся у них на дне душистых ящичков, и плачущие при мысли о тех маленьких ножках, которые когда-то бегали в этих башмачках, а потом вдруг навеки замерли. Не жду я иной аттестации и от тех девиц, которые кладут себе под подушку черную или светлую прядь кудрей, украшавших голову прекрасного юноши, зацелованного до смерти солеными морскими волнами. Но я уверен, что, если бы спросить этих дам и девиц, мучительны ли им такие воспоминания, они ответили бы отрицательно.
Для некоторых лиц слезы так же приятны, как смех. Вошедший в пословицу англичанин, описанный нам старым летописцем Фруассаром, печально воспринимал все удовольствия, английская же женщина идет еще дальше; она находит удовольствие в самой печали.
Я не с насмешкой пишу это и вовсе не расположен насмехаться над чем бы то ни было, что может еще смягчить сердца в этом жестоком мире. Я рад, что еще есть мягкие сердца у женщин. Довольно того, что сами-то мы, мужчины, холодны и рассудительны: похожих на нас женщин нам вовсе не нужно. Нет, нет, дорогие дамы, не пугайтесь моих слов. Оставайтесь чувствительными и мягкосердечными; будьте смягчающим маслом к нашему сухому насущному хлебу.
Чувствительность для женщины – то же самое, что наклонность ко всякого рода забавам и потехам у нас. Ведь женщины не мешают же нам в наших удовольствиях, так зачем же мы будем попрекать их склонностью к постоянному искусственному переживанию былых горестей? И чем же, наконец, это их удовольствие хуже наших? Почему мы должны предполагать, что вздувшаяся от натуги грудь, судорожно искривленное красное лицо и широко разинутый рот, испускающий раздирающий уши смех, указывают на более разумную степень испытуемого данным субъектом удовольствия, нежели задумчивое женское лицо, опушенное на белую руку, и пара затуманенных слезами глаз, глядящих назад, в погибшее прошлое?
Нет, я положительно радуюсь, когда вижу, что женщина подружилась с печалью; радуюсь, потому что знаю, что в этом случае печаль уже утратила свою первоначальную мучительную остроту и горечь. Бывает ведь это и у нас. И нам самим может казаться прекрасным лицо печали, когда оно лишилось своего жала; тогда и мы с некоторым наслаждением можем прижаться губами к ее бледному челу.
Мало ли ран наносится беспощадной жизнью и нашему мужскому сердцу. Когда всеисцеляющее время затянет эти раны, мы спокойно можем созерцать в своем воспоминании то, что нас ранило и заставило тяжело страдать. Не тяжела нам больше свалившаяся с наших плеч ноша, когда мы, подобно Тому и Меджи Тюливерам, получившим возможность пойти рука об руку, видим ее лишь в прошедшем.
Том и Меджи привели мне на память одно изречение мистрис Джордж Элиот. Где-то в одном из своих романов она говорит о «печали летнего вечера». Все хорошо, что выходило из-под золотого пера этой писательницы; бесподобно хорошо и это выражение. Действительно, кто не испытывал чарующей печали медлительного солнечного заката? Кто не чувствовал, что в это время мир находится во власти самой богини Печали, этой прекрасной девы с задумчивым лицом и бездонно глубокими глазами, избегающей дневного блеска? Она показывается только тогда, когда, по словам поэта, «меркнет свет и ворон летит на ночлег на лесистый утес». Ее дворец скрыт в сумерках, Вы можете увидеть ее стоящей в серой мгле. Она приветливо берет вас за руку и ведет по своим таинственным туманным владениям. Вы лишь смутно различаете ее формы, но ясно слышите шелест ее крыльев.
Она может встретиться вам даже в столичном шуме и сутолоке. Ведь и там, на каждой длинной мрачной улице, чувствуется присутствие печали, а темная река призрачно переливается под черными арками и как бы несет в своих мутных водах какую-то тяжелую и тоже печальную тайну.
В сельской же тишине, где деревья и живые изгороди в спутанных и туманных очертаниях вырисовываются на фоне тонущего в сумерках неба, где вокруг нас шумят крылья летучих мышей и где так глухо разносится по молчаливым вечерним полям жалобный крик коростеля, – чары печали особенно сильно охватывают сердце. В это время нам кажется, что мы стоим у чьего-то незримого смертного ложа, и в шелесте древесных ветвей нам слышатся вздохи умирающего дня…
Мы невольно чувствуем, что здесь всюду царит великая грусть. Торжественное безмолвие окружает нас. В этот час все наши дневные заботы кажутся нам такими мелкими и жалкими, а насущный хлеб с ломтем сыра, даже и… поцелуи теряют всякую цену в наших глазах. Мысли в нашем мозгу не оформляются, но лишь смутно намечаются и тут же гибнут непризнанными. Стоя одиноко среди поля, под темнеющим сводом неба, мы сознаем, что в нас заключено нечто более великое, чем наша бедная жизнь. Мир, со всех сторон закрываемый сотканными из серых теней занавесами, превращается для нас из обыденной мастерской в величавый храм, куда нас тянет молиться и где, в этой таинственной мгле, наши распростертые вперед руки касаются Самого Бога…
III
О суете и тщеславии
Все суета, и каждый человек суетен. Суетны женщины. Суетны мужчины, и, пожалуй, еще более, если это возможно. Суетны дети, и даже преимущественно дети. В настоящий момент, когда я пишу эти строки, маленький ребенок изо всех силенок барабанит своими крохотными ручонками по моим коленям. Этот ребенок – женского пола и требует, чтобы я высказал свое мнение насчет только что надетых на его ножки новых башмачков. По совести я бы должен сказать, что эти башмачки мне вовсе не нравятся. Они кажутся слишком плоскими, неуклюжими и дурной формы. Впрочем, это дурное впечатление может зависеть и от того, что башмаки надеты оба не на ту ногу. Но ведь девочка ждет от меня не порицания, а похвалы, и я хотя и чувствую всю унизительность лжи, но поневоле разливаюсь в красноречивых похвалах башмачкам своей маленькой племянницы. Ведь я знаю, что ничем другим не могу удовлетворить суетному тщеславию этого ясноглазого, светловолосого и розоволицего херувимчика. Я уже пробовал в одном случае говорить ему правду по совести, но не имел успеха. Дело было в том, что девочка желала знать, не нахожу ли я, что она особенная «паинька» и очень ли я ее за это «юбю». Я было обрадовался этому случаю, как вполне подходящему к тому, чтобы сделать маленькой шалунье несколько поучительных разъяснений относительно настоящего характера ее поведения за последние дни. Заявив, что вовсе не нахожу свою племянницу «паинькой», почему и не могу ее очень любить, я напомнил ей все те шалости, которые она проделала не дальше как в течение утра настоящего дня, и принялся объяснять, что несправедливо ждать очень горячей любви от старого мудрого дяди маленькой девочки. Разве не она в 5 часов утра своим неистовым ревом перебудила и подняла на ноги весь дом, в 7 опрокинула ведро с водой на лестнице и сама чуть не расшибла себе при этом голову, скувырнувшись с той же лестницы, в 8 захотела выкупать кошку в молоке, а в 9 с половиной превратила в блин шляпу своего отца, усевшись на ней?
И что же, вы думаете, получилось в результате? Была ли моя племянница признательна мне за то, что я так откровенно высказал ей правду? Прониклась ли она моими словами и почувствовала ли на основании этих слов потребность исправиться и в будущем вести себя степеннее и разумнее?
Как бы не так! Напротив, не дослушав их, она разревелась еще хуже, чем утром. Наревевшись всласть, она с гневом крикнула мне:
– Адкий… оцень адкий дяйка! нехоосий дяйка!.. зьой стаикаска!.. Я сказу маме… позаююсь ей!
И стремглав убежала к маме, которой действительно нажаловалась на меня, так что мне же потом пришлось оправдываться.
С тех пор я тщательно храню про себя свое истинное мнение и всегда, когда того требует моя тщеславная племянница, выражаю безграничное восхищение всеми ее шалостями и вещами. Выслушав меня с радостно блестящими глазенками и вполне сочувственными кивками своей светлокудрой головки, она, громко топоча ножками, весело бежит оповестить всех домашних о том, что «тепей дяя оцень умный и добый» и «оцень юбит» ее. Делается это оповещение, между прочим, и с утилитарной целью, судя по тому, что каждый раз девочка добавляет: «Дяя сказай, – паиньке нузно дать койфеток».
Добившись и на этот раз от меня похвалы своим башмачкам, она удаляется в виде воплощенного торжествующего тщеславия. Даже несвойственная, казалось бы, ее нежному возрасту гордость рисуется на ее личике, словно похвала ее обуви относится к ее собственным действительным достоинствам.
Все дети таковы. Однажды, когда я сидел в одном саду в окрестностях Лондона, вечерняя тишина вдруг нарушилась звонким детским голоском, пронзительно кричавшим в соседнем саду: «Гамма, Гамма! Представь себе, ведь мама подарила мне праздничную курточку Боба! Он из нее вырос… Ах, как я рад, как я рад!» И действительно, слышно было, как кричавший мальчуган захлебывался от радости.
Даже животные суетны и тщеславны. Мне пришлось видеть, как большой ньюфаундлендский пес с великим самоуслаждением любовался на свое изображение в зеркале. Это было в блестящем модном магазине на одной из самых оживленных улиц Лондона, и не я один видел этого влюбленного в свою особу пса.
Как-то раз я присутствовал на одном сельском празднестве, имевшем отношение к домашнему скоту. После совершения разных церемоний перед собранным на лугу коровьим стадом на одну из представительниц этого стада был возложен венок из полевых цветов. Поверите ли? Эта четвероногая особа весь день потом ходила точь-в-точь с таким же напыщенным видом, с каким ходят дети в новом нарядном платье. Вечером, когда наступило время доения и венок был с коровы снят, она выразила признаки крайнего неудовольствия, начала брыкаться, чего раньше никогда не делала, и успокоилась лишь после того, когда венок снова был водворен на ее рога. Это не анекдот, а правдивая картина из жизни.
Кошки своим тщеславием еще ближе подходят к человеку. Я знал кошку, которая демонстративно уходила, когда слышала неодобрительные отзывы о своем племени; маленький же комплимент, отпущенный ей, заставлял ее долго мурлыкать от удовольствия.
Я люблю кошек. Они так бессознательно забавны. Сколько в них комического достоинства, сколько умения придавать себе такой вид, с которым она яснее всяких слов говорит: «Как ты смеешь! Пошел, не трогай меня!» В собаках нет такой высокомерности. Они всегда готовы подружиться с кем угодно. Встречаясь со знакомым псом, я глажу его рукой по голове, говорю ему несколько нежных слов и опрокидываю его на спину. Нисколько не обидевшись, он катается предо мной на земле, шутливо разевает пасть и протягивает мне все свои лапы.
Попробуйте поступить так бесцеремонно с кошкой, и она никогда больше не станет «разговаривать» с вами. Чтобы расположить к себе кошку, вам следует действовать очень осторожно, с тонким расчетом. Знакомство с кошкой вам лучше всего начать со слов: «Бедная киска!» – и немного спустя добавить тоном сердечного сочувствия: «Славная киска!» Это так подействует на ее сердце, в особенности если у вас приличный вид и внушающие доверие манеры, что кошка сделает «спинку» и начнет тереться о вас носом. Раз вами достигнут этот успех, вы можете потрепать ее по шее и почесать у нее за ушками; это уже приведет к такой растроганности киску, что она, в виде особенной ласки, довольно чувствительно впустит вам в ноги свои когти, и тогда у вас с ней будет закреплена та дружба, которая описана поэтом следующими словами:
«Я люблю свою киску. У ней такая мягкая шубка, и, если не раздражать киску, она очень мила. Я ласково треплю и глажу ее рукой; сытно кормлю ее, и она меня любит за то, что я добр к ней».
Последние слова дают полное понятие о том, что именно кошка представляет себе под человеческой добротой: кто погладит и потреплет ее по спинке и притом досыта кормит, тот и добр в ее глазах. Впрочем, такой узкий взгляд на добродетель свойствен не одним кошкам; ведь и сами мы, люди, в большинстве случаев оцениваем друг друга с той же утилитарной точки зрения. Добрым человеком мы называем того, кто добр именно лично к нам, а злым – того, кто не делает для нас того, чего мы от него ожидаем.
В самом деле, по совести, мы должны сознаться в существующем у нас врожденном убеждении, что весь мир со всем в нем находящимся создан лишь как необходимое дополнение к нам; а все люди существуют только для того, чтобы доставлять нам всякие удовольствия и удобства, между прочим, и с той целью, чтобы было кому восхищаться нами.
Каждый из нас совершенно серьезно считает себя мировым центром. Под этим углом зрения смотрим друг на друга и мы с вами, любезный читатель. Вы, по-моему, сотворены заботливым Провидением единственно для того, чтобы читать мои произведения и платить мне за это удовольствие, а я, по-вашему, послан в мир именно с той миссией, чтобы я забавлял вас своими писаниями.
Звезды – как мы называем те мириады других миров, которые кружатся вокруг нас в вечном безмолвии, – считаются нами устроенными специально ради того, чтобы украшать для нас ночное небо. А луна с ее темными тайнами и то и дело скрываемым лицом не имеет другого назначения, как служить нам удобным приспособлением для любовного флирта – опять-таки, разумеется, с нашей точки зрения.
Очевидно, что почти все мы похожи на того петуха, который воображал, что солнце каждое утро восходит лишь для того, чтобы слышать его кукареку. Недаром сказано: «Мир движется тщеславием». Не думаю, чтобы был хоть один человек, свободный от тщеславия. Если же и существует такое исключение из общего правила, то с ним будет крайне неудобно иметь дело. Человек нетщеславный может быть очень хорошим человеком, заслуживающим нашего полного уважения; он может быть таким образцом всех добродетелей, что смело мог бы жить в хрустальном доме, весь напоказ, может быть достойным пьедестала и служить для всех образцом. Да, он может быть предметом всеобщего почитания, но не любви. Не от такого человека мы можем ожидать братской помощи…
Кажется, что уж может быть лучше ангелов, но для нас, простых смертных, очень далеких от совершенства, их общество было бы очень тяжело. Ведь даже постоянное присутствие среди нас людей с мало-мальски выдающимися нравственными качествами угнетает нас. Не добродетели наши, а недостатки заставляют нас симпатизировать друг другу и сходиться. Во всем же, что есть в нас лучшего, мы сильно расходимся. Мы солидарны лишь в наших сумасбродствах. Некоторые из нас отличаются благочестием, другие – великодушием, третьи – сравнительной честностью, а некоторые, в меньшинстве, достойны даже во всех отношениях полного доверия. Однако между всеми этими людьми очень мало объединяющего. Вполне нас объединяют только тщеславие да разные слабости.
Тщеславие – это та сила, которая родственными узами связывает все человечество. Ведь, в сущности, нет никакой разницы между индейским воином, гордящимся своим поясом из волос вражьих черепов, и европейским генералом, который чванится покрывающими его грудь орденами и медалями; между китайцем, хвалящимся длиною своего «крысиного хвоста» на затылке, и профессиональной красавицей наших больших городов, подвергающейся самоистязанию, лишь бы у нее талия была перетянута «в рюмочку»; между бедной поденщицей с захлюстанным подолом, но с важным видом защищающей свое лицо от солнечных лучей обтрепанным зонтиком, и княжной, обметающей полы своих комнат четырехаршинным шлейфом; между деревенским зубоскалом, непристойными шутками вызывающим одобрительное ржание своих товарищей, и публичным оратором на трибуне какого-нибудь видного общественного учреждения, с жадностью упивающимся овациями слушателей в честь его звучных фраз; между темнокожим африканцем, променивающим драгоценные продукты своей страны на нитку пестрых стеклянных бус, которой он может украсить свою шею, и европейской девушкой, продающей свое прекрасное белое тело ради нескольких блестящих камешков и громкого титула. Между всеми этими людьми и их действиями нет никакой существенной разницы, потому что общим их двигателем служит простое тщеславие. Ради тщеславия происходит вся борьба на земле; ради него проливается столько крови; ради него приносится столько жертв.
Да, главной двигательной силой человечества является тщеславие, а лесть – смазкой колес этого двигателя. Если вы желаете добиться чего-нибудь в мире, то должны льстить тем, от которых могут зависеть ваши успехи. Впрочем, еще лучше, если вы будете льстить направо и налево, всем кому попало: высоким и низким, богатым и бедным, умным и глупым, – тогда ваша жизнь потечет как по маслу. Хвалите добродетели этого человека и пороки – того. Хвалите у всех все, в особенности то, что у них дурно. Льстиво пойте безобразным об их красоте, дуракам – об их поражающем уме, грубиянам – о тонкости их манер. Тогда вас будут превозносить до небес за верность ваших суждений, за ваш проницательный ум и обходительность.
Каждого человека можно взять лестью. Существует фраза: «опоясанный граф». Я не знаю, что это значит: может быть, существуют графы, которые носят пояса вместо помочей. Я нахожу эту привычку очень неудобной: чтобы пояс мог исполнять службу помочей, нужно стягивать его как можно туже, а это, воля ваша, крайне стеснительно. Зато я хорошо знаю, что, каков бы ни был, в общем, «опоясанный граф», и он должен быть доступен лести, нисколько не менее других людей, начиная с герцогини и кончая судомойкой или начиная с батрака и кончая поэтом. Впрочем, поэты чувствительнее батраков к лести, на том простом основании, что масло сильнее поглощается мягким пшеничным хлебом, нежели твердыми овсяными лепешками.
Любовь – так та положительно не может существовать без лести. «Наполните кого-нибудь любовью к самому себе, тогда излишек достанется вам на долю», – сказал один остроумный и правдивый француз, имя которого не могу припомнить. (Такой уж у меня рок: я никогда не могу припомнить нужных имен.) Напевайте любой девушке, что она сущий ангел, даже – сверхангел; или еще лучше, что она – богиня, только еще величавее, лучезарнее и утонченнее всех мифологических богинь; что она прекраснее Венеры, воздушнее Титании, очаровательнее Партенопы, – вообще несравненно лучше их всех, вместе взятых, – и поверьте, что этим вы произведете самое благоприятное для вас впечатление на ее бедное сердечко. Бедняжка! Она поверит каждому вашему слову. Этим путем можно повлиять на каждую женщину.
Не верьте женщине, когда она говорит, что ненавидит лесть. Скажите ей на это что-нибудь вроде следующего: «То, что я говорю вам, сударыня, – не лесть, а сущая правда. Вы, без всякого преувеличения, самая прелестная, добрая, умная, милая, грациозная, очаровательная, совершенная, божественная из всех женщин на свете», – и вы увидите, что она сначала благодарно улыбнется вам, а потом склонится головкой к вашему плечу и пролепечет, что вы – милый и хороший.
Но представьте себе теперь человека, который будет строить свое ухаживанье на принципах самой строгой правды и не станет говорить пустых комплиментов или преувеличений; который будет нашептывать женщине, что она нисколько не хуже ее подруг; который, рассматривая ее руку, откровенно бухнет, что эта рука немножко… красновата; который, наконец, прижимая к сердцу свою возлюбленную, заметит, что ее вздернутый носик вовсе не так уж дурен, а глаза – вполне удовлетворительны в качестве приспособлений для глядения!
Ну скажите по совести: можно ли такому правдолюбцу тягаться с соперником, который стал бы уверять ту же женщину, что лицо ее подобно только что распустившейся розе, волосы походят на странствующие солнечные лучи, плененные ее чарующей улыбкой, а глаза – на пару вечерних звездочек?
Способы лести многообразны, и человек неглупый всегда сумеет выбирать их в соответствии с положением и характером того лица, относительно которого эти способы должны быть пускаемы в ход. Некоторые любят, чтобы фимиам воскуривался им целыми тучами, и это, разумеется, не требует никакого искусства; другие же переваривают лесть не иначе как в самом деликатном виде – не слов, а тонких внушений. А есть такие люди, которые любят лесть лишь в форме грубостей, вроде, например, следующей: «Ну, ты уж известный безумец! Готов отдать свой последний грош первому попавшемуся бродяге». Встречаются и такие чудаки, которые принимают лесть только через посредство третьего лица, так что если вам нужно расположить в свою пользу, скажем, некоего мистера А., то всего лучше наговорить о нем целый короб похвал его приятелю, мистеру Б., с просьбой не передавать ваших слов мистеру А., «чтобы не смущать его деликатности». И будьте уверены, в этом случае вам вполне можно надеяться на то, что Б. исполнит ваше тайное желание, хотя во всех других случаях он едва ли выполнит даже явное.
Всего же легче льстить тем господам, которые всегда твердят, что уж от них-то никакой лестью ничего не добьешься; хвалите за отсутствие тщеславия, и вы достигнете своей цели.
В сущности, тщеславие – и достоинство и порок. Нетрудно наполнить целый том рассуждениями о греховности тщеславия, но по справедливости нужно сказать и то, что это такая страсть, которая может подвинуть нас и на добро и на зло. Честолюбие, например, ведь не что иное, как облагороженное тщеславие. Разве не честолюбие или не жажда славы – что одно и то же – подталкивают нас писать бессмертные произведения, рисовать умопомрачающие картины, сочинять, петь и перелагать на музыку хватающие за сердце мотивы, делать великие открытия и изобретения, не исключая и таких, при которых ежеминутно приходится рисковать своей жизнью?
Мы ищем богатства не ради одного комфорта, который вполне доступен при скромном годовом доходе в 200 фунтов стерлингов, но для того, чтобы наш дом был обширнее и пышнее убран, нежели у нашего соседа; чтобы у нас было большее количество и более лучшего качества лошадей и слуг; чтобы мы могли одевать жену и дочерей, хотя и в нелепые, но самые модные и по возможности дорогие наряды; чтобы, наконец, мы были в состоянии давать обеды, стоящие безумных денег, хотя бы при этих обедах мы сами оставались голодными и портили желудок, потому что наш желудок требует самой простой, только чисто и вкусно приготовленной пищи. И ради всего этого, нам лично вовсе не нужного, мы надрываем все свои духовные и телесные силы в общей мировой работе, ведущей к распространению торговли и промышленности среди всех народов земли, а вместе с тем и к развитию культуры и цивилизации. В итоге, следовательно, выходит вполне «прилично», а это для нас главное.
Вся беда в том, что мы обыкновенно злоупотребляем тщеславием, вместо того чтобы пользоваться им с рассудительностью. Самое чувство чести – также только видоизменение тщеславия. Вообще следует помнить, что между тщеславием петуха и тщеславием орла – большая разница. Тщеславны фаты, но тщеславны и герои. И бойтесь же слова «тщеславие», молодые друзья мои. Соединимте наши руки, чтобы взаимно помогать друг другу увеличивать наше тщеславие, но не для того, чтобы ограничивать его формой прически или покроем одежды, а чтобы отличаться смелостью в опасностях, чистотой нравов и помыслов, трудолюбием и честностью. Будем настолько тщеславны, чтобы не останавливаться на чем-нибудь низком и нечистом; чтобы быть выше мелкого себялюбия и неблагородной зависти; чтобы не быть способными сказать, а тем более сделать что-либо дурное. Пусть мы будем тщеславиться тем, что среди толпы нехороших людей имеем мужество быть истинными джентльменами по нашим влечениям и делам. Будем питать нашу гордость высокими помыслами, великими подвигами и чистотой всей своей жизни.
IV
Об успехах в жизни
Это, вам, пожалуй, покажется совсем неподходящей темой для размышлений со стороны праздного человека, любезный читатель? Но разве вы не знаете, что гораздо лучше наблюдать игру со стороны, чем самому участвовать в ней? Так и мне, сидящему в четырех стенах своей одинокой, но уютной комнаты, раскуривающему «трубку довольства» и жующему «листья лотуса праздности», очень удобно предаваться поучительным размышлениям над тем пестрым человеческим потоком, который бешено несется мимо меня по широкому руслу жизни.
Бесконечен этот поток. День и ночь не прекращается гулкий топот бесчисленного множества ног, то бегущих во всю прыть, то выступающих медленными, размеренными шагами, то быстрых и твердых, то тихих, неуверенных, прихрамывающих, еле плетущихся. Но все эти ноги, и быстрые и медленные, спешат, каждый по-своему; все стремятся с лихорадочным жаром к общей цели – к успеху, ради которого по дороге разбрасываются ум, сердце, душа, когда эти предметы оказываются лишней тяжестью, стесняющей движение вперед.
Вглядитесь в этот волнующийся поток, состоящий из мужчин и женщин, старых и молодых, благородных и низкородных, богатых и бедных, веселых и печальных, и посмотрите, как все они перемешиваются, толкаются, скользят, падают и все спешат, спешат, чтобы не только не отстать от других, но непременно, по возможности, обогнать многих. Сильный сталкивает в сторону слабого; глупый, но нахальный опережает умного, но скромного; задние толкают передних, и без того уже выбивающихся из сил от быстроты бега.
Вглядитесь еще пристальнее – и вы различите отдельные части живого бурлящего потока. Вот плетется дряхлый, задыхающийся старик, а сзади его догоняет молодая девушка со смущенным видом, подталкиваемая суровой матроной с резкими чертами лица и острым взглядом; вот движется любознательный юноша, держащий в руках книгу под заглавием «Как иметь успех в мире» и углубленный в нее, то и дело спотыкается и пропускает мимо себя целые толпы своих соискателей; вот уныло смотрящий человек, подталкиваемый под локоть молодой, нарядно одетой женщиной. Тут и молодой парень, со вздохом вспоминающий покинутые им залитые солнцем родные поля, которых, быть может, он никогда больше не увидит; и полный достоинства средних лет человек, высокий и широкоплечий, самоуверенно движущийся к манящей его светлой цели; и тонкий, нежнолицый юноша, ловко лавирующий среди теснящей его со всех сторон толпы; и старый хитрец с устремленными себе под ноги глазами, беспрерывно переходящий с одной стороны пути на другую и воображающий, что идет вперед. А вот и молодой мечтатель с прекрасным благородным лицом, каждый раз содрогающийся и колеблющийся, когда переводит взгляд с далекой сияющей цели на грязь, по которой он должен пробираться к этой цели. За хорошенькой девушкой, личико которой с каждым шагом становится все более и более измученным, несется человек с судорожно искривленным ртом и блуждающими глазами, а рядом с ним – полный надежд и упований юноша.
Пестр и разнообразен этот поток. Богатые и нищие, святые и грешные, сильные и слабые, здоровые и больные, молодые и старые – все сливаются в одно целое. Бок о бок с государственным сановником в парике и мантии – еврейский торговец старым платьем, голова которого прикрыта старой засаленной ермолкой; солдат в красном мундире и мальчик для посылок в шляпе с лентой и грязных бумажных перчатках; заплесневевший ученый, перебирающий листы пожелтевшей и пыльной рукописи, и театральный артист, небрежно позванивающий целым пучком блестящих брелоков. Рядом с шумным политическим деятелем, громогласно выкрикивающим свою программу, которую он считает панацеей против всех социальных зол, мчится шарлатан, не менее крикливо предлагающий «универсальное» средство против всех телесных недугов. Вот упитанный капиталист, а возле него иссохший в непосильных трудах рабочий; представитель величавой науки и чистильщик сапог; поэт и сборщик налога на водопроводы; министр и балетный танцовщик. Далее – красноносый трактирщик, выхваляющий свое пиво, и проповедник трезвости, только что хвативший стаканчик «для храбрости»; судья и мошенник; священник и игрок. Еще далее – изящная, милостиво улыбающаяся герцогиня, содержательница номеров, и накрашенная, претенциозно разодетая уличная фея.
Все эти резкие противоположности пробиваются вперед в созидаемом ими же хаосе криков, стонов, проклятий, смеха и слез. Стремительность погонщиков за успехом никогда не ослабевает, гонка никогда не прекращается. Для несчастных состязателей нет ни привалов под тенистой зеленью, ни времени освежиться глотком чистой воды. Вперед, все только вперед несутся они по удушливой жаре и пыли в тесноте и давке! Вперед, иначе они будут сбиты с ног и затоптаны соперниками! Вперед, хотя члены дрожат, а в голове стучит как молотами! Вперед, пока не потемнеет в глазах, пока не лопнет от чрезмерного напряжения бедное сердце, и человек, извергая с клокотаньем струи крови из хрипящего горла, не падет, давая дорогу другим! Вперед, вперед!.. И невзирая на убийственность бешеной гонки и каменистость пути, кто же решится уклониться от участия в этом общем состязании, кроме разве отъявленных тупиц и лентяев? Кто – подобно тому запоздавшему путнику, который загляделся на пир русалок и не мог устоять от искушения осушить поднесенный ему одной из очаровательниц кубок с волшебным напитком, а потом стремглав бросился в ревущий водоворот, – может остаться равнодушным зрителем этой гонки и не быть втянутым в нее? Не могу быть таким зрителем и я. Я очень люблю придорожный отдых в тени, «трубку довольства» и «листья лотуса праздности» – эти благозвучные и философские иносказания; но в действительности и я вовсе не такой человек, чтобы спокойно корпеть на месте, когда вокруг меня происходит что-нибудь особенное. Нет, я скорее похож на того ирландца, который, увидев, что на улице собирается толпа, послал свою дочку узнать, не готовится ли там драка, и если да, то объявить, что «и папа сейчас придет подраться».
Я люблю горячую борьбу. Люблю видеть людей, мужественно пробивающих себе дорогу сквозь все препятствия одной силой, а не с помощью хитростей и обманов. Такое зрелище возбуждает саксонскую боевую кровь, как, бывало, во дни юности, возбуждали нас сказания о смелых рыцарях, побивающих «несметные полчища страшных врагов».
Ведь и в нашей жизненной борьбе приходится воевать с целыми полчищами всяких страшилищ. Еще и в наше время не мало осталось драконов и страшных великанов, а защищающий от них золотой ларчик не так легко добыть, как это говорится в сказках, где все обходится благополучно для героев. В одной сказке, например, говорится, что «Альджернон долгим, печальным взглядом прощается с чертогами предков, смахивает непокорную слезу, садится на коня и мчится в неведомую даль» с тем, чтобы через три года вернуться целым и невредимым и «отягощенным богатой добычей». Жаль только, не добавляется, как все это удалось герою, а это было бы очень поучительно для нас.
Впрочем, по правде сказать, и наши бытописатели не рассказывают нам истинной истории своих героев. Какой-нибудь вечер или пикник описывается на десятках страниц, а вся жизнь главного героя сжимается в краткую фразу: «Он сделался одним из наших торговых королей» или: «Теперь он стал великим артистом, у ног которого весь мир». В сущности, гораздо больше действительной жизни в одной из уличных песен-рассказов Джильберта, чем в половине всей массы современных биографических повестей.
Джильберт, шаг за шагом, описывает карьеру человека, мальчиком поступившего для мелких услуг в контору и постепенно достигшего положения «управляющего королевским кораблем», и рассказывает, как удалось адвокату без дел сделаться известным прославленным судьей; интерес существования скрывается в мелких подробностях, а не в самих результатах.
Мы требуем от повести, чтобы она показывала нам нижнее течение карьеры честолюбца, показывала его борьбу, неудачи, надежды – словом, все перипетии той игры, которая наконец привела его к полной победе. Я уверен, что история ухаживания за Фортуной, описанная во всех подробностях, будет не менее интересна, чем история ухаживания за красивой девушкой, тем более, что, в сущности, тут и не должно быть большой разницы; ведь Фортуна, как описывали ее древние, – та же женщина, только более рассудительная и последовательная, чем обыкновенные представительницы прекрасного пола. Слова Бен-Джонсона: «Ухаживайте за возлюбленной, и она отвернется от вас; отвернитесь от нее сами, и она начнет за вами ухаживать» – приложимы и к Фортуне. Как любимая вами женщина вполне оценит вас только тогда, когда вы перестанете обращать на нее внимание, так и Фортуна начнет улыбаться вам лишь после того, как вы дали ей щелчок по носу и повернулись к ней спиной.
Но, разумеется, когда вы так поступите, вам будет совершенно безразлично, улыбается вам Фортуна или хмурится. Ведь для вас важна была ее улыбка тогда, когда вы домогались ее, а не после, когда уже не было в ней надобности.
«Что бы ей, этой желанной улыбке, блеснуть тогда, вовремя?» – думаете вы. Но на свете все хорошее приходит слишком поздно.
Добрые люди говорят, что это в порядке вещей, что так и должно быть и что этим доказывается тщетность честолюбия. Но такие добрые люди не правы, по крайней мере, в моих глазах; я никогда не схожусь с ними в этом мнении. Пусть они объяснят мне, что бы мир стал делать без честолюбцев. Мне кажется, он превратился бы в нечто подобное пресной размазне. Честолюбцы – это те дрожжи, которые поднимают тесто и делают вкусным хлеб. Без честолюбцев мир совсем не двигался бы вперед. Только люди трудолюбивые вскакивают с постели рано поутру, возятся, шумят, хлопочут, не дают возможности и другим валяться до полудня.
Тщетность честолюбия! Неужели не правы люди, с согнутой спиной, в поте лица пробивающие путь, по которому потом свободно движутся поколения за поколениями? Люди, которые не зарывают в землю своих талантов, а извлекают из них пользу не только лично для себя, но и для других? Люди, которые трудятся, пока другие играют?
Я не оспариваю, что честолюбцы ищут собственной выгоды. Люди – не боги, которые могут думать и заботиться исключительно о благе других. Но, работая для себя, честолюбцы невольно работают и для всех нас. Мы все так тесно связаны между собой, что ни один из нас не может работать исключительно для одного себя. Каждый наш взмах орудием в нашу собственную пользу приносит пользу и другим. Стремясь вперед, поток вертит мельничные колеса; крохотное насекомое, образующее кораллы, лепит для себя клеточку к клеточке и таким образом создает мосты между материками. Честолюбец, созидающий пьедестал для себя, оставляет миру новый памятник. Александр Македонский и Цезарь делали завоевания в своих личных целях, но тем самым опоясали полмира лентой цивилизации. Желая разбогатеть, Стефенсон изобрел паровую машину, а Шекспир писал свои драмы и трагедии для того, чтобы создать уютный угол для мистрис Шекспир и своих маленьких шекспирят.
Положим, люди нечестолюбивые чувствуют себя покойнее. Они составляют тот грунт, на фоне которого еще ярче вырисовываются великие портреты, почтенную, хотя и не особенно интеллигентную аудиторию, пред которой великие артисты разыгрывают и мировые трагедии и комедии.
Я ничего не имею против людей, довольствующихся тем, что дается без особой борьбы и труда, лишь бы только они молчали. Но ради всего святого, пусть эти люди оставят свою манеру ходить гоголями и кричать, что они – образцы, которым мы все обязаны подражать! Ведь это те же трутни в хлопотливом улье, те же уличные зеваки, глазеющие, сложа руки, на того, кто работает.
Совсем напрасно эти мертвоголовые люди воображают себя такими умными и мудрыми и думают, что очень трудно довольствоваться малым. Хотя и существует поговорка, гласящая, что «довольная душа везде счастлива», но ведь то же самое можно сказать и относительно «иерусалимского пони», т. е. осла; довольных людей и терпеливых ослов повсюду толкают и всячески над ними издеваются. «Ну, об этом нечего вам особенно заботиться: он и так всем доволен и лишним вниманием вы, пожалуй, только смутите его», – говорят о терпеливцах на службе, обходящихся малым. И начальство их обходит, выдвигая вместо них хотя младших и, быть может, менее способных, зато постоянно пристающих с просьбами об улучшении их положения.
Если вы, любезный читатель, тоже принадлежите к числу «довольных и терпеливых», то хоть не показывайте этого, а ворчите себе наряду с другими о тяжести бытия, и, если умеете обходиться малой долей, все-таки требуйте большей, иначе вечно останетесь на точке замерзания. В этом мире нужно запрашивать вдесятеро больше, чем необходимо получить, т. е. делать так, как делают в суде истцы, требующие вознаграждения за убытки. Если вам достаточно сотни, требуйте тысячу, потому что, если вы назначите сразу эту ничтожную сумму, вам дадут и из нее только десятую часть.
Бедный Жан-Жак Руссо только потому так неказисто и провел последние годы своей жизни, что не придерживался вышеприведенного правила житейской мудрости. Как известно, верхом его желаний было жить в фруктовом саду в обществе любимой женщины и иметь корову. Но даже этого он не мог добиться. Действительно, он окончил свои дни среди фруктового сада, хотя и чужого, и в обществе женщины, но далеко не любимой и имевшей вместо доброй коровы сварливую мать. А вот если бы он домогался обширного владения, целого стада скота и нескольких женщин, то, наверное, получил бы в полную собственность хоть хороший огород, хоть одну корову и, почем знать, быть может, даже и величайшую Редкость в мире – действительно достойную любви женщину.
А как скучна и бесцветна должна быть жизнь для того, кто всем доволен! Как убийственно медленно должно ползти для него время! И чем он может занять свой ум, если только таковой еще имеется у него? Кажется, единственной духовной пищей таких людей служит легкая газетка, единственным удовольствием – курение, и то умеренное; более деятельные прибавляют к этому игру на флейте и обсуждение домашних дел ближайших соседей, т. е. сплетни.
Этим людям чуждо возбуждение, вызываемое надеждами на лучшее будущее, и наслаждение успехом, достигаемым только путем напряженных трудов. Никогда у них не бьется усиленнее пульс, так сильно бьющийся у тех, которые борются, надеются, терзаются сомнениями, временами отчаиваются, потом, сделав новые усилия добиться лучшего, вновь окрыляются упованием на достижение своей цели, – словом, живут полной жизнью.
Для честолюбцев жизнь – блестящая игра, вызывающая наружу все их силы и заставляющая пышно расцветать все их способности; игра, приз которой обыкновенно достается только тому, кто неутомим в борьбе и стремлении вперед, кто обладает острым глазом и твердой рукой; игра, которая волнует и дает сильные ощущения постоянным колебанием шансов на окончательный успех. В этой игре честолюбцы наслаждаются так же, как опытный пловец в борьбе с разъяренными волнами, как профессиональный атлет в борьбе с достойным противником, как истинный воин в битве с сильным врагом.
И если честолюбец проигрывает свою игру, если падает побежденным, он все-таки может утешиться тем, что действительно жил, боролся и трудился, а не прозябал.
Так неситесь же вперед в бурном потоке настоящей, живой жизни! Неситесь все, мужчины и женщины, юноши и девушки! Показывайте свою ловкость, силу и выносливость, напрягайте ваше мужество и ловите счастье! Пусть вашим постоянным девизом будет неуклонное вперед и вперед!
Арена для честолюбцев никогда не закрывается, и представление состязующихся никогда не прекращается. Этот спорт единственный – природный, естественный для всех и уважаемый одинаково всеми снизу доверху – и дворянством, и духовенством, и крестьянством. Он начался с сотворения мира и кончится только с его разрушением.
Стремитесь же все дальше и дальше вперед, поднимайтесь все выше и выше, кто бы вы ни были! Смело домогайтесь своей цели, требуйте награды за свои усилия; наград много: их хватит на всех, сколько бы ни было домогателей. Есть золото для зрелого человека и слава для юноши; роскошь для женщины и веселье – для глупца…
Итак, вперед, вперед, дорогие читатели! Лотерея почти беспроигрышная, только выигрыши в ней разные для всех. Если же кто вынет и пустой билет, тому наградой останется «воспоминание об упоении надеждой на успех».
V
О праздности
Что касается этой темы, то я с полнейшим правом могу назвать себя в ней вполне компетентным, а следовательно, и вполне авторитетным. Тот наставник, который в мои юные дни ежедневно погружал меня в источник науки, всегда говаривал, что никогда не видел мальчика, который так мало бы делал и так много употреблял бы времени на эту слабую деятельность, как я. А моя бабушка однажды, во время беседы со мной о жизни, высказалась в том смысле, что не похоже, чтобы я в своей жизни стал много делать того, чего не следует, зато она, бабушка, вполне убеждена, что я совсем не стану делать то, что следует.
Боюсь, что я несколько обманул ожидания моей почтенной бабушки, по крайней мере, в первой части. В этой части, несмотря на свою лень, я сделал многое, чего не должен был делать, с точки зрения бабушки; зато блестяще доказал верность второй части ее суждения, упустив случай сделать многое из того, что должен бы сделать.
Празднолюбие всегда было моей слабой, или, вернее сказать, сильной стороной. Разумеется, я не претендую на похвалу за это; ведь это у меня врожденный дар, а не нечто выработанное собственными стараниями. Этим даром во всей его полноте обладают очень немногие. Людей ленивых и медлительных множество, но природных лентяев мало. И, представьте себе, такие лентяи вовсе не принадлежат к числу тех, которые, заложив руки в карманы, целые дни шляются без дела; напротив, природные лентяи отличаются изумительной деятельностью.
Очень трудно наслаждаться праздностью, когда человек не погружен по горло в дело. В ничегонеделании, когда совсем нечего делать, нет никакого удовольствия. В последнем случае вынужденная праздность тоже является своего рода обязательным трудом и даже очень тяжелым. Праздность, чтобы быть приятной, должна уворовываться, подобно поцелуям.
Много лет тому назад, в дни моей цветущей молодости, я как-то раз захворал. В сущности, не было ничего особенного, кроме обыкновенной простуды, но, тем не менее, доктор, должно быть, нашел во мне что-то серьезное, потому что сказал, что я напрасно не обратился к нему за месяц раньше и что если бы я промедлил еще неделю, то он, доктор, едва ли мог бы поручиться за мою жизнь. Это так уже водится у докторов. Я не знал ни одного из них, который, будучи приглашен к больному, не уверял бы, что если бы опоздали еще хоть на день пригласить его, то его искусство могло бы оказаться совершенно бессильным. Следовательно, само Провидение подталкивает нас всегда обращаться за врачебной: помощью в последний срок спасения. Это нечто вроде того, как герои мелодрамы постоянно являются на сцену как раз в самый критический момент, чтобы спасти все положение.
Итак, я был болен, и меня отправляли в Бекстон со строгим предписанием ровно ничего не делать за все время моего пребывания там.
«Вам, главное, необходим покой, полнейший покой», – говорил доктор.
Перспектива открывалась для меня восхитительная. «Какой славный этот доктор, – думалось мне, – как раз угадал то, что мне нужно!» И я рисовал себе чудные картины сладкого ничегонеделания в течение нескольких недель. Полное освобождение от всех обязательных занятий да еще с возможностью интересничать страданиями, которых, по совести говоря, я почти и не чувствовал, потому что, повторяю, моя болезнь была самая пустячная. Но тем более было охоты поинтересничать ею, как это вообще водится у молодежи. Ведь очень приятно сознавать себя предметом особенных забот, ухаживаний и сожалений.
И вот я представлял себе, как это будет хорошо: можно будет поздно просыпаться, долго валяться в постели, пить лежа шоколад, завтракать в халате и туфлях. Днем можно лежать в саду в гамаке, потихоньку раскачиваться и читать чувствительные повести с печальным окончанием. Когда дочитанная книга выпадет у меня из рук, я буду мечтательно смотреть в небо, любоваться его глубокой синевой со скользящими по ней белыми облачками, напоминающими паруса на поверхности моря; слышать пение птичек и шепот деревьев. Когда же я окажусь слишком слабым, чтобы выйти из комнаты, то буду сидеть в кресле у открытого окна, весь обложенный подушками; а так как это окно будет в нижнем этаже и прямо на улицу, то проходящие мимо дамы будут видеть меня больного и сострадательно качать головами, сочувствуя моей молодости, пораженной «тяжким недугом».
Два раза в день меня будут возить в колясочке к «Колоннаде» пить воды. Собственно говоря, я еще не знал, что это за воды, какой у них вкус и доставляет ли удовольствие пить их. Но самые слова «пить воды» звучали в моих ушах очень внушительно-аристократично, поэтому я был уверен, что «воды» мне понравятся.
Но – увы! – дня через три я пришел к заключению, что Уэллер дает о бекстонских водах очень неверное понятие, говоря, что они имеют запах «горячих утюгов». На самом же деле они издают запах прямо тошнотворный. Если бы что-нибудь могло сразу сделать больного здоровым, то, мне кажется, достаточно было бы ему знать, что он должен несколько недель пить по два раза в день эти отвратительные воды, и больной сразу выздоровел бы.
Я целых шесть дней выдержал эту пытку и едва не умер от нее. Но потом кто-то надоумил меня непосредственно после стакана этой ужасной бурды выпить стаканчик брэнди. Я послушал благого совета, и мне стало гораздо легче. Впоследствии, когда я узнал мнение известных ученых, что алкоголь совершенно парализует действие железистых вод, которыми я пользовался, я очень обрадовался, поняв, что напал тогда на настоящее средство.
Однако питье противных вод было не единственной пыткой, которой мне, наперекор моим мечтаниям, пришлось подвергнуться в Бекстоне, да еще в течение целого месяца – самого неприятного во всей моей жизни. Следуя предписаниям врача, я все эти четыре недели ровно ничего не делал, бесцельно бродя по дому и по саду, когда не бывал в «Колоннаде», что случалось, как я уже говорил, два раза в день. Эти обязательные посещения «Колоннады» хоть немного вносили разнообразия в тягучую скуку дня.
Нужно сказать, что передвижение в курортах в ручных колясочках представляет для неопытных больных гораздо более «сильных» ощущений, чем это может показаться постороннему наблюдателю. Оно сопряжено с сознанием постоянной опасности. Седок курортной колясочки ежеминутно находится в приятном ожидании, что с ним должно случиться что-нибудь скверное. Ожидание это напрягается до высшей степени, когда впереди показывается плотина или только что заново шоссированная дорога. Злополучному седоку кажется, что каждый обгоняющий его или несущийся навстречу экипаж обязательно переедет через него, а при каждом спуске или подъеме на горку седок мысленно высчитывает, сколько шансов на то, что он может уцелеть, принимая во внимание, что ваш вожак – человек дряхлый, с трясущимися ногами и руками, который, того и гляди, выпустит из рук колясочку, и вы при этом сломаете себе шею.
Но с течением времени я привык к новому ощущению и перестал бояться, а вместе с тем у меня пропало единственное, так сказать, «развлечение». Скука стала адская. Мне казалось, что я сойду с ума. Я сознавал, что этот ум у меня довольно слаб, и особенно рассчитывать на его устойчивость нельзя.
С целью несколько рассеять томящую скуку, я на двадцатый день моего пребывания в Бекстоне, после сытного завтрака, отправился прогуляться в Хейфильд, маленький, веселенький и оживленный городок, расположенный у подножия большой горы. Дорога к нему пролегала по прекрасной зеленой долине. В самом городке меня заинтересовали две прелестные молодые женщины. Впрочем, не ручаюсь, быть может, они только показались мне прелестными: ведь при скуке мало ли что может показаться! Одна встретилась со мной на мосту и, кажется, улыбнулась мне; другая стояла на крыльце своего домика и осыпала поцелуями розовые щечки годовалого ребенка, которого держала на руках. С тех пор много воды утекло, и эти женщины, вероятнее всего, в настоящее время превратились уже в невзрачных и неприветливых старух, если только остались живы. Но тогда встреча с ними хорошо повлияла на меня, поэтому я и запомнил ее.
На обратном пути я увидел старика, ломающего камень. Это зрелище вызвало во мне такое сильное желание испытать силу своих рук, что я предложил старику дать ему на бутылку бренди, если он позволит мне поработать вместо себя. Он оказался очень сговорчивым и охотно согласился на такой обмен, вероятно, очень поразивший его своей необычайностью. Я принялся за дело со всей силой, накопленной мной в трехнедельной праздности, и в полчаса сделал больше, чем старик мог сделать за целый день.
Сделав первый опыт, я пошел дальше в отыскивании себе развлечений. Каждое утро я совершал длинную прогулку, а по вечерам ходил слушать музыку перед курзалом. Я совершенно оправился, но, тем не менее, дни тянулись для меня убийственно долго, и я был вне себя от восторга, когда наступил последний из них и меня увезли вновь в Лондон с его напряженной трудовой жизнью.
Я выглянул из экипажа, когда мы вечером проезжали по Хендону. Слабое сияние на небе над огромным городом точно согрело мое сердце теплом домашнего очага. И когда потом наш кеб загрохотал на въезде станции св. Панкратия, поднявшийся вокруг шум, возвещавший о близости столицы, показался мне самой приятной музыкой, когда-либо слышанной мною.
Итак, целый месяц праздности доставил мне не удовольствие, а лишь одно огорчение. Я люблю полениться, когда этого не допускают обстоятельства, но не тогда, когда мне нечем заниматься, кроме глазения в потолок. Такова уж моя упрямая натура. Всего более я люблю греться у камина, высчитывая, сколько кому должен, и это как раз в то время, когда мой письменный стол завален грудами писем, требующими немедленного ответа. Всего дольше я прохлаждаюсь за обеденным столом, когда меня ждет спешное дело, которое никак нельзя отложить до следующего дня. И когда у меня настоятельная надобность встать пораньше утром, то я непременно проваляюсь лишние полчаса в постели, чего никогда не сделал бы, если бы не было обязательного дела.
А какое наслаждение перевернуться на другой бочок, чтобы «уснуть» на пять минут! Мне думается, на всем свете нет ни одного человеческого существа, которое по утрам с удовольствием поднималось бы с постели. Исключение составляют разве только благонравные ученики, описываемые в назидательных книжках для воскресных школ; эти ученики всегда изображаются очень охотно встающими.
Есть люди, для которых вставать вовремя положительно невозможно. Когда, например, им необходимо подняться в восемь часов, они встают в половине девятого. Если же им необходимо быть на ногах не раньше половины девятого, они все-таки добавят себе еще полчасика и будут вставать только в девять. Эти люди похожи на того государственного деятеля, про которого говорили, что он всегда запаздывал ровно на полчаса. С целью заставить себя вставать вовремя, эти люди прибегают ко всевозможным ухищрениям; между прочим, они приобретают очень шумные будильники. Но многие из этих замысловатых приспособлений обладают свойством или барабанить и трещать за несколько часов раньше нужного времени, чем, разумеется, производят суматоху во всем доме, или, наоборот, действуют лишь два-три часа после срока, что влечет за собой гораздо большие неудобства. Неохочие вовремя вставать, разочаровавшись в будильниках, приказывают своим служанкам постучать им в дверь и окликать до тех пор, пока не получат ответа. Служанка добросовестно стучит в спальню хозяина или хозяйки и, постепенно возвышая голос, раз двадцать повторяет, что «пора вставать». Разбуженные, наконец, недовольным голосом ворчат: «Встаю, встаю… сейчас!» Но тут же перевертываются на другой бок и снова сладко засыпают.
У меня есть знакомый, который после вставанья идет в уборную принять холодную ванну и этим портит все дело, потому что, основательно прозябши в холодной воде, он «поневоле» снова бросается в постель, чтобы согреться и кстати прихватить полчасика сна.
Что же касается меня, то лишь только я поднимусь с постели, как вся сонливость у меня сразу пропадает. Вся трудность при вставании состоит для меня в том, чтобы поднять голову с подушки, и никакие решения, принятые накануне, «во что бы то ни стало», встать вовремя не помогают. Часто вечером, пролентяйничав несколько часов, я говорю себе: «Не буду больше ничего делать сегодня, лягу лучше пораньше, чтобы утром пораньше встать». В это время мое решение кажется бесповоротным и вполне основательным, потому что я готовлюсь проспать то же количество часов, как всегда, сделав лишь обычную утреннюю прибавку с вечера. Но утром оказывается, что моя вечерняя решимость значительно потускнела за ночь и что было бы гораздо лучше, если бы я просидел подольше вечером. Тут выступает на сцену мучительная неохота одеваться, и чем тянешь дальше, тем делается нестерпимее.
Странная вещь, наша постель, эта символическая могила, в которой мы с таким наслаждением распрямляем свои усталые члены и погружаемся в безмолвие и покой!
«О, постель, постель, восхитительное ложе, истинное небо на земле для усталой головы!» – пел бедный Гуд, а я добавлю от себя: «Постель – это наша добрая няня, так сладко убаюкивающая нас, утомленных и раздраженных дневной суетой. Умных и глупых, добрых и злых – всех ты с одинаковой нежностью принимаешь в свои мягкие и теплые объятия и осушаешь наши мучительные слезы. И здоровый духом и телом человек, полный забот, и несчастный больной, полный страданий, и молодые девушки, вздыхающие об изменивших им возлюбленных, – все, подобно малым детям, прижимаются утомленной головой к твоей белой груди, и ты с лаской даешь всем желанное успокоение – хоть на время».
«А как болят и ноют все наши раны, когда ты, всемирная утешительница, отвертываешься от нас! Как ужасно долго медлит рассвет, когда мы не можем заснуть! Ах, эти страшные, бесконечные ночи, когда мы переворачиваемся с боку на бок, снедаемые лихорадочным томлением и потрясаемые судорожным, нервным кашлем! Когда мы, живые люди, лежа словно среди мертвых, смотрим на бесконечно медленно движущуюся процессию темных часов, ползущих между нами и светом! А эти безотрадные ночи, когда мы сидим у кого-нибудь из наших страждущих ближних, эти догорающие в камине дрова, при последних вспышках с треском осыпающие нас дождем искр и золы, и это легкое тиканье часового маятника, звучащее в ночной тишине точно удары тяжелого молота, выбивающие из мира драгоценную жизнь, которую мы сторожим!»
Но довольно об этом. Я и так уж слишком долго останавливался на этой теме, а это скучно даже для такого праздного человека, как я. Давайте лучше покурим. И за курением можно убить время; ведь и это занятие вовсе уж не так плохо, как кажется. Табак – прямое благодеяние для нас, лентяев. Трудно представить себе, чем могли занять свои свободные минуты люди до времен сэра Вальтера. Я готов приписать вечную придирчивость и склонность к ссорам людей средних веков исключительно недостатку умиротворяющего снадобья, именуемого табаком. Этим людям нечего было делать, и они тогда еще не курили. Поэтому им, чтобы не умереть со скуки, поневоле оставалось только одно развлечение: ссориться и драться.
Когда, по особенной случайности, не было войны, они начинали распрю с соседом, а в промежутках между драками проводили время в обсуждениях, чья из их милых краше, причем аргументами с обеих сторон служили опять-таки мечи, секиры, палицы и т. п.
Вообще, споры о вкусах в те дни решались быстрее, чем в наши. Когда влюбленный юноша двенадцатого, например, столетия хотел узнать, действительно ли так хороша любимая им красотка, как это ему кажется, он не отступал на три шага назад от нее, чтобы лучше видеть ее и потом сказать, что она слишком хороша, чтобы жить. Нет, он говорил, что отправится в дорогу и там узнает правду. И он отправлялся. По дороге он встречал другого юношу и «разбивал ему сердце». В те правдивые времена это служило неопровержимым доказательством, что возлюбленная первого юноши – настоящая красавица. Если же второй встречный юноша «разбивал сердце» первому юноше, то, значит, настоящей красавицей следовало признать милую встречного, а не того, кто первый затеял спор. Таковы тогда были способы, так сказать, художественной критики.
Нынче же мы преспокойно закуриваем трубку и предоставляем нашим красоткам самим решать, как им угодно, спор о красоте каждой из них.
И красотки великолепно справляются с этим делом. Гораздо лучше нас. Они теперь и вообще-то делают все наши дела. Они стали врачами, адвокатами и артистами. Они держат театральные антрепризы, пускаются в мошеннические предприятия, издают газеты. Мне уже грезятся те блаженные времена будущего, когда нам, мужчинам, останется только валяться в постели до полудня, пить, есть, читать последние новинки, написанные теми же женщинами, и, в виде умственных занятий, обсуждать последний фасон брюк и детально разбирать, из какого материала сшит сюртук мистера Джонса и как он ему идет.
Блестящая перспектива – для лентяев!
VI
О влюбленности
Вы, наверное, были когда-нибудь влюблены. Если же еще не успели, то у вас это в будущем. Любовь – то же самое, что корь, через которую все мы должны пройти. И, подобно кори, любовь, или, вернее, любовная горячка, схватывает нас один лишь раз в жизни. Человек, подвергшийся этой болезни, безбоязненно может посещать самые опасные места, выкидывать самые сумасбродные штуки. Он может без всякого вреда для себя участвовать в пикниках, пробираться по густым чащам, валяться на мхе, созерцая красоты солнечного заката. Он так же мало избегает мирного сельского домика, как и, своего столичного клуба. Он смело может принимать участие в семейной поездке по Рейну. Может даже, из сострадания к погибающему другу, отважиться присутствовать при брачной церемонии, не опасаясь быть самому втянутым во всепоглощающую пасть брака; может не терять головы среди самого упоительного вальса и вслед за тем довольно долго пробыть в темной галерее, рискуя схватить разве только насморк; он может при лунном сиянии пускаться в прогулки по аллеям среди цветочных клумб, испускающих одуряющий аромат, или в сумерках протискиваться чрез мелодично шуршащий тростник; может в полной безопасности перебираться через заборы и живые изгороди, – не повиснет и не будет схвачен; может бегать по скользким тропинкам – и не упадет; может смотреть в лучистые глаза и не быть ослепленным; может спокойно слушать пение сирен и продолжать свой путь, не поворачивая руля; может держать в своей руке беленькую ручку и не быть пронизанным никаким электрическим током, который приворожил бы его к этой руке.
Словом, он тогда многое может проделывать совершенно безнаказанно. Мы никогда не хвораем дважды в жизни любовной горячкой. Купидон на каждое сердце отпускает только по одной стреле. Слуги любви – наши пожизненные друзья. Для уважения, почитания и преданности наши двери могут быть всегда открытыми, но этот коварный божок наносит каждому из нас лишь по одному визиту и больше уж не показывается. Мы можем быть глубоко привязаны к кому-нибудь, можем лелеять и нежить кого-нибудь в своем сердце, но любить больше уж не можем. Сердце мужчины, подобно фейерверку, только раз подымает свою огненную вспышку к небесам. На одно мгновение вспыхивает оно как метеор и, озарив все вокруг ослепительным светом, тут же тонет в потемках нашей обыденной жизни, его пустая гильза падает обратно на землю и, никем не замечаемая, тихо рассыпается прахом.