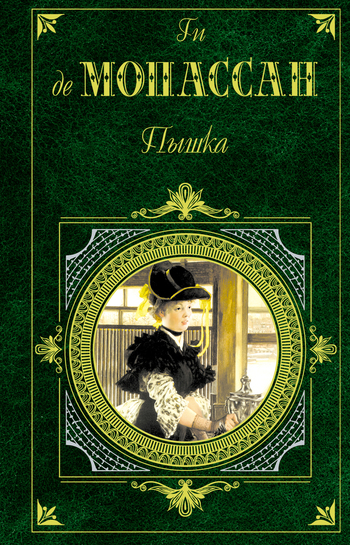Генерал в своем лабиринте Маркес Габриэль

Хосе Паласиос, самый старый из его слуг, увидел, как он, обнаженный, с широко открытыми глазами, лежит в целебных водах ванны, и подумал, что он утонул. Хосе Паласиос знал, что это был один из многочисленных способов предаваться медитации, однако то состояние экстаза, в котором генерал лежал на поверхности воды, напоминало состояние человека, уже не принадлежавшего к этому миру. Он не осмелился подойти ближе, а только негромко позвал его, выполняя приказ разбудить генерала около пяти, чтобы отправиться в путь с первыми лучами солнца. Генерал стряхнул с себя оцепенение и увидел в полумраке прозрачные голубые глаза, взъерошенные вьющиеся волосы беличьего цвета и величавую стать своего бессменного мажордома, который держал в руках чашку макового настоя с древесной смолой. Генерал бессильно обхватил края ванны и высунулся из лечебных вод, оттолкнувшись вдруг, будто дельфин, с неожиданным для его слабого тела напором.
– Мы уезжаем, – сказал он. – И поспешим, ибо никто нас здесь не любит.
Хосе Паласиос столько раз слышал эти слова при таких разных обстоятельствах, что даже и не воспринял их как приказ, хотя кони наготове стояли в конюшнях, а приближенные уже собирались в дорогу. Он помог ему вытереться и набросил на голое тело вигоневое пончо, потому что чашка в руках генерала дрожала – так его лихорадило. Несколько месяцев назад, натягивая замшевые брюки, которые он не надевал со времен роскошных вечеров в Лиме, генерал заметил, что не только похудел, но и стал ниже ростом. Даже его нагота была другой, потому что тело стало бледным, а лицо и руки бронзовыми от неласковых ветров. В прошлом году, в июле, ему исполнилось сорок шесть, но жесткие волосы, вьющиеся, как у всех жителей Карибского побережья, стали пепельными, кости постоянно ныли от преждевременной старости, и он выглядел таким изможденным, что казалось, ему не дожить до следующего июля. Однако его решительные движения принадлежали будто кому-то другому, менее траченному жизнью, – он без устали кружил по комнате. На ходу в несколько глотков выпил настой, такой обжигающий, что едва не вздулись волдыри на языке, при этом старательно обходил темные пятна воды, капавшей с чашки на потертую циновку, покрывавшую пол, и было похоже, будто он пьет воскрешающий напиток. Он не произнес ни слова, пока часы на башне соседнего собора не пробили пять.
– Суббота, восьмое мая тридцатого года, день, когда англичане схватили Жанну д'Арк, – возвестил мажордом. – С трех часов ночи идет дождь.
– С трех часов ночи шестнадцатого века, – сказал генерал глухим от бессонницы голосом. И задумчиво добавил: – Я не слышал петухов.
– Здесь нет петухов, – сказал Хосе Паласиос.
– Здесь ничего нет, – сказал генерал. – Это земля неверных.
Они находились в Санта-Фе-де-Богота, на высоте две тысячи шестьсот метров над уровнем далекого моря, и огромная спальня с иссушенными стенами, подставленная ледяным ветрам, дующим в плохо пригнанные окна, не способствовала укреплению здоровья кого бы то ни было. Хосе Паласиос поставил бритвенный тазик с мыльной пеной на мраморную доску ночного столика, рядом со шкатулкой красного бархата с принадлежностями для бритья из позолоченного металла. Переставил подсвечник со свечой на консоль около зеркала, чтобы генералу было достаточно светло, и подвинул жаровню, чтобы согреть ему ноги. Затем дал ему очки с квадратными стеклами в тонкой серебряной оправе, которые всегда носил для него в кармане жилета. Генерал надел их и побрился, ловко орудуя как правой, так и левой рукой, потому что с рождения владел одинаково хорошо обеими руками, и это было удивительно для человека, который несколько минут назад с трудом держал чашку. Он закончил бритье на ощупь, продолжая ходить по комнате, поскольку старался смотреть в зеркало как можно меньше, дабы не встретиться глазами с самим собой. Потом выщипал волосы в носу и ушах, почистил великолепные зубы угольным порошком, орудуя щеткой из шелкового волокна с серебряной ручкой, подстриг и отполировал ногти на руках и ногах и, наконец, снял пончо и вылил на себя большой флакон одеколона, пошлепывая ладонями по всему телу до полной истомы. В те предрассветные часы он служил свою ежедневную мессу чистоте более истово и яростно, чем всегда, пытаясь очистить тело и дух от двадцати лет бесполезных войн и горького опыта властвования.
Последней, кто нанес ему визит прошлой ночью, была Мануэла Саенс, опытная воительница из Кито, которая хоть и любила его, но на смерть за ним не пошла бы. Как обычно, она явилась проинформировать генерала о том, что произошло за время его отсутствия, ибо достаточно давно он не верил никому, кроме нее. Ей он отдал на хранение свои не слишком дорогостоящие реликвии, вроде нескольких ценных книг и двух чемоданов личных архивов. Накануне, когда они коротко и сухо прощались, он сказал ей: «Я очень люблю тебя и буду любить еще сильнее, если сейчас ты проявишь еще больше благоразумия, чем всегда». Она выслушала это, как и все прочие слова, которые ей приходилось слышать на протяжении восьми лет пламенной любви. Из всех, кто его знал, она была единственной, кто верил: на этот раз он действительно уходит. И она же была единственным человеком, у кого по крайней мере была веская причина надеяться, что он вернется.
Они не собирались еще раз увидеться перед отъездом. Но донья Амалия, хозяйка дома, подарила им это скоротечное последнее свидание и велела войти Мануэле, одетой для верховой езды, через калитку скотного двора, посмеиваясь над предрассудками добропорядочного местного общества. Не потому, что они были тайными любовниками – они ни от кого не таились, чем уже вызвали общественное возмущение, – просто донья Амалия изо всех сил берегла доброе имя своего дома. Он и сам осторожничал не меньше и потому велел Хосе Паласиосу, чтобы тот не закрывал дверь в соседнюю комнату, через которую обязательно должна была проходить прислуга и где гвардейцы охраны играли в карты еще долгое время после того, как кончился визит.
Мануэла читала ему целых два часа. Она была молодой еще совсем недавно, как вдруг ее тело начало опережать возраст. Она курила флотские самокрутки и душилась вербеновой водой, которой пользовались военные, носила мужское платье и жила среди солдат, но ее хрипловатый голос еще вполне годился для любовных сумерек. Она читала при скудном свете свечи, сидя в кресле, хранившем воинственный герб последнего вице-короля, а он слушал, вытянувшись на кровати лицом кверху, одетый не по-военному, ибо был дома, укрытый вигоневым пончо. Только по его дыханию можно было определить, что он не спит. Книга называлась «Слухи и сплетни, ходившие в Лиме в изящном 1826 году», перуанца Ное Кальсадильяса, и она читала ее с театральным пафосом, который так удачно соответствовал стилю автора.
Весь последующий час в спящем доме не слышалось ничего, кроме ее голоса. Но вдруг после ночной проверки постов послышался громкий смех нескольких мужчин, который переполошил сторожевых собак. Он открыл глаза, скорее заинтересованный, чем обеспокоенный, и она опустила книгу на колени, заложив страницу пальцем.
– Это твои друзья, – сказала она ему.
– У меня нет друзей, – ответил он. – А если какие и остались, то ненадолго.
– Но они там, на улице, охраняют тебя, чтобы тебя не убили, – сказала она.
И генерал узнал о том, о чем уже знал весь город: на него и раньше несколько раз покушались, и его сторонники охраняли дом, чтобы помешать следующим попыткам. Передняя и коридоры вокруг внутреннего садика охранялись гусарами и гренадерами-венесуэльцами, которые дойдут вместе с ним до порта Картахена-де-Индиас, где он должен будет погрузиться на какое-нибудь парусное судно, направляющееся в Европу. Двое из них разложили походную постель прямо поперек главного входа в спальню, а двое продолжали играть в карты в соседней комнате, даже когда Мануэла перестала читать, однако времена были такие, что ни в чем нельзя было быть уверенным среди воюющих людей непонятного происхождения и с самыми разными характерами. Нимало не встревоженный плохими вестями, он движением руки велел Мануэле продолжать чтение.
Он всегда относился к смерти как к неизбежному профессиональному риску. Во всех своих войнах он постоянно подвергался опасности, но не получил ни царапины и действовал под перекрестным огнем с таким немыслимым спокойствием, что даже его офицерам пришлось согласиться с простым объяснением: что он, видимо, неуязвим. Он остался невредимым после многочисленных попыток убить его, а несколько раз ему спасало жизнь то, что он не ночевал в своей кровати. Он ходил без охраны, ел и пил без всякой осторожности, что бы и откуда ему ни было предложено. И только Мануэла знала, что его безразличие – не бездумность или фатализм, а грустная уверенность в том, что он умрет в своей постели, нагой и сирый, ни от кого не слыша благодарности и утешения.
Единственным заметным изменением в ритуале бессонных ночей было то, что вечером накануне выступления он не принял горячую ванну перед сном. Хосе Паласиос приготовил ее заблаговременно, с лечебными травами, чтобы восстановить его силы и смягчить кашель, и поддерживал нужную температуру на тот случай, если генерал вдруг захочет принять ванну. Но он не захотел. Проглотил две слабительные пилюли от своего обычного запора и приготовился подремать под убаюкивающий рассказ о галантных приключениях в Лиме. Вдруг, без всякой видимой причины, у него случился приступ кашля, от которого, казалось, до основания сотрясался дом. Офицеры, игравшие в карты в комнате по соседству, прервали игру. Один из них, ирландец Белфорд Хинтон Вильсон, просунул голову в спальню, будто его кто-то позвал, и увидел генерала, лежащего поперек кровати вниз лицом, – у него выворачивало внутренности. Мануэла держала его голову над тазиком. Хосе Паласиос, единственный, у кого было право входить в спальню без стука, ни на секунду не покинул свой пост у изголовья кровати, пока не прошел приступ. Но вот генерал, на глазах которого выступили слезы, глубоко вздохнул и показал на ночной столик.
– Все из-за этих похоронных роз, – сказал он.
Так было всегда, ибо всегда находился неожиданный виновник его несчастий. Мануэла, которая знала его лучше всех, сделала Хосе Паласиосу знак, чтобы он унес вазу с увядшими туберозами, поставленными утром. Генерал снова вытянулся на постели, закрыв глаза, и она возобновила чтение в той же манере. И только когда ей показалось, что он уснул, она положила книгу на ночной столик, поцеловала его в горячечный лоб и прошептала Хосе Паласиосу, что с шести утра будет ждать его, чтобы увидеться в последний раз, в местечке под названием Куатро Эскинас, там, где начинается королевская дорога на Онду. Потом закуталась в простую деревенскую накидку и на цыпочках вышла из спальни. Тогда генерал открыл глаза и сказал слабым голосом Хосе Паласиосу:
– Скажи Вильсону, чтобы проводил ее до дома. Приказ был выполнен вопреки воле Мануэлы, которая считала, что сама способна постоять за себя лучше, чем это сделает отряд улан. Хосе Паласиос прошел с ней до скотного двора, освещая дорогу через внутренний садик с каменным фонтанчиком посередине, вокруг которого начинали распускаться первые утренние туберозы. Дождь перестал, и деревья больше не стонали от ветра, но на заледенелом небе не было ни единой звезды. Полковник Белфорд Вильсон шел по коридору, повторяя пароль часовым, сидевшим на циновках. Проходя мимо окна главной комнаты, Хосе Паласиос увидел хозяина дома, который угощал кофе нескольких своих друзей, гражданских и военных, собиравшихся бодрствовать до начала отъезда.
Когда он вернулся в спальню, то услышал голос генерала – тот бредил. Несколько бессвязных фраз, смысл которых соединялся в одну: «Никто ничего не понимает». Генерал метался в горячечном жару и испускал тяжелые зловонные газы. Сам он не знал на следующее утро, говорил ли он во сне или бредил наяву, он ничего не помнил. Он называл это: «Мои приступы безумия». Они уже никого не пугали, поскольку он страдал ими вот уже четыре года, и ни один врач не брал на себя смелость найти этому хоть какое-нибудь научное объяснение, а на следующий день генерал возрождался из пепла и был полностью в здравом уме. Хосе Паласиос укрыл его одеялом, оставил зажженную свечу на мраморном столике и вышел из комнаты, неплотно прикрыв дверь, чтобы сторожить его сон из соседней комнаты. Он знал, что генерал может прийти в себя в любую минуту, когда наступит рассвет, и окунется в стылую воду ванны, чтобы восстановить силы, растраченные на ужасы ночных кошмаров.
И вот каков был финал одного из трудных дней походной военной жизни. Гарнизон из семисот восьмидесяти девяти гусаров и гренадеров восстал под предлогом того, что им не выплачивали жалованье уже три месяца. Истинная причина была в другом: большинство из них были венесуэльцы, и многие участвовали в освободительных войнах четырех народов, но в последние недели они столько раз подверглись оскорблениям и провокациям на улицах города, что у них были все основания бояться за свою судьбу после того, как генерал покинет страну. Конфликт был улажен с помощью оплаты соборований и выплаты тысячи песо золотом вместо семидесяти тысяч, которых требовали восставшие, и в сумерках эти последние потянулись на родную землю, а вместе с ними толпа женщин, увешанных пожитками, с детьми и домашней скотиной. Грохот военных барабанов и медных труб не мог заглушить крики толпы, которая науськивала на них собак и бросала гирлянды шутих, чтобы сбить им шаг, – так не поступали даже с вражеской армией. Одиннадцать лет назад, когда закончилось долгое трехвековое испанское владычество, свирепый вице-король дон Хуан Самано удирал по этим самым улицам, переодевшись странником, но увозя с собой баулы, набитые золотыми идолами и необработанными изумрудами, священными туканами и витражами со сверкающими бабочками из Мусо, и не было ни одного человека, который бы оплакивал его с балкона, или кинул бы ему цветок, или пожелал бы ему спокойного моря и счастливого пути.
Генерал тайно участвовал в улаживании конфликта, не выходя из дома, который он арендовал и который принадлежал министру армии и флота, и в конце концов послал с мятежным войском генерала Хосе Лауренсио Сильву, своего преданного политического последователя и помощника, которому очень доверял, послал как залог того, что до самой границы с Венесуэлой не будет никаких беспорядков. Он не видел с балкона, как уходило войско, но слышал звуки рожков, барабанную дробь и шум толпы, собравшейся на улице, – выкрики до него не долетали. Он настолько не придавал этому значения, что даже не оторвался от просматривания, вместе с писцами, запоздавшей корреспонденции и продиктовал письмо Великому Маршалу дону Андресу де Санта Крус, президенту Боливии, в котором сообщал, что удаляется на покой и оставляет власть, однако не выразил твердой уверенности, что его поход распространится за пределы страны. «В жизни не напишу больше ни одного письма», – сказал он, закончив его. Позднее, в лихорадочном поту сиесты, ему удалось уснуть под отдаленные крики толпы, а разбудили его шквальные разрывы петард, которые могли запускать как восставшие, так и местные пороховщики. На его вопрос ему ответили, что это праздник. Именно так и не иначе: «Это праздник, генерал». Но никто, даже Хосе Паласиос, не осмелился объяснить его причину.
Только когда ночью пришла Мануэла, он узнал от нее, что то были люди его политических противников, из партии демагогов, как он говорил, которые натравливали на него общины ремесленников при полном попустительстве всего общества. Была пятница, базарный день, когда легко было устроить беспорядок на центральной площади. Дождь, еще более сильный, чем обычно, с громом и молнией, к ночи разогнал бунтовщиков. Но злое дело было сделано. Студенты колледжа Святого Бартоломё штурмом взяли служебные помещения главного управления юстиции с тем, чтобы насильно заставить судей устроить общественный суд над генералом, и искололи штыками и бросили с балкона его портрет в натуральную величину, написанный маслом одним ныне престарелым знаменосцем Освободительной армии. Толпы, пьяные от кукурузной водки, грабили лавки на улице Реаль и винные погребки на окраинах, которые не закрылись вовремя, и расстреливали на главной площади чучело генерала, сделанное из наволочек, набитых сеном, и не хватало только голубого мундира с золотыми пуговицами, чтобы его узнали все. Его обвиняли в том, что он скрытый зачинщик неповиновения военных, и в запоздалой попытке вернуть себе власть, которой конгресс лишил его единогласно после двенадцати лет бессменного правления. В том, что он хочет для себя пожизненного президентства, чтобы оставить после себя европейского наместника. В том, что он якобы замышляет поход за пределы страны, хотя на самом деле собирается дойти до границы с Венесуэлой, откуда рассчитывает повернуть назад и захватить власть, возглавив армию восставших. Стены домов были обклеены листовками – так называли оскорбительные пасквили на него, – а его сторонники из наиболее заметных прятались по чужим домам, пока не улеглись страсти. Пресса, преданная генералу Франсиско де Паула Сантандеру, его главному врагу, распустила слух, что его непонятная болезнь, о которой так много говорят, и осточертевшие всем угрозы, что он уйдет в отставку, – не что иное, как политические игры, – чтобы все умоляли его не уходить. Тем же вечером, пока Мануэла Саенс рассказывала ему подробности бурного дня, солдаты временно исполняющего обязанности президента старательно стирали со стены дворца архиепископа надпись, сделанную углем: «Ни живой, ни мертвый». Генерал вздохнул.
– Плохи, должно быть, дела, – сказал он, – а у меня и того хуже, поскольку все это происходило в куадре отсюда, а меня убедили, что это праздник.
Правда заключалась в том, что даже самые близкие люди не верили, что он откажется от власти или от страны. Городок был слишком мал, а люди слишком мелочны и болтливы, чтобы не знать о тех двух ямах, в которые может провалиться его непонятное путешествие: первая – у него нет денег, чтобы добраться куда бы то ни было с таким многочисленным войском, и вторая – будучи президентом республики, он не может покинуть страну без разрешения правительства и даже не должен просить правительство об этом. Приказ складывать багаж, отданный им так четко, чтобы он был услышан всеми и каждым, не был окончательным доказательством его намерений даже для Хосе Паласиоса, потому что бывали случаи, когда дело доходило до того, что вывозили мебель и покидали дом, чтобы устроить видимость отъезда, и каждый раз это была очередная политическая игра. Военные помощники чувствовали, что за последний год в стране особенно ясно проявились признаки разочарования происходящим. Однако иной раз, причем в самый неожиданный день, случалось, что он просыпался обновленный духом и брался за дела еще более неистово, чем раньше. Хосе Паласиос, который всегда был свидетелем этих непредсказуемых перемен, объяснял их по-своему: «Что думает мой хозяин, знает только мой хозяин».
Его бесконечные отставки послужили темой для народных песенок, самая старая из них начиналась двусмысленной фразой, которую он произнес, когда принимал присягу президента: «Первый мой спокойный день будет последним днем моей власти». В последующие годы он столько раз подавал в отставку и при столь различных обстоятельствах, что каждый раз неизвестно было, когда же это случится наверняка. Самая нашумевшая произошла двумя годами раньше, в ночь на 25 сентября, когда он остался невредимым после попытки покушения прямо у себя в спальне, в Доме правительства. Комиссия конгресса, посетившая его утром, после того как он несколько часов провел в одной рубашке под каким-то мостом, обнаружила его завернувшимся в шерстяное одеяло, отогревающим ноги в тазике с горячей водой и страдающим не столько от лихорадки, сколько от разочарования. Ему объявили, что попытка покушения расследоваться не будет, что никто не будет осужден и что конгресс, который предполагал собраться перед новым годом, соберется немедленно, чтобы выбрать другого президента республики.
– И после этого, – заключил он, – я покину Колумбию навсегда.
Однако расследование провели, виновных приговорили к тюремному заключению в кандалах, а четырнадцать человек были расстреляны на главной площади города. Конгресс, намеченный на 2 января, не собирался еще шестнадцать месяцев, и уже никто не заговаривал об отставке. Но не было в эти времена ни одного заезжего иностранца, ни одного случайного приятеля или друга, которому бы он не говорил: «Я уйду туда, где меня любят».
Распространившаяся весть о том, что он неизлечимо болен, тоже не служила таким уж весомым подтверждением его отставки. Все и так знали, что он болен. Особенно после того, как он вернулся с войны на юге, каждый, кто видел, как он проходит под аркой, увитой цветами, с удивлением осознавал, что он вернулся только для того, чтобы умереть. Вместо Белого Голубя, его знаменитого коня, он ехал верхом на плешивой кобыле, покрытой попоной из рогожи, поседевший, с лицом, изборожденным морщинами раздумий и заблуждений, в грязном мундире с оторванным рукавом. Величие славы покинуло его облик. Во время печального ужина, который состоялся тем же вечером в Доме правительства, он сидел, погруженный в себя, и никто не знал почему – из-за превратностей политики или просто был рассеян, – однако, приветствуя одного из министров, он назвал его чужим именем.
Те приемы, которые он использовал в последние годы, были недостаточны, чтобы люди поверили, будто он уйдет, потому что вот уже шесть лет говорилось, что он умирает, а он все так же держал бразды правления в своих руках. Первую весть о его скорой кончине принес офицер британского морского флота, который случайно видел его в пустыне Пативилка, к северу от Лимы, в разгар освободительной войны на юге. Он видел, как его выбросили на улицу из убогой хижины, в которой он устроил свою генеральскую ставку, на нем был плащ из непромокаемой шерстяной ткани, голова повязана какой-то тряпкой, потому что он не выносил пронизывающего холода полуденного зимнего ада, и у него не было сил даже распугать куриц, которые продолжали спокойно клевать, бродя вокруг него. После тяжелого разговора, перемежавшегося вспышками безумия, он простился с посетителем с подлинным драматизмом.
– Идите и расскажите всем, что вы видели, как я умер, обделанный курами, на этой враждебной земле, – сказал он.
Говорили, что с ним от ртутного солнца пустыни случилась тифозная горячка. Потом говорили, что он в агонии в Гуаякиле, а позднее в Кито, что у него брюшной тиф, самым тревожным признаком которого является потеря интереса к жизни и полная успокоенность духа. Никто не знал, на каком научном фундаменте покоились эти новости, но он всегда отвергал медицинскую науку, ставил сам себе диагноз и сам себя лечил, основываясь на «Медицине в вашем духе» Доностьера, французском справочнике домашних лечебных средств, который Хосе Паласиос всюду возил с собой как непререкаемый авторитет для излечения любых заболеваний тела и духа.
Во всяком случае, не было агонии более продолжительной, чем у него. Так что, пока все думали, будто он умирает в Пативилке, он в очередной раз пересек горные хребты Анд, одержал победу при Хунине и завершил освободительную борьбу всей испанской Америки окончательной победой при Аякучо, основал республику Боливию и еще успел побыть таким счастливым в Лиме, каким никогда не был ни до ни после, за все время упоения славой. Так что все многочисленные заявления, будто он наконец отказывается от власти и от страны, потому что серьезно болен, и разнообразные действия, которые должны были это подтвердить, – все это были не более чем показные репетиции драмы, слишком очевидной, чтобы в нее поверили.
Через несколько дней после своего возвращения, когда закончился исполненный язвительности правительственный совет, он взял под руку маршала Антонио Хосе де Сукре. «Вы остаетесь со мной», – сказал он ему. Он провел Сукре в свой личный кабинет, где принимал немногих избранных, и почти принудил его сесть в свое генеральское кресло.
– Это место уже больше ваше, чем мое, – сказал он ему.
Великий Маршал, победивший при Аякучо, и его близкий друг хорошо знал подлинную ситуацию в стране, однако генерал тщательно проверил его, прежде чем прислушаться к его предложениям. Через несколько дней должен был состояться учредительный конгресс для выбора президента республики и принятия новой конституции, как запоздалой попытки по спасению голубой мечты объединить континент. Республика Перу, находившаяся во власти обветшалой аристократии, казалась безвозвратно потерянной. Генерал Андрее де Санта Крус вел Боливию по собственному пути. Венесуэла, под руководством Хосе Антонио Паэса, только что заявила о своей автономии. Генерал Хуан Хосе Флорес, главный префект юга, соединил Гуаякиль с Кито, чтобы образовать независимую республику Эквадор. Республика Колумбия, первый зародыш огромной единой родины, была урезана до размеров старинного королевства Новая Гранада. Шестнадцать миллионов американцев, едва вкусивших свободы, оказались в подчинении у местных правителей.
– В результате, – заключил генерал, – все, что мы сделали руками, другие разрушают ударами сапога.
– Это насмешка судьбы, – сказал маршал Сукре. – Кажется, мы так глубоко посеяли семена независимости, что эти народы пытаются сейчас стать независимыми друг от друга.
Генерал живо отреагировал на это замечание.
– Не повторяйте мерзостей, которые распускают враги, – сказал он, – даже если они так же верны, как эта.
Маршал Сукре извинился. Это был умный, аккуратный, застенчивый и суеверный человек с кротким выражением лица, которое не могли изменить даже застарелые оспины. Генерал, который очень любил его, говорил, что тот пытается казаться робким, но таковым не является. Он геройски сражался при Пичинче, в Тумусле, на берегах Тарки и, едва достигнув двадцати девяти лет, командовал блестящим сражением при Аякучо, которое уничтожило последний испанский редут в Южной Америке. Но даже больше, чем за военные заслуги, после победы его ценили за доброе сердце и за качества государственного деятеля. На тот момент он отказался от всех своих чинов и не носил никаких знаков военного отличия, ходил в черном суконном пальто до самых щиколоток и с поднятым воротником, чтобы получше защититься от пронизывающих ветров с окрестных гор. Его единственная уступка интересам нации, и, как он настаивал, последняя, – участие в учредительном конгрессе в качестве депутата от Кито. Ему было тридцать пять лет, у него было железное здоровье, и он был безумно влюблен в донью Мариану Кареелен, маркизу де Соланда, красивую и резвую уроженку Кито, почти подростка, на которой женился благодаря своей власти два года назад и от которой у него была шестимесячная дочь.
Генерал не представлял себе никого более подходящего, кто бы мог унаследовать от него республику. Он знал, что тому не хватает пяти лет для достижения установленного возраста – конституционное ограничение, введенное генералом Рафаэлем Урданетой, чтобы закрыть ему ход. Однако генерал лично прилагал усилия, чтобы «поправить поправку».
– Соглашайтесь, – сказал он ему, – и я останусь генералиссимусом, буду кружить около правительства, как бык вокруг стада коров.
Он выглядел очень сдавшим, но его решимость убеждала. Однако с некоторых пор маршал знал, что кресло, в котором он сидит, никогда не будет принадлежать ему, маршалу. Незадолго до этого, когда генерал впервые заговорил с ним о возможности стать президентом, он сказал, что никогда не возьмет на себя управление нацией, так как государственная система и направление, по которому она идет, становятся чем дальше, тем опасней. По его мнению, первое, что нужно сделать для того, чтобы расчистить путь, – отстранить от власти военных и внести предложение конгрессу, чтобы ни один генерал не мог стать президентом в ближайшие четыре года, возможно, с намерением не позволить Урданете стать президентом. Но самые серьезные противники этой поправки были и самыми сильными: как раз те самые генералы.
– Я слишком устал, чтобы идти без компаса, – сказал Сукре. – Кроме того, ваше превосходительство знает так же хорошо, как и я, что здесь нужен не президент, а усмиритель бунтов.
Присутствовать на конгрессе он, конечно, будет и даже не откажется от чести председательствовать на нем, если ему это будет предложено. Но не более. Четырнадцать лет войны научили его, что самая главная победа – это когда остаешься в живых. Президентство в Боливии, огромной новой стране, основанной и управляемой мудрой рукой, научило его тому, как переменчива власть. Он был достаточно умен и благороден, чтобы понимать всю беспомощность славы.
– Получается, что я отказываюсь, ваше превосходительство, – заключил он. 13 июня, в день святого Антония, он должен был быть в Кито с женой и дочерью, чтобы отпраздновать с ними день не только этих именин, но и всех тех, которые будут у него и в дальнейшем. Его решимость жить для них и только для них, наслаждаясь любовью, оставалась неизменной с последнего Рождества.
– Это все, что я прошу от жизни, – сказал он. Генерал был мертвенно бледен.
– Я думал, что меня уже ничто не сможет удивить, – сказал он. И посмотрел ему в глаза: – Это ваше последнее слово?
– Предпоследнее, – сказал Сукре. – Последнее – моя безмерная благодарность за оказанную мне вами милость, ваше превосходительство.
Генерал, прощаясь с несбыточной мечтой, похлопал его по колену.
– Хорошо, – сказал он. – Вы только что приняли за меня окончательное решение моей жизни.
Тем же вечером он составил текст своей отставки, мучаясь от действия рвотного, которое прописал ему случайно оказавшийся рядом врач, чтобы выпустить желчь. 20 января состоялся конституционный конгресс с его прощальным выступлением, в котором он назначал следующим президентом маршала Сукре как самого достойного из генералов. Выбор вызвал овацию у конгрессменов, но один из депутатов, сидевший рядом с Урданетой, сказал ему на ухо: «Он хочет сказать, что этот генерал достойнее вас». Слова генерала и реплика депутата вонзились в сердце генерала Рафаэля Урданеты двумя острыми ножами.
И это было понятно. Хотя Урданета не имел ни бесчисленных военных заслуг де Сукре, ни такого огромного обаяния, не было причины называть его менее достойным. Его спокойствие и уравновешенность всегда защищали самого генерала, верность и преданность ему были доказаны множество раз, и это был один из немногих на свете людей, которые не боялись высказывать ему в глаза правду, которую он боялся слышать. Осознав свою оплошность, генерал попытался исправить ошибку в напечатанных экземплярах, где его собственной рукой слова «достойнейший из генералов» были исправлены на «один из достойнейших». Но злоба в сердце Урданеты все равно осталась.
Через несколько дней, собравшись с друзьями-депутатами, Урданета обвинил генерала в том, что он, делая вид, будто уходит в отставку, тайно готовится к своему переизбранию. За три года до того генерал Хосе Антонио Паэс силой захватил власть в департаменте Венесуэлы в виде первой попытки отделиться от Колумбии. Генерал, бывший в то время в Каракасе, публично обнимался с Паэсом под ликующие крики толпы и перезвон колоколов и, что выходило из всяких границ, учредил для него особенный режим, при котором тот мог править как хотел. «Оттуда пошли все несчастья», – сказал Урданета. Такое благоволение не только окончательно испортило отношения с гранадцами, но и посеяло в них зерно сепаратизма. Сейчас, заключил Урданета, лучшее, что может сделать генерал для отечества, – подать в отставку, перестать наконец тешить свой порок властолюбия и уехать из страны. Генерал ответил с такой же горячностью. Однако Урданета был человек прямой, говорил страстно и убедительно, и у всех осталось впечатление, что перед ними – развалины некогда великой старинной дружбы.
Генерал повторил, что уходит в отставку, и назначил дона Доминго Кайседо временно исполняющим обязанности президента, пока конгресс не выберет нового. Первого марта он покинул Дом правительства через черный ход, чтобы не встречаться с приглашенными, которых его преемник угощал бокалом шампанского, и удалился в чужой карете в имение де Фуча, идиллический уголок в окрестностях города, которое временный президент предоставил в его распоряжение. Одна только мысль о том, что теперь он не более чем обычный горожанин, усиливала действие рвотного средства. Он велел Хосе Паласиосу, который за последнее время научился спать на ходу, принести ему все необходимое, чтобы он смог начать свои мемуары. Хосе Паласиос принес ему чернила и писчую бумагу в количестве, необходимом для записи воспоминаний за сорок лет, а генерал предупредил Фернандо, своего племянника и помощника, что тот станет помогать ему со следующего понедельника, с четырех часов утра – наиболее подходящее для него время, чтобы оживить былые обиды. Как он уже много раз говорил племяннику, он бы хотел начать с самого старого воспоминания, с того сна, который он видел на асьенде Сан-Матео, в Венесуэле, вскоре после того, как ему исполнилось три года. Ему приснилась черная ослица с золотой челюстью, которая вошла в дом и прошла его насквозь, от главной гостиной до кладовок, безостановочно пожирая на своем пути все, что ей попадалось, в то время как члены семьи и рабы предавались сиесте, и в конце концов она съела занавески, подушки, светильники, цветочные вазы, обеденную посуду и приборы, фигурки святых на алтарях, шкафы и комоды со всем, что в них было, кухонную утварь, двери и окна вместе с дверными петлями и задвижками и всю мебель от прихожей до спален, и единственное, что осталось нетронутым и парило в пространстве, – овальное зеркало с туалетного столика его матери.
Но ему было так хорошо в доме де Фуча, а воздух был так нежен под этим небом с быстрыми облачками, что он перестал говорить о мемуарах, а предрассветными часами подолгу бродил по тропинкам, пахнущим саванной. Те, кто навещал его в эти дни, находили, что он очень окреп. Особенно подчеркивали это военные, его самые верные друзья, – они жаждали продолжения его правления, хотя бы даже ценой военного переворота. Он разубедил их, приведя как аргумент, что насильственный захват власти недостоин его славы, но, кажется, не терял надежду снова заступить на пост в результате законного решения конгресса. А Хосе Паласиос повторял: «Что думает мой хозяин, знает только мой хозяин».
Мануэла так и жила в нескольких шагах от дворца Сан Карлос, который был президентским домом, прислушиваясь к тому, что говорят на улицах. Она появлялась в де Фуча два-три раза в неделю или чаще, если было что-то срочное, с коробками марципана, горой горячих монастырских булочек и шоколадными батончиками с корицей к четырехчасовому полднику. Газеты она привозила редко, поскольку генерал стал так чувствителен к критике, что любое самое обычное замечание выводило его из себя. Она обращала его внимание на политические новости, салонные интриги, предсказания провидцев, и, когда он слушал, его так и крутило, потому что слушать все это было неприятно, но она была единственным человеком, которому разрешалось говорить правду. Когда обо всем было переговорено, они просматривали корреспонденцию, или она читала ему, или они играли в карты с прислугой, но ели всегда только вдвоем.
Они познакомились в Кито, восемь лет назад, на праздничном балу в честь освобождения от Испании, когда она была еще супругой доктора Джеймса Торна, английского врача, вошедшего в аристократические салоны Лимы в последние годы вице-королевства. Кроме того, что это была последняя женщина, с которой он поддерживал продолжительную любовную связь с тех пор, как двадцать семь лет назад умерла его жена, она была еще и доверенным лицом, хранительницей его архивов, самым выразительным чтецом и в его генеральном штабе была приравнена к чину полковника. Далеко ушли те времена, когда она готова была прокусить ему ухо в порыве ревности, но и поныне их самые обычные разговоры могли окончиться вспышками ненависти, а потом нежными любовными примирениями. Мануэла никогда не оставалась на ночь. Она всегда уходила засветло, чтобы ночь или сумерки не застигли ее в пути.
В противоположность тому, как это было на вилле Ла Магдалена в Лиме, где он вынужден был под разными предлогами держать ее вдали от себя, пока любезничал с дамами высокого происхождения и с теми, кто не были таковыми, в имении де Фуча он всячески показывал, что не может жить без нее. Он подолгу смотрел с террасы на дорогу, нетерпеливо ожидая, не едет ли она, ежесекундно спрашивал у Хосе Паласиоса, который час, и просил то передвинуть кресло, то разжечь камин, то загасить его, то опять разжечь, и пребывал в нетерпении и плохом настроении до тех пор, пока из-за холмов не показывалась карета и Мануэла не озаряла его жизнь своим появлением. Но такие же признаки нетерпения он выказывал, если визит затягивался долее обычного. В час сиесты они ложились в постель, не закрывая двери в спальню, и не раз пытались отдаться последней любви, – но тщетно, ибо его тело уже не было достаточно сильным для того, чтобы порадовать душу, и не слушалось его.
Изнурительная бессонница в те дни привела его жизнь в полнейший беспорядок. Он мог уснуть в любое время посередине фразы, или когда диктовал какое-нибудь письмо, или за игрой в карты, причем он сам не знал, были ли это молниеносные приступы сна или мимолетные обмороки, и так же неожиданно, как засыпал, он вдруг мог почувствовать необыкновенную ясность сознания. Едва ему удавалось погрузиться в вязкую предрассветную дрему, как его тут же будил тихий ветерок в листве деревьев. И тогда он не мог противиться искушению отложить писание мемуаров еще на один день и долго гулял в одиночестве, иногда до самого обеда.
Он ходил без охраны, с двумя верными собаками, которые в иные времена были с ним даже в сражениях, и у него не осталось уже ни одной из его знаменитых лошадей, которые были проданы батальону гусар, чтобы выручить денег на дорогу. Он уходил к реке, что текла неподалеку, ступал по ковру из гниющих листьев, слетевших с бесчисленных тополей, укрывшись от ледяного ветра саванны вигоневым пончо, в меховых сапогах и зеленой матерчатой шляпе, которую раньше надевал только когда спал. Он подолгу сидел, задумавшись, около мостика с прогнившими досками, в тени плакучих ив, завороженно глядя на течение реки, которое порой сравнивал с человеческой судьбой, как научил его когда-то делать учитель юности, дон Симон Родригес. Один из его охранников незаметно следовал за ним повсюду до самого его возвращения, когда он приходил, мокрый от росы, прерывисто дыша, и едва мог подняться по ступенькам крыльца, но, несмотря на бледность и крайнее изнурение, его взгляд излучал счастливое отрешение. Ему было хорошо во время этих прогулок, когда он уходил от всего, что его мучило, а невидимые телохранители слышали: он поет солдатские песни под шум листвы, как в годы легендарной славы и сокрушительных поражений. Те, кто знал его лучше, не понимали, чем вызвано это хорошее настроение, ведь даже Мануэла сомневалась в том, что его еще раз изберут президентом республики на учредительном конгрессе, на который только он один и уповал.
В день выборов, во время утренней прогулки, он увидел бездомную борзую, которая резвилась у изгороди, вспугивая перепелов. Он весело свистнул ей, и собака остановилась как вкопанная, стала искать его, насторожив уши, и нашла – он стоял в потертом плаще и шляпе, как у флорентийского епископа, рукою Провидения заброшенный сюда, где стремительно несутся тучи и идет непрестанный дождь. Она тщательно обнюхала его, а он гладил ее кончиками пальцев, но вдруг она отпрыгнула, посмотрела ему в глаза своими золотистыми глазами, подозрительно зарычала и в испуге убежала. Он пошел за ней по незнакомой прежде тропинке и оказался, не имея представления, где он, в каком-то пригороде с грязными улочками и домиками из кирпича-сырца под красными крышами, где из патио шел запах парного молока. Вдруг он услышал крик:
– Эй ты, свинячья колбаса!
Он не успел увернуться от коровьей лепешки, которую бросили из какого-то хлева, и она ударилась ему в грудь, забрызгав лицо. Но не столько навоз, сколько выкрик вывел его из состояния спячки, в которой он пребывал с тех пор, как покинул президентский дом. Он знал прозвище, которым наградили его гранадцы, такое же, как у одного буяна с улицы, знаменитой своими маркитантками. Один сенатор из тех, кто именовал себя либералами, назвал его так даже на заседании конгресса, в его отсутствие, и только двое из конгрессменов высказали тому протест. Но ему никогда не говорили этого в лицо. Он стал вытирать лоб и щеки краем пончо и еще не успел вытереться, как из-за деревьев появился невидимый до тех пор охранник, обнажив шпагу, дабы наказать обидчика. Он гневно набросился на охранника:
– Какого черта вы здесь делаете?
Офицер стал по стойке «смирно».
– Выполняю приказ, ваше превосходительство.
– Никакое я не превосходительство, – отозвался он.
Офицеру оставалось только радоваться, что генерал, решительно отказавшийся от всех своих чинов и званий, не имеет власти, чтобы примерно наказать его. Даже Хосе Паласиосу, который так хорошо понимал генерала, было трудно понять его ярость.
Это был плохой день. Все утро он кружил по дому с такой же тоской, с какой ждал Мануэлу, но все понимали, что на этот раз он страдает не из-за нее, а из-за ожидания своей участи. Минута за минутой он пытался во всех подробностях представить себе, что происходит на заседании конгресса. Когда Хосе Паласиос заметил, что уже десять, он сказал: «Сколько бы ни раздавались ослиные крики демагогов, голосование уже должно было начаться». Он надолго задумался, а потом сказал вслух: «Кто может знать, что думает человек, подобный Урданете?» Хосе Паласиос был уверен, что генерал-то как раз это знает, потому что Урданета везде, где только мог, рассказывал о физической слабости генерала и о том, как он сдал в последнее время. Когда Хосе Паласиос в очередной раз проходил мимо него, он рассеянно спросил: «Как думаешь, за кого будет голосовать Сукре?» Хосе Паласиос знал так же хорошо, как и он, что маршал Сукре голосовать не будет, потому что в эти самые дни он путешествует по Венесуэле вместе с епископом Санта-Марты, монсеньором Хосе Мария Эстевесом, по поручению конгресса, чтобы договориться об условиях отделения Венесуэлы. Поэтому он тут же ответил: «Вы знаете это лучше, чем кто-либо другой, сеньор». Генерал улыбнулся, впервые с тех пор, как вернулся с тоскливой прогулки.