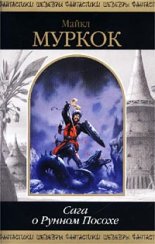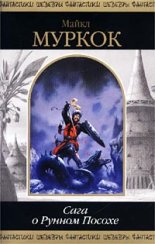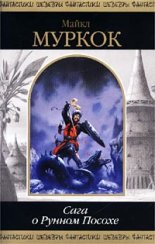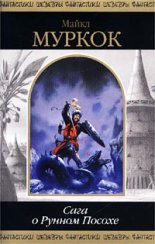Противоречие по сути Голованивская Мария

Истинный смысл вещей ускользает от нас. «И событий», – добавил бы Сократ. Хочется услышать, как пьяный Гораций вносит последние коррективы: «Нам не дано познать истинную суть того, что показывает нам мир, не дано уловить подлинное содержание драмы, которая и есть наша жизнь». И маленькое добавление ритора, к примеру, Цицерона: «Вероятно, точнее без сомнения, правы те, кто воспринимают жизнь как метафору». Космос. Катарсис.
Что ж, а может быть, и на самом деле разумны по доброй воле отказавшиеся от разума, ушедшие в предчувствия, поверившие в приметы, отдавшиеся страхам. Дабы избежать смертоносной случайности, способной обратить любое внутреннее построение в прах, заставить кружиться в водовороте времени обессилено, обреченно, чувствовать, как разрушается крепость твоих дней, гулко падают камни, проваливаются мосты, некогда дававшие возможность выходить наружу, выбегать вовне. А затем страшнейший хаос в клетках, чудовищное размягчение костей, хлопающие воспаленные глаза, преследование иллюзорной цели, которая, по самому своему названию, уже не может быть достигнута. Безумие, которое овладевает тобой наподобие сильной инфекции, паучьего племени страсть, заманивающая каждую мысль, каждое движение в липкую ядовитую невидимую паутину и жадно пожирающая все из своей жертвы, оставляя безжизненную оболочку, а не то, другое, тихое помешательство, которое подкрадывается на цыпочках, незаметно вплетается в представления и разговоры, помешательство скорее обороняющее, предохраняющее, тлеющее и поэтому щадящее силы. И все будто в марионеточном танце тихо водят вокруг тебя хороводы, кивают головами, поддакивают…
Ты словно безумный король, все королевство которого внутри, и залы, и дворцы, и роскошный парк с пирамидальными кипарисами, и серебристое озеро, и конюшни с отменными рысаками; и закрыты ставни, и подняты мосты, и строгие стражи цифр охраняют ворота, цифр, складывающихся, умножающихся, вычитающихся, выстраивающих неумолимые законы, самозарождающиеся и непреклонные: тревоги от лопнувшего стекла, разбившегося зеркала, просыпанной соли. Луна с ее бесконечной, полной загадочного смысла переменчивостью, форма облаков, словно вычерчивающих на небе судьбоносные шифровки: круглое облако – завершай дела поскорее, перистое облако – обходи острые углы, залегай на дно, беспросветные облака – не выходи наружу, углубись в себя, разглядывай узоры собственных мыслей, настроений, предвкушений и послевкусий. И ничто не потревожит, ничто не помешает, ничто не взорвет тебя изнутри, и ты не будешь разглядывать свои же потроха, развешенные по веткам, словно экзотические плоды на экзотическом дереве жизни. И не будет встречи, имя которой – случайность, и не будет болезни, имя которой – страсть, и будут ровно дышать часы и течь ровным течением дни, поскольку нам не дано уловить истинный смысл вещей, а, следовательно, и взлетов, и падений, и катастроф.
Противоречие по сути (Contradictio in adjecto)
1
Странная мешанина из сегодняшних утренних разговоров, когда в последний раз все вместе завтракали в просторном зале гостиницы с розовыми скатертями и салфетками на столах. Русская делегация сидела за одним столом, в первый день конференции кто-то сказал, что у русских принято сидеть всем вместе, и официанты покорно сдвинули столы. Одеты все были очень просто, нарочито по-походному, ведь впереди небольшая прогулка по городу, а потом – в аэропорт. Сначала молодой женский голос рассказывал о каком-то эспандере, крошечном, умещающемся в небольшой сумке, при помощи которого можно творить с фигурой настоящие чудеса, затем голос постарше, пониже, с утра чуть хрипловатый, жаловался на пропажу золотого кольца с рубином: «Вчера на банкет хотела надеть, весь номер обшарила – нигде нету, наверное, горничная стянула…», но жалоба, готовая растянуться до бесконечности, обрасти версиями и предположениями, была оборвана прокуренным баском, напомнившим («Напоминаю…»), что всем говорилось, ничего ценного в номерах не оставлять. Затем градом посыпались впечатления о прошедшей ночи, розовый квартал, цены, несколько мужских голосков, затем женские голоса изумлялись европейским вкусам, а также «сумасшедшим ценам» на «сущее барахло», мужское трио о местном пиве, черном, бархатном, хмельном, дальше – одеколоны: «Эгоист» – точно, чтобы баб отпугивать, клопами пахнет, а вот этот свежий, как его… а модные, так вообще сладкие, как варенье. Затем почти что всем оркестром обсуждали докладчиков с «их» стороны, горячась, входя в непредвиденные подробности. Иногда кто-то солировал:
– Ланье-то трижды был женат, а с виду сморчок сморчком. – Арфа.
– У Бертрана, как всегда, жиденький доклад был. – Саксофон.
– У них секцией экологии водной среды заведовала Бретоньер, ну, такая маленькая брюнетка, ей и сорока нет, а она… – Скрипка.
– Этот вот, ну, который лысый с бородой, во второй день с часовым докладом выступал, так вот, он – сын того самого, который был женат на этой, знаменитой… – Барабан.
– Да нет, нам нужно просто с ними, просто с ними, просто с ними… – Фортепиано.
А потом опять контрабас про потерянное кольцо с рубином, и пошло, поехало, полный разнобой и какофония, кто, где, что, когда забывал или терял, часы на ночном столике, белье на батарее в ванной, костюм в шкафу… У меня голова пульсировала и разрывалась на части, поскольку горло разболелось еще вчера.
Вчера в зеркале. Сразу после банкета. В ванной. Горло бордовое и отекшее. Глотать очень больно. Все тело влажное. Думал, аллергия от непривычной пищи. Может быть, на какой-нибудь соус. В новой обстановке аллергия – нормальная реакция. Ночью явно был жар. Кровать казалась несносной, слишком мягкой, и подушка никак не ложилась правильно – между плечом и ухом. Несколько раз подходил к наглухо задраенному окну. Ненавижу эти мерзкие из искусственной серой кожи шторы. Проснулся сосед. Я сказал: «Душно». Ручка ужасно скрипела, но я поднял штору. Из окна вид на улочку, узенькую, маленькую, без украшений. Как будто изнанка другой, параллельной улицы, где вывески, запахи и кипит жизнь. Напротив – гараж, контейнеры, на тротуаре – скомканные газеты, таблички, предлагающие за бесценок подержанные автомобили. Справа от гаража – крошечное, скрытое за железной решеткой кафе, в котором, видимо, перекусывают механики, слева от гаража, метрах в ста, на самом углу улицы, выходящей на некое подобие проспекта, такой же забронированный цветочный магазин с розовой неоновой надписью «Fleuriste». Ни души.
Сегодня утром в ванной. Как будто появляются белые налеты, но разглядеть их очень трудно – свет падает не правильно. Глотать совершенно невозможно. Как будто бы слюна идет не вниз, а куда-то вверх, в нос.
Сосед вернулся в номер около двух часов ночи и до половины четвертого буйно болтал. От него страшно несло перегаром. Я глотал с трудом и думал о том, что вернусь совершенно больным.
2
Я все-таки отправился на прогулку по городу, автобус привез нас в центр, и я честно топтался по крошечной центральной площади, разглядывал старые дома, на каждом из которых под крышей красовалось имя некогда торговавшего на первом этаже купца, некогда – много веков назад. Я пошатался по прилегающим к площади улицам, забитым многоголосым, многоязычным туристическим воркованием, поизумлялся неизменному составу анемично ползающих туристических групп: вечный рыжий верзила изможденного вида в коротковатых болтающихся штанах, толстяк коротышка в яркой куртке и кроссовках «Reebok», старушки с седым перманентом и птичьим профилем, несколько разодетых девах, толстозадых и полногрудых, влюбленная парочка, дебил в коляске, пускающий слюни…
Я неизвестно почему забрел в лавочку, торгующую охотничьим снаряжением. Хозяин магазинчика – прокуренный лысеющий мужчина лет пятидесяти с желтыми редкими зубами и сморщенным пористым лицом – хрипло расхваливал необъятных размеров американцу нож для освежевания кабана. Тут же крутился его сын, парень лет двадцати, длинный и тощий, как церковная свеча, в ковбойских кирпичных сапогах, длинные пальцы все в кольцах со змеями и черепами, на шее черный платок. Вначале он сидел на высоком табурете и любовался тем, как солнечный луч играл с лакированным носком его сапога, но затем словно змея его ужалила: в лавочку вошел какой-то с виду то ли поляк, то ли венгр и на ломанном французском спросил свисток, «имитирующий зов утиной женской особи». Парень вывалил на стеклянный прилавок гору свистков и принялся по очереди дудеть в них, наполняя магазин звуками птичьего двора. Когда он свистел, его впалые щеки раздувались необычайно, а лицо становилось багровым от усилий.
Я вышел из магазина и побрел наугад по залитым солнцем улочкам, я то и дело с усилием сглатывал, чтобы проверить, не уменьшилась ли боль, горло казалось обсыпанным крошечными пылающими угольками, и когда я глотал, они, вместо того, чтобы гаснуть, разгорались еще сильнее. Не успел я подумать о том, чтобы купить какое-нибудь лекарство, как аптека немедленно поприветствовала меня развеселым колокольцем, приделанным к входной двери, я оказался в белом сияющем чистотой раю, сразу в раю, а не в каком не чистилище, с развешанными повсюду, словно елочные украшения, восхитительными коробками с поистине чудодейственными средствами. За мелодичным перезвоном последовал хозяин аптеки, средних лет, пышущий уравновешенностью бельгиец с золотыми очками на поблескивающем носу, в белом халате (ну просто чистой воды престарелый откормленный ангелок!), из-под которого ослепляет белая рубашка и умиротворяет дорогой, очень благородной расцветки галстук, буквально шепчущий каждому клиенту своим бордовым баритоном: «Вы правильно сделали, что пришли к нам, вам здесь обязательно помогут».
Аптекарь немедленно предложил мне несколько разновидностей чудодейственных пастилок от фарингитов, тонзиллитов, аллергических отеков, ангин разной степени тяжести и вредоносности для всего организма и отдельных его частей. Конечно, по его мнению, я должен был отдать предпочтение самой дорогостоящей, поскольку в ней сразу все от всего и навечно. Повертев коробку в руках, я пришел в ужас. С обратной стороны была помещена фотография обезображенного отеками, нарывами, налетами и еще чем-то даже мне непонятным горла, асимметричного, истерзанного болью, не оставляющего его обладателю никакой надежды на какие-либо перемены к лучшему. На лицевой стороне упаковки не без гордости красовалось совершенно иное, преображенное горло, ровненькое, розовенькое, гладенькое, словно только что появившееся на свет. Казалось, что оно улыбается своему потенциальному покупателю не только изумительными гландами, но и обворожительным язычком, против идеального состояния которого, конечно же, ни один страдающий от ее величества Ангины устоять не сможет. Я сглотнул, и мне показалось, что угольки превратились в мелкие стеклянные осколки, которые сильно ранили, наполняя рот вкусом жирной рыжей ржавчины. Я купил пастилки без фотографии и, воспользовавшись тем, что аптекарь, откликнувшись на телефонный звонок, повернулся ко мне спиной и быстро заговорил о чем-то по-фламандски, разинул рот перед круглым – для примерки очков – зеркалом и впился взглядом в свое собственной горло. Кажется, только что увиденное угнетающее зрелище на упаковке было не фотографией, а переводной картинкой, во всяком случае, то, что было на глянцеватом белом картоне, беспардонно переползло ко мне в глотку.
В автобус я вернулся мокрым, усталым, изнемогающим. Ворот влажный, манжеты и спина тоже. Ноги озябшие. Пастилки давали некоторое облегчение, но крайне быстротечное, я забился в пышнозадое бархатное кресло, подлокотник которого содержал все земные блага, и, кажется, задремал. Меня разбудил жаркий женский шепот за спиной, автобус на всех парах мчал нас в аэропорт.
– По ночам я рыдала на полу в ванной, – закипал шепот, – а утром, как ни в чем не бывало, улыбалась мужу за завтраком и шла на работу. Я возвращалась вся в слезах, он спрашивал меня, в чем дело, я отвечала, что неприятности по службе, едва дотягивала вечер, дожидалась, пока он уснет, и снова рыдала в ванной.
– Ну и что? – заговорщически подлизывался второй шепот. – С тем-то, с другим, что было?
– Ничего.
– А что ж вы делали, когда встречались?
– Разговаривали.
– Разговаривали?.. О чем? И зачем тогда рыдать?
Первый шепот ощутимо сникал. Второй шепот набирал силу, по всему судя – обличительную. И последнее, услышанное в полусне, немного гневное, немного гордое от поражения, которое по плечу далеко не каждому:
– Я прорыдала два месяца в ванной и все раздавила в себе. Я никому не хотела наносить такого бесчеловечного удара. Я принесла себя в жертву.
– Ну, а теперь? («Ну» – учительское, уничтожающее, расставляющее именно точки, а не какие-либо иные знаки препинания.)
– А теперь в благодарность он спит в моей постели с другой.
Разговор потух. Я открыл глаза. Рядом со мной сидел почему-то весь вспотевший и взбудораженный коллега из неизвестного мне далекого города, имени которого – ни города, ни коллеги – я вспомнить так и не смог. На нем все было пятнадцатилетней давности: и кепка, и портфель, и костюм, и очки, и лицо. Увидев, что я открыл глаза, он немедленно обратил ко мне такую же потную, как и он сам, речь о том, как у них тут, и что у нас там, и что бы надо, и чего бы никак не надо, а вот его половина… так она, и он для нее везет… вот, как я думаю… Я все поглядывал на часы, я рассчитал точно, что через шесть с половиной часов буду дома, представил, как разохается мама, увидев мое больное горло, она скажет: «Ты как мальчик, честное слово, а ведь тебе уже пятьдесят пять». «Шесть» – поправлю я ее, я покормлю в кабинете рыб, которые, увидев через стекло толстое пузо хозяина, узнают его, обрадуются, завалюсь на любимый диванчик. Мама поставит рядом с постелью мою любимую кружку с синей птицей на одной лапе с растопыренными такими же синими фалангами, – на этой кружке воспроизведен рисунок какого-то израильского мальчика, я давным-давно привез ее, сам не знаю откуда, в комнате будет пахнуть липой, малиной, мятой, я замотаю горло шарфом и примусь просматривать газеты, скопившиеся за время моего отсутствия. Мама укроет меня поверх одеяла клетчатым черно-красным пледом, по телефону она будет отвечать, что я вернулся больной, и обсуждать с подругами рецепты снадобий. Горло к тому времени, конечно же, немного успокоится, под мамины тихие разговоры из коридора я задремлю, свернувшись калачиком, подобрав под себя ноги…
– Ты просто не знаешь, что такое купаться в женщине! – прокричал какой-то пьяный тенорок с заднего сидения, дав в слове «женщина» визгливого и безобразного петуха. Весь автобус взорвался хохотом, тихо засмеялся и я.
Когда нас привезли в аэропорт, выяснилось, что самолет переполнен, лететь нет никакой возможности, и нам предстоит мчаться в Люксембург, чтобы пытаться улететь оттуда.
3
Крошечный аэропорт в Люксембурге, кажется, такой же крошечный, как и это царство-королевство, с то ли монархом, ограничивающим парламент, то ли наоборот, но в голове сразу какие-то спальни с кисейным пологом и камины, ослепляющие разогретым золотом решеток, и портреты, и собачки с кулачок, и проказы наследников, задирающих юбки раскрасневшимся мулаточкам или негритяночкам (как, интересно, выглядит румянец на их темных лицах?), и отменные кони-рысаки-жеребцы таких же голубых с перламутровым отливом кровей. Он впервые упоминается как замок в девятьсот каком-то году (из рекламного буклета, выдаваемого вместе с картой города (страны?) при входе в аэропорт), всегда странно, когда перед девяткой нет единицы, а еще они гордятся какой-то там промышленностью, нашли, чем гордиться, уж лучше бы бриллиантом гордились размером с крупное яблоко, или еще какой-нибудь диковиной; убить оставшиеся до отлета два часа в этом нереально-эфемерном, непривычно пустом месте с двумя-тремя дорогими «бутик» – кажется совершенно немыслимым, уж скорее оно убьет тебя, вонзив в уже разливающее по голове горячую жидкую боль пульсирующее горло свое остроконечное сверкающее копье.
Единственная возможность взглянуть – туалет, там зеркало над умывальником во всю стену, но туда дружно зашагали все соотечественники, напереживавшиеся в Брюсселе и измученные двухчасовым автобусным переездом, так что начать пришлось с «бутик». Крошечные. С двумя исскучавшимися блондинками, накрашенными чересчур сильно и ярко, видимо, для того, чтобы не была видна усталость на лицах. Портмоне. Пояса. Кожаные сумки, портфели, духи, шоколад, часы. Остановка у бесшумно тикающего прилавка. «EBEL», «RADO», «ZENITH», «SECTOR» – с черным треугольником, въевшимся в идеально круглое «о», «JUNGHANS», «ETERNA», «JACQUE LEMANS», странный символ, словно стоящие в третьей позиции плоские черные ноги, «OMEGA», «MOVADO», «BREITLING», «LONGINES». Я вернулся к часам «EBEL» и долго не мог сложить в нечто вразумительное длинный набор цен, указанный на матовой медной табличке. Именно их я получил тогда в подарок. Баснословно дорогой подарок от человека, заглянувшего в мою жизнь на четыре месяца. Или, может быть, на пять? Я посчитал: март, апрель, май, июнь, июль и половина августа. Кажется, она пришла в последний раз шестнадцатого августа и, перед тем, как уходить, достала из сумки (странная кожаная сумка, похожая на суму с двумя перекрестившимися, как искривленные шпаги, золотыми «с») продолговатый, поражающий сдержанной матовостью кожи и золотой окантовкой, футляр.
– Это тебе, Питер.
Я, как всегда, поправил ее.
– Пьетро, – твердо сказал я.
– Пьетро напоминает Петро, мне не нравится, – вежливо улыбнулась она, – так что это тебе, Питер, открой, тебе понравится.
Я неосторожно сглотнул, и боль пламенем обдала всю картинку, тут же вспыхнувшую, как старая фотография. Я только успел разглядеть штору, прикрывающую распахнутое окно, мою любимую летнюю клетчатую штору, письменный стол, аквариумы с заметавшимися рыбами, застеленный клетчатым пледом диван. Над диваном картина, довольно старая: два охотника сидят на пригорке у костра и, видимо, пытаются сосчитать отстрелянных зайцев и куропаток, у одного ноги расставлены, и он сидит, наклонившись вперед с трубкой в руках. Я хотел подарить тогда ей эту картину, но не успел, не справился с замыслом.
Я сглотнул еще раз, и картинка сгорела, я не увидел ее саму, ведь мы сидели с ней в самой середине комнаты на двух стульях за моим письменным столом, а я начал разглядывать как-то по краям, я не увидел ее, только мельком со спины, только то, что можно увидеть мельком со спины: оголенные загорелые плечи, белоснежные бретельки спортивной, очень открытой майки, загорелую шею, изумительный затылок, забранные наверх светло-русые волосы, прихваченные на макушке заколкой из сандалового дерева, изображающей рыбку с наполовину обломившимся верхним плавником.
Сегодня я вернусь домой и взгляну на моих охотников. Я хотел было уже выйти из «Дьюти Фри», но потом внезапно вернулся, решив купить для мамы каких-нибудь сладостей. От вида шоколада, да еще с орехами, у меня запершило в горле. Губы сделались совершенно горькими, и во рту, казалось, не было ни капли влаги. «Нужно будет глотать пореже, – мелькнуло у меня в голове, – и еще в туалете нужно будет прополоскать рот, потому что от зубов, покрытых каким-то вязким налетом, чем-то напоминающим по своей консистенции масляную краску, исходит невыносимый затхлый запах».
Я купил для мамы несколько плиток горького шоколада и вышел в холл. Я надеялся, что теперь в туалете уже никого нет, и я смогу спокойно взглянуть на горло. Я посмотрел на часы. До отлета оставалось чуть больше часа. «Часы „Ebel“ – архитекторы времени» – было написано на рекламном вкладыше – первое, что я увидел, когда открыл подаренный мне футляр. Я тянул дверь на себя, но она не поддавалась. Я, казалось, впал в настоящее бешенство, и если бы не какой-то беззаботный негр, который – это было написано на его лице – «никогда не волнуется и всегда счастлив», я просто оторвал бы ручку. «От себя», – мягко проговорил он, толкнул дверь туалета и вежливо пропустил меня вперед.
4
Нет, это было уже совсем не мое горло. Но главное – десны. Пока я ходил туда-сюда, между туалетом и «Дьюти Фри», я незаметно съел всю упаковку пастилок, обнаружив это, лишь когда отправлял в рот последнюю. Потом прочел на уже пустой коробке: «по одной пастилке – три раза в день».
Я вернулся в «Дьюти Фри» почти что неосознанно, пронесся через изумленный кордон белокурых улыбок и прямиком направился в секцию «Парфюмерия». Там мелькнула знакомая упаковка, но в первый раз я как будто не узнал ее, и сейчас шел на опознание, сам не желая того. В туалете я был вынужден вначале выжидать в кабинке, пока уйдет негритос, спасший дверную ручку, потом я бесконечно мыл руки, поскольку все время кто-то нарушал мое уединение, справлял нужду, причесывался, члены нашей делегации непринужденно заговаривали со мной, и мне приходилось даже несколько раз из вежливости выходить вместе с ними, прежде чем я улучил момент и раскрыл перед зеркалом рот. Свет падал плохо. Да, я не ошибся, черная упаковка с золотой окантовкой и надпись в белом прямоугольнике в верхней части коробки. «Coco», внизу золотом «Chanel». Это ее духи. Сладкие, тогда очень модные, несколько флаконов на туалетном столике. Я увидел эту коробку в тот единственный раз, когда был у нее. Теперь дело не только в горле, но в сожженных деснах, разбухших, каких-то шершавых, саднящих. А горло и горлом-то назвать нельзя, кусок изнемогающей плоти, сжигающий и разъедающий сам себя.
Наконец-то объявили посадку. Самолет медленно начал заполняться. Пассажиров было немного, и они не торопились. Стюардесса вежливо проводила меня до места – слава Богу, у иллюминатора, значит, хотя бы с одной стороны никто не будет жевать и шуршать газетой. В салоне показался низкорослый высохший старичок с аккуратно постриженными седыми волосами, в болотных вельветовых штанах и новой синей лакостовской куртке. Через плечо у него висела болотная сумка, а на правой кисти болталась из дорогой кожи светло-коричневая визитка. Я почему-то был уверен, что он сядет рядом со мной. Так и вышло, стюардесса подвела его к моему ряду, и он, улыбнувшись мне фарфоровой улыбкой, легко опустился на соседнее кресло. Было видно, что он в прекрасном настроении. Я почему-то не мог отвести глаз от его рук – маленькие, сухие руки в желтых пегментных пятнах, ровные ухоженные ногти, золотой перстенек на мизинце. Последнее время я любил размышлять о старости, мне казалось, что в ней заключена какая-то тайна, и я пытался угадать ее. Когда он оказался рядом со мной, я сразу же подумал, что таким старичком мне не сделаться никогда.
Время до смерти, принудительно не заполненное ничем. Стайки старичков и старушек на скамейках в скверах. Свои разговоры с обильной жестикуляцией. Трости. Палки. Дым дешевых сигарет сквозь редкие зубы. Глубокий мокрый кашель. Бесконечные самоограничения, вошедшие в привычку. Штопка. Умение переживать зиму, осень, весну. Починка обуви, особые навыки, необходимые для того, чтобы ходить больными ногами по скользкоте и слякоти, газеты, телевизор, внуки, раздражение на подростков, политические легенды, затопившие сознание, футбол, Христос, таблетки, комнаты, наполненные запахом лекарств, деформация тела, перерождение и деградация, которые не пугают и не отвращают, а скорее вызывают нежность, временами останавливающийся взгляд, устремленный куда-то вдаль, неизвестно куда. Как живут они, коротая время… В чем их секрет, что знают они такого, чтобы жить, и чего не можем понять мы, глядя на них? Может быть, поливают фиалки, рисуют акварелью в альбомах, как барышни? Пишут мемуары, стыдливо, уклончиво вспоминая женщин, хвастают ратными подвигами? Или, может быть, просто течение дней увлекает их за собой в известную бухту, и никому не дано поплыть против этого медленного течения?..
– Вы простужены? – забеспокоился мой сосед, снова сверкнув фарфором. – Грипп?
«Этот ничего не штопает и небось перед главным путешествием балуется экзотическими земными маршрутами», – подумал я.
– Аллергия, – успокоил я его, – говорят, перелет лечит, так что надеюсь, приземлившись, родиться заново.
Он представился, я тоже, мы поговорили о полете, потом он, видно, хотел что-то спросить у меня, но его полупрозрачные, словно папирусные, веки медленно опустились, и он послушно провалился в сон.
Салон был заполнен. По радио объявили, что вылет задерживается еще ria двадцать минут и что это происходит не по вине экипажа. Стюардессы принялись, чтобы хоть как-то занять изнемогающих пассажиров, разносить воду. Первый же глоток минералки словно раскаленным свинцом обдал мне рот и горло.
Часы. Серебряный корпус и такой же из округлых средней толщины пластин браслет. На белом циферблате три других маленьких циферблата, в окошечке дата. Золотые римские цифры по окружности. Три восхитительных стрелки. Я открыл, футляр, когда хлопнула дверь парадного.
– Я обязательно позвоню тебе, Питер.
Мне было совершенно ясно, что она больше не придет и не позвонит. Я помнил, она сказала в самом начале, что у нее билет на девятнадцатое. Значит, через три дня она исчезнет, станет недосягаемой.
Я кивнул. Она встала и вышла из комнаты. Резко, не поворачивая головы. Ослепительно белая спортивная маечка, очень открытая, широкие, как у подростка, плечи, изумительной красоты спина, узкие бедра, обтянутые чуть коротковатыми джинсами, на ногах спортивные черные тапочки на пружинящей каучуковой толстой подметке. Щелкнул замок входной двери. Я был уверен, что она побежит по лестнице вниз, не станет вызывать лифт. Я был также уверен, что из-за этих ее спортивных тапочек не услышу шагов по лестнице. Но мне показалось, что я услышал их, не стук, скорее шелест, напоминающий шелест листьев, и только, когда хлопнула дверь парадного и губы мои пробормотали все: «Все, приехали», – я раскрыл футляр, прочел про архитекторов времени, отложил листок в сторону и увидел утопающие в черном бархате часы, только вот время они показывали не правильное, отличавшееся от моего ровно на два часа.
Я сделал еще глоток. Я хотел запить это воспоминание, залить его хоть кипятком, хоть свинцом, хоть кислотой. Я не хотел в тысячный, в миллионный раз смотреть это кино, протерзавшее меня около года после того пресловутого шестнадцатого августа, и глоток помог, я огляделся вокруг. В этот момент самолет тронулся, заревели моторы, и мы начали выруливать на взлетную полосу.
5
Итак: впереди две макушки, одна с явно намечающейся лысиной, другая со спутанными густыми черными волосами. Обладатели макушек штудируют только что разнесенные газеты, переговариваясь низкими усталыми голосами. Изредка возникает чей-либо профиль: слева – крупный нос с бородавкой, густые брови, низкий с двумя глубокими морщинами лоб, полные губы. Справа – высокий лоб с ниспадающими локонами, длинные ресницы, черный глаз, нос с горбинкой, тонкие губы. Кажется, разговор о путешествиях, но не точно.
– Сто двадцать пять за один?
– Да, несколько накладно… Лучше с пересадками, хотя и утомительнее… Дешевле…
– Не всегда.
– Почти всегда.
– Пойди найди открытый банк, если приезжаешь в пять утра и пересаживаться нужно через полчаса.
– Можно поменять заранее.
– Не всегда.
– Почти всегда.
На их уровне через проход – мужчина с мальчиком. Анализирую лица, пытаюсь установить сходство. Во-первых, оба блондины, – я мысленно загибаю пальцы, – во-вторых, у них носы похожей формы, в-третьих, – мальчик резко наклоняется к мужчине – у них совершенно одинаковые руки. Отец и сын – констатирую я.
– Ну, скажи, скажи, скажи… – хнычет мальчик.
Сколько ему? Лет десять? Двенадцать? На правой руке указательный палец заклеен пластырем. Прищемил? Порезал? Ошпарил кипятком?
– Я хочу яблоко, – продолжает он, – ответь мне, ну, ответь.
Мужчина закрывает глаза и отворачивается. Мальчик бьет его по руке, дергает за рукав, он, конечно же, раздражает всех вокруг, почему, интересно, отец ничего не делает, чтобы унять его? Выбился из сил? Проявляет характер? Перед ними видно только правое сидение, там – полноватая дама с перманентом, в очках, на пухлом пальце явно не подходящее ей, просто-таки девичье золотое колечко с искусственной жемчужиной. Ногти странно подпилены и покрыты, наверное, розовым лаком под цвет помады на губах. Она встает, чтобы снять шарф. Я приглядываюсь повнимательнее: пуговицы на кофточке тоже сделаны в виде жемчужин. Только бантика в волосах не хватает, едко отмечаю я. Вечная девочка, Мальвина, сколько бы ей ни было, тридцать или шестьдесят. Небось еще и разговаривает тоненьким голосом с капризными интонационными крендельками. Читает книгу. Пытается не замечать детских капризов за спиной.
Почему же он не успокоит мальчика? Ведь сейчас определенно взорвется кто-нибудь из соседей. Через несколько секунд первая, вполне миролюбивая попытка. Рука сзади протягивает апельсин.
– Ну успокойся, успокойся.
Женский голос. Один ряд с нами, через проход. Две женщины, та, что у иллюминатора, протягивающая апельсин, – постарше, в джинсах, горчичной водолазке и зеленой мужской кофте на пуговицах.
– Бери и успокойся, пожалуйста, – твердо, без раздражения повторяет она.
– Мишель, ты не хочешь пить? – обращается она к своей соседке, сидящей в двух метрах от меня через проход.
Я перевожу глаза на Мишель. Молодая женщина с поблескивающим обручальным кольцом на пальце Неаккуратно зачесанные белокурые волосы. Отекшее лицо с впалыми глазами. В сарафане, с огромным животом. Месяце на восьмом или, может быть, на девятом. Куда же она летит, бедняжка? Неужели Мишель собирается родить в Москве?
По проходу покатилась тележка с напитками.
– Что вы будете пить? Пиво, вино, сок, минеральную воду? – Вопрос не ко мне.
В спинке переднего кресла журнал. На великолепной глянцевой обложке разноцветные английские буквы, вероятно, складывающиеся в некоторые осмысленные слова. Я не складываю их. Световое табло погасло, и по салону начали расползаться облака сигаретного дыма. Дышать невозможно, но зато теперь можно сходить в хвостовую часть самолета и, если повезет, поглядеть, не проходит ли отек. Но мне не хочется будить старика, трогательно раскинувшего руки и еле слышно дышащего приоткрытым ртом. Совершенно детское выражение лица.
– Что вы будете пить? Пиво, вино, сок, минеральную воду? – Вопрос не ко мне.
Обложка. Надо же, какие голубые глаза! Совсем без макияжа, но какие огромные, какие голубые! Кажется, что таких не бывает, или свет должен падать определенным образом. Начинаю разглядывать снизу: в голубом треугольнике по-английски: «Путеводитель по городам: Москва, Санкт-Петербург, Киев, Алма-Ата, Минск». Огромные пшеничные колосья, расшитая белоснежная рубашка, разноцветные ленты, красные, розовые, голубые, рук не видно, но понятно, что она держит колосья, и также понятно, что она стоит в золотистом пшеничном поле, загорелая шея, наполовину скрытая темно-русыми, слегка вьющимися густыми волосами, ниспадающими на грудь, округлый подбородок, мягкая линия скул, улыбка, вежливая, сдержанная, немного задумчивая, чуть приоткрывающая ослепительной белизны зубы, аккуратный, весь в веснушках нос, на губах – яркая помада, больше никакого макияжа, наверное, потому, что венок из ярких цветов и листьев. Приглядываюсь. Цветы искусственные. Таких синих цветов нет в природе. Неужели для рекламной фотографии нельзя было найти живых цветов? Но волосы действительно изумительные. Хохлушечки и впрямь бывают очень красивыми. По Киеву разгуливают настоящие секс-бомбы, напомаженные и нарумяненные сверх всякой меры. И потом это их «г». Очарование сразу куда-то улетучивается, когда слышишь это их «г». Выше, над колосьями и головой, ровное голубое небо. В сантиметре от головы, уже на фоне неба, одиннадцать прямоугольников: флаги.
– Что вы будете пить? Пиво, вино, сок, минеральную воду? – Вопрос ко мне.
Старик просыпается. Протирает носовым платком слезящиеся глаза и сухие губы.
– Красное вино, – с улыбкой отвечает он.
– У вас есть обычная вода? – спрашиваю я. – Я хочу выпить аспирин.
– Prosit, – по-прежнему улыбаясь, произносит старик и поднимает свой стаканчик с вином.
Он дождался, пока мне принесут воду и пока растворится мой аспирин.
– Prosit, – кивнул я ему.
Мы чокнулись. Мальчик уснул. Сколько же лет этой Мишель?
– Если хочешь, Питер, сегодня мы можем просто побыть вдвоем. Как настоящие итальянцы.
– Потому что ты уезжаешь через три дня?
Молчание. Улыбка. Спокойный взгляд. Огромные серые глаза с черными ресницами. По-детски пухловатые щеки.
– Кто знает, что будет через три дня? (дразнится.) Так хочешь?
От аспирина во рту сделалось кисло.
– Ты прекрасно говоришь по-итальянски, все-таки я сумел тебя кое-чему научить.
– Всему, Питер, – вежливая фраза со спокойным продолжением, – значит, не хочешь? – совершенно ровно, даже равнодушно. Точнее – никак. Не определить, как.
Я на секунду представил себе, как бы все это выглядело, если бы я нашел способ согласиться. Вежливое предложение – и больше ничего. Все равно что: «Хочешь чашечку кофе, Питер?» Она скинула бы, белую маечку, джинсы, крошечные спортивные трусики и просто забралась бы на мой диван. Но тогда мне пришлось бы стелить постель. После того, как она разделась. Она не допустила бы и тени сентиментальности, и это была бы ловушка первая. Сражаться с накрахмаленной наволочкой под ее равнодушным взглядом. Нет, не равнодушный, утрирую. Спокойным. А потом пришлось бы раздеваться мне – ловушка вторая. Пятидесятидвухлетний, лысоватый, плотного телосложения, стареющий мужчина, раздевающийся перед созерцающей холодной девочкой. Уродливо. Страшно унизительно. Нелепо. А потом и самое главное – ловушка третья, – без ласковых слов, простое, как яйцо, без малейших подпорок, без пресловутой фразы «Ну иди ко мне, иди ко мне, Питер», о которой я мечтал тысячи раз, закрывая глаза и погружаясь в грезы. И, наконец, ловушка четвертая, называемая словом «потом».
– Значит, не соскучился? – хитрый улыбающийся вопрос, игра-лабиринт, первое упоминание о том, намек на то, что было между нами несколько недель назад, игра-лабиринт, из которого не выбраться, и тут же продолжение, чтобы я не успел опомниться, не успел ничего сказать.
– Тогда тебе приз, Питер, на, это тебе. Открой, тебе понравится.
Дорогой футляр на ладони. Тонкие, изящные линии вытянутой вперед руки с ухоженной кистью. Футляр с архитектором времени.
Мишель закашлялась. Я повернул голову. Сколько же ей? Лет двадцать пять, двадцать семь? Правильный разумный брак. Взаимный интерес и эротические экзерсисы для того, чтобы удостовериться, что партнеры хорошо совместимы. Чтобы не было потом «проблем». Обручение. Свадьба. Брачный контракт. Или, наоборот, брачный контракт, свадьба. Свадебное путешествие. «Дорогой» и «дорогая», правильно вставленные во фразы. Затем несколько лет, вложенные в создание условий для совместного и так далее… Карьера мужа. Правильное питание. Спорт. Семейные праздники. Пока наконец не решили, конечно, просчитав и прикинув: пора. Никаких спиртных напитков и сигарет. Бассейн, несколько месяцев размеренной здоровой жизни. Чтобы удался на славу, такой, как на рекламе детского шампуня, и регулярные занятия сексом в те самые дни, когда наибольшая вероятность, что получится… Правильно. Выверено. Серьезно. Куда же она летит? Невозможно разгадать. Тысяча вариантов. Как в нашей игре с Наташей в топики. Три-четыре исповеди на заданную тему. И каждая безупречна. «Тебе интересно знать, Питер, как было на самом деле? Выбирай то, что тебе нравится. Сам выбирай, как было…» Я встал и пошел по проходу в хвост. Мне хотелось взглянуть.
6
Эти перелеты – странная вещь. Эти перелеты и самолеты – нечто немыслимое, несоразмерное ни с чем из того, что происходит с нами в обычной жизни. Что-то вроде репетиции, когда берешь с собой самое необходимое, – ограничение веса багажа, уж конечно же, отягощено еще и неким символическим смыслом – отправляешься в своеобразное чистилище, где несусветная компания переминается с ноги на ногу в ожидании своего часа, заползаешь в чрево гигантской механической птицы и через считанные часы перемещаешься в иную реальность, где ты, может быть, уже и бывал когда-то, в какой-то другой жизни, и даже сохранил об этом смутные воспоминания, но все равно иной мир, куда ты попадаешь, обвешанный бирками и снабженный специальными бумагами, полными для простого смертного загадочного смысла. Чтобы не думать о скорости, движении, прошлом и будущем, чтобы не думать о вещах, разлагающих, разъедающих обыденную стройность мысли, проще всего уйти, провалиться в сон, в этот сладчайший внутриутробный сон, который сотрет, поглотит все ненужное и даст силы для тяжелого, всегда тяжелого приземления. Внутриутробный, поскольку как будто не спишь, а думаешь, и думаешь обо всем сразу одним разросшимся правым полушарием, но ни одну мысль невозможно поймать, она ускользает, проходит сквозь сеть, прячется в холодной глубине. И ты совсем никак не управляешь этими волнами мыслей, они накатывают, пугают, баюкают, потому что заключен, неподвижен, прикован к месту, и все будто бездействует за исключением пульсирующего наподобие сердца мозга, терзаемого бурями; самые опасные воспоминания могут прокрасться и разорваться бомбой, потому что никто не стережет вход; самые несусветные вопросы могут заполнить голову до краев, затопить, заморочить в непроходимой чаще кажущихся достоверными, но на самом деле бутафорскими ответами. Когда каждая тропинка – не та. Но просыпаешься, выходишь из него, из этого сна, отдохнувшим, разглаженным, не помнящим грез, гладким, словно песок после шторма, заботливо разглаженный последней гигантской волной, не желающей оставлять после себя беспорядок. Словно ничего и не было. Все равно, когда летишь туда, время будет вычтено, перелет нарушает естественную связь минут и часов, и даже стрелки придется крутануть против их естественного движения. Прилетаешь помолодевшим, поскольку обычно новое место не хранит никакой памяти о тебе, а «назад» – приходится прибавлять, обязательно прибавлять часы, усталость, впечатления, – дополнительный багаж возвращающегося, намотавшего на себя время, как нить…