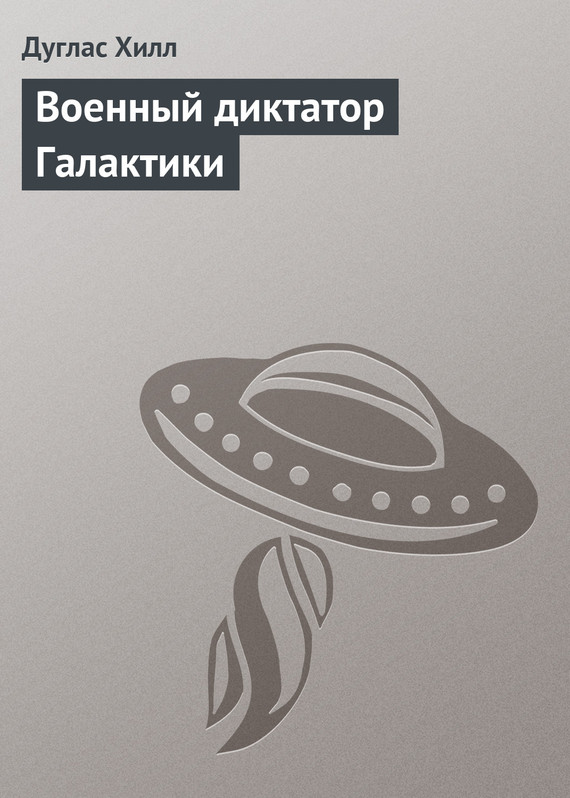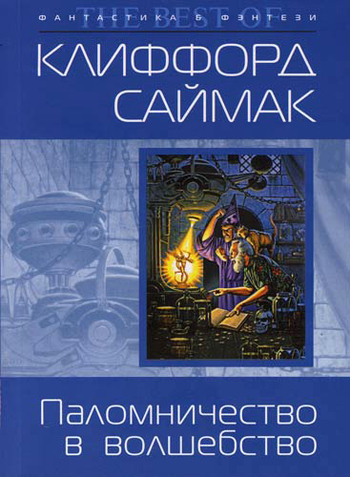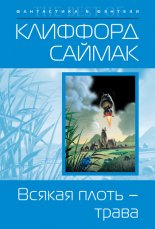Знаменитые первые слова Гаррисон Гарри
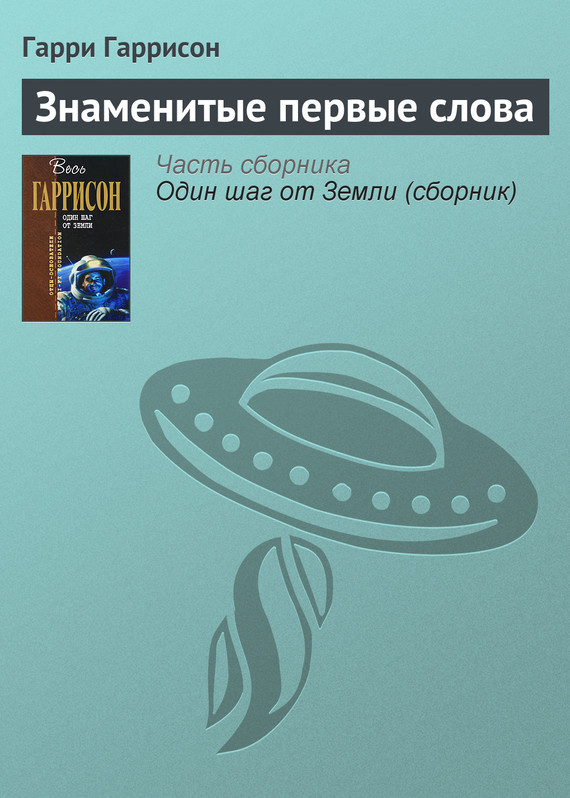
О позднейших работах профессора Эфраима Хакачиника высказаны многие миллионы слов, объединяющихся в полемические атаки, ядовитые потоки и даже выражения злобной ненависти. О нем написаны тысячи и тысячи страниц, в которых его труды и его самого чернят, поливают грязью и подвергают анафеме, и я чувствую, что пришла пора расставить все на свои места. Я также понимаю, что, делая подобные заявления, рискую навлечь на себя гнев многих так называемых авторитетов, но я и так молчал слишком долго. Я должен сообщить миру правду в том виде, в котором узнал ее от своего наставника, потому что только правда, какой бы безумной она ни казалась, может исправить то ложное отношение к личности профессора, которое к настоящему времени сложилось в общественном мнении.
Позвольте мне быть совершенно откровенным: на заре нашего знакомства мне тоже казалось, что профессор был, если можно так выразиться, эксцентричным даже сверх того, что считалось нормой для болот, которые именуются университетами. По внешнему виду он был чрезвычайно неопрятным человеком; его лица почти не было видно за огромной нечесаной бородой, похожей скорее на метлу. Бороду он отращивал для двоякой цели: ради экономии на бритье и возможности обходиться без галстука. Этот дуализм целеположения был имманентно присущ почти всему, что он делал; я уверен, что проведение углубленных научных занятий одновременно в области гуманитарных и естественных наук является весьма редким, пожалуй, уникальным явлением, и все же он занимал в Мискатонийском университете две профессорские должности: квантовой физики и разговорных индоевропейских языков. Такое разностороннее приложение врожденных талантов, несомненно, способствовало совершенствованию его изобретательности и разработке новых методов, позволявших ученому открывать новые горизонты науки.
Как аспирант, я был очень близок к профессору Хакачинику И присутствовал при том самом мгновении, когда на свет проклюнулся первый зачаток идеи, которая должна была в конечном счете развиться в прекрасный цветок, стать изумительным открытием и одной из величайших драгоценностей сокровищницы знания человечества. Это произошло солнечным июньским днем, и я должен сознаться, что в тот момент дремал, сидя над скучнейшим (…родил, родил, родил и т. д.) фрагментом одного из свитков Мертвого моря,[1] когда по библиотеке, отдаваясь эхом от обшитых деревянными панелями стен, разнесся хриплый крик, от которого я, вздрогнув, проснулся.
— Необичан! — снова воскликнул профессор (одним из проявлений его возбужденного состояния было то, что он переходил на сербско-хорватский язык), и еще раз повторил:
— Необичан!
— Что вас так заинтересовало, профессор? — поинтересовался я.
— Послушайте эту цитату… поистине вдохновенные слова. Это Эдвард Гиббон. Он посетил Рим и вот что написал: «Я сидел, погрузившись в размышления. Босоногие монахи пели вечерню в храме Юпитера… Тогда мне впервые пришла в голову мысль о том, чтобы написать историю увядания и гибели этого города».
Разве это не изумительно, мой мальчик? Просто дух захватывает: вот оно, реальное историческое начало этого великого труда; и я словно присутствую при нем. С этого все началось, а потом последовали двенадцать лет и пятьсот тысяч слов, после которых Гиббон, измученный писчим спазмом, нацарапал «Конец» и выронил перо. «История упадка и разрушения Римской империи» была завершена. Великолепно!
— Великолепно? — переспросил я, все еще не понимая, в чем дело. В моей голове продолжало грохотать перечисление родословия ветхозаветных праотцев.
— Болван! — зарычал он и добавил несколько слов на древневавилонском (из тех, которые можно привести в современном журнале только без перевода). Неужели у вас нет никакого чувства перспективы? Разве вы не понимаете, что каждое великое событие, происходящее в этой вселенной, должно начинаться с какой-нибудь мелочи, можно сказать, ерунды?
— Это довольно банальное наблюдение, — заметил я.
— Имбецил! — пробормотал он сквозь стиснутые зубы. — Вы не понимаете величия концепции! Могущественная секвойя, упирающаяся вершиной в небеса, со стволом столь толстым, что сквозь него проходит тоннель, по которому проезжают автомобили, этот голиаф лесов был некогда свежепроклюнувшимся из земли кустиком с одним-единственным листочком, возле которого даже самая крохотная собачонка не пожелала бы задрать лапку. Неужели эта концепция не кажется вам изумительной?
Чтобы он от меня отстал, я пробормотал что-то невнятное, дескать, вовсе нет, и как только профессор Хакачиник отвернулся, вновь погрузился в дремоту, начисто забыв об этом кратком разговоре на много дней, и вспомнил о нем лишь гораздо позже, когда получил записку, которой профессор вызывал меня к себе домой.
— Посмотрите-ка сюда, — сказал он, указывая на некий прибор с роскошным набором кнопок и верньеров, находившемся в вызывающем противоречии со сделанным из плохо оструганных дощечек корпусом.
— Потрясно! — с энтузиазмом воскликнул я. — Вместе послушаем финальный матч чемпионата мира.
— Stumpfsinnig Schwein![2] в ярости прорычал он. — Это вовсе не обычный радиоприемник, а мое изобретение, воплощающее принципиально новую научную концепцию, мой темпоральный психогенетический звуковой детектор — для краткости ТПЗ. Используя теоретические предпосылки и технические знания, которые пока что находятся вне пределов ваших рудиментарных мыслительных способностей — так что я не стану делать попыток все это растолковать, — я построил мой ТПЗ для того, чтобы слышать голоса, звучавшие в прошлом, и усиливать их до такой степени, чтобы их можно было записать. Слушайте и восхищайтесь!
Профессор включил устройство, несколько минут поиграл с регуляторами, после чего из громкоговорителя послышались резкие звуки, которые можно было с одинаковым успехом приписать и человеку и животному.
— Что это было? — спросил я.
— Протомандарин конца тринадцатого столетия до нашей эры, — пробормотал он, принявшись снова крутить настройки, — но это всего лишь праздная болтовня насчет урожая риса, южных варваров и так далее. В этом заключается основная трудность: мне приходится выслушивать немыслимое количество подобной дребедени, прежде чем я случайно натыкаюсь на подлинное известие о начале и получаю возможность записать эти слова. Мне пока что удалось лишь это — и все же бесспорный, колоссальный успех! — Он с силой хлопнул ладонью по пухлой стопке коряво исписанных листов, возвышавшейся на столе. — Да, это мои первые успехи. Они еще фрагментарны, но убедительно показывают, что я нахожусь на верном пути. Я проследил множество важных событий вплоть до их зарождения и сделал записи тех самых слов, которые инициаторы событий произнесли точно в момент начала. Конечно, переводы достаточно грубые и в весьма разговорном стиле, но все это может быть исправлено позднее. Положено начало моему изучению начал.
Увы, тогда я покинул общество профессора — мне очень хотелось послушать трансляцию с футбольного матча — и должен с величайшим сожалением признать, что это был последний раз, когда я, и вообще кто-либо, видел его живым. Листы бумаги, о которых он говорил с таким восторгом, были восприняты научным сообществом как бред больного сознания, их истинного значения никто не понял, и они были отвергнуты и забыты. Мне удалось сохранить некоторые из них, и теперь я представляю их публике, которая сможет вынести верное суждение об их реальной значимости. Несмотря на свою фрагментарность, они проливают яркий свет знания на многие исторические эпизоды, которые доселе скрывались в густом мраке веков.
«…Пусть даже это дворец, но это все же мой дом, и он слишком мал для нас с моей новой мачехой: она настоящая пробл…дь.[3] Я рассчитывал продолжить мои занятия философией, но здесь это невозможно. Пожалуй, я лучше поведу армию к границе; похоже, что там можно ждать неприятностей…»
Александр Македонский, 336 г, до н. э.
«Жара ет-та не то слово. Уся ВИРДЖИНИЯ ефтим летом точь-в-точь духовка. Коды появилась Возможность заработать малешко мелочишки: а всего-то надыть пробежаться по Холмам да позыркать, чего тама есть, я ухватился за ет-та, покудова М.Ф, не дал попятного. Так я и встретил… сегодня (забыл, как его звать, завтра надыть спросить) в Таверне. Мы вместе лакали Эль и сильно жалились на Жару. Ну а там, одна за одной, как оно завсехда быват, мы хлебнули ишшо Эля, и тута ен мне Доверился. Он, дескать, член тайного общества, которое называется, ну тута я заклад не поставлю, потому как в Памяти один туман, Сыновья Свободы, али ишшо чего навроде…»
Джордж Вашингтон, 1765 г.
«Франция утратила свое величие, когда лишила честного изобретателя права получить вознаграждение за свой напряженный утомительный труд. Я на много месяцев забросил свою медицинскую практику, совершенствуя мой Ручной резак для колбас. Я должен был заработать целое состояние, продавая настольные модели всем мясникам Франции. Но ничего подобного! Конвент использует большую модель, не выплачивая мне ни единого су, а мясники, естественно, теперь отказываются приобретать…»
Ж. — И.Гильотен, д-р медицины, 1791 г.
«Голова у меня болит, будто я маюсь от лихорадки, и если мне когда-нибудь удастся найти этого склизко-палого дерьмового сына злокозненной лахудры, который уронил на Феттерлайн свой ночной сосуд, я высеку его так, что он дойдет до последнего дюйма своей пакостной жизни, а может быть, и немного подальше. С первого же момента моего прибытия в Лондон я осознал, насколько внимательно и осторожно следует передвигаться по этому городу, чтобы уклониться от содержимого множества сосудов, выливаемых на улицы, но в первый раз мне довелось встретиться с потребностью избавиться от самого вместилища. Если бы я двигался лишь чуть быстрее, этот движущийся предмет посуды продолжил бы свою траекторию. Ужасно болит голова! Как только мне станет получше, нужно будет подумать об этом: у меня возникла отчетливая тень идеи…»
Сэр Исаак Ньютон, 1682 г.
«Л, боится, что Ф, знает! Если это так, возможно, мне конец. Не будь я настолько обольстительно привлекателен, то оказался бы в чьей-нибудь еще постели, но она привела меня в свою. Она говорит, что может продать кое-что из своих драгоценностей и купить те три корабля, которые недавно ей так понравились. Проклятые Острова пряностей — это самое последнее из всех мест, куда бы мне хотелось отправиться сейчас, в разгар мадридского сезона. Но Ф, король, и если он действительно узнает!..»
(Приписывается Христофору Колумбу из Генуи, 1492 г., хотя атрибутика точно не установлена.)
«Какой я молодец, что купил маленькому Пьеру детский конструктор. Как только он уснет, я утащу у него смешную башенку, которую он построил вечером. Я знаю, что Выставочный комитет не примет ничего подобного, но все же это заставит их заткнуться на некоторое время».
Александр Густав Эйфель, 1888 г.
«О, горе Китаю! Этот год вновь оказался неурожайным, и дела в Поднебесной идут все хуже. Миллионы не имеют никакого дела, чтобы заработать на жизнь. Единственный план, который кажется в целом осуществимым, — строительный проект, который Ва Пингах, так горячо проталкивает. Он говорит, что это резко подтолкнет экономику и сразу же снова введет в обращение наличные деньги. Но до чего же сумасбродная затея! Выстроить стену в сто пятьдесят десятков миль длиной! Он хочет использовать свои собственные инициалы и назвать стройку проектом ВПА, но я собираюсь сказать о ней кое-что другое и сообщить людям, что она должна остановить грозящих с севера варваров, поскольку всегда можно продать акции оборонного предприятия, если, конечно, предварительно как следует напугать народ».
Император Цинь Шихуанди, 252 г, до н. э.
«Сегодня полная луна — ну, прям как пленная царевна, — так что будет достаточно светло, чтобы разыскать этот балкон. Мне очень не по себе из-за того, что я разгуливаю под боком у этой ненормальной семейки, но Мария самая милая лапочка во всем городе! Она уговорила свою сестренку Джульетту — тоже обещает вырасти в настоящее чудо! — проследить, чтобы окно было открыто».
Ромео Монтекки, 1562 г.
(Выписка из судового журнала.)
«Сегодня высадились на берег — на скалистый обрыв. Какое искусство навигации! Направлялись в Виргинию, а причалили в Массачусетсе! Если я когда-нибудь изловлю того поганца-квакера, который украл компас!!!»
Бриг «Мэйфлауэр», 1620 г.
Сохранилось еще немало записей, но и этих образцов достаточно для того, чтобы доказать: профессор Хакачиник был гением, далеко опередившим свое время; человеком, перед которым ученые, подвизающиеся в области истории, находятся в неоплатном долгу.
Поскольку относительно смерти профессора ходило множество слухов, я хочу продолжить свой отчет и сообщить всю правду до конца. Именно я обнаружил тело профессора, так что я знаю, о чем говорю. Разговоры о том, что этот замечательный человек покончил жизнь самоубийством, являются ложью, наглым и грубым искажением действительного положения вещей. На самом деле он был глубоко влюблен в жизнь, которой лишился в наивысшей точке своего поприща; я уверен, что он видел впереди долгие годы плодотворного труда. И при этом он не погиб от электрического разряда, хотя аппарат, названный им ТПЗ, находившийся рядом, весь деформировался и оплавился, словно через него прошел электрический разряд невероятной мощи. В официальных документах в качестве причины смерти указывается остановка сердца, и из-за отсутствия более подходящего выражения это выражение так и будет фигурировать в документации. Со стороны мне даже в первый момент показалось, что профессор находится в полном здравии, у него был прекрасный цвет лица, но при этом он был окончательно и бесповоротно мертв. Так как его сердце больше не билось, в документах можно было с чистой совестью указать причиной смерти остановку сердца.
В заключении позволю себе заявить, что, когда я обнаружил профессора, он сидел за своим столом, подавшись всем телом в сторону громкоговорителя. В пальцах была зажата авторучка. Под рукой лежал блокнот с неоконченной записью на странице, из чего следует, что он в самый момент смерти вел запись. Я не делаю никаких заключений по этому поводу, а всего лишь привожу этот текст в качестве констатации факта.
Запись сделана на старонорвежском, но для удобства отдельных читателей, плохо знакомых с этим интересным языком, я перевел ее на современный английский:
«…Собрание будет проведено согласно повестке дня, так что если вы не уберете прочь эти рога с медом, здесь будет несколько разбитых черепов. Тут я не шучу. Теперь к повестке дня. Поступили сообщения о том, что на Иггдрасиле[4] завелись гусеницы-листовертки, а также отмерло несколько веток, но к этому мы вернемся позже. Из более срочных дел: трещины в цементном основании моста Биврест.[5] Я хочу… впрочем, минуточку. Это закрытое собрание, и тем не менее кто-то нас подслушивает. Тор,[6] позаботься, пожалуйста, о любопытном…»