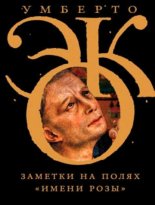Стена
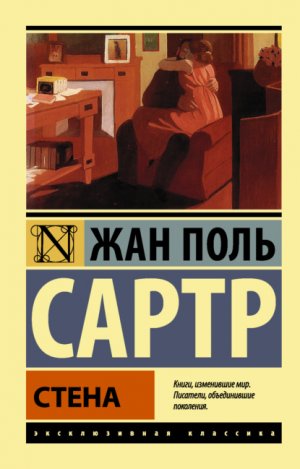
Конвойный не ответил. Он был мрачен, он все принимал всерьез. Мной овладело желание расхохотаться, но я сдержался: побоялся, что если начну, то не смогу остановиться. Фалангист был усат. Я сказал ему:
– Сбрей усы, кретин.
Мне показалось смешным, что человек допускает еще при жизни, чтоб лицо его обрастало шерстью. Он лениво дал мне пинка, я замолчал.
– Ну что, – спросил толстяк, – ты надумал?
Я взглянул на него с любопытством, как смотрят на редкостное насекомое, и ответил:
– Да, я знаю, где он. Он прячется на кладбище. В склепе или в домике сторожа.
Мне захотелось напоследок разыграть их. Я хотел поглядеть, как они вскочат, нацепят свои портупеи и станут с деловым видом сыпать приказами. Они действительно повскакали с мест.
– Пошли. Молес, возьмите пятнадцать человек у лейтенанта Лопеса.
– Если это правда, – сказал коротышка, – я сдержу свое слово. Но если ты нас водишь за нос, тебе не поздоровится.
Они с грохотом выскочили из комнаты, а я остался мирно сидеть под охраной фалангистов. Время от времени я ухмылялся: забавно было представлять, как они мчатся во весь опор к кладбищу. Мне казалось, что я поступил очень остроумно. Я живо представлял, как они распахивают двери склепов, приподымают могильные камни. Я видел все это сторонним взглядом: упрямый арестант, вздумавший корчить из себя героя, солидные усатые фалангисты и люди в военной форме, шныряющие среди могил, – поистине уморительная картина. Через полчаса толстяк вернулся. Я подумал: сейчас он прикажет меня расстрелять. Остальные, очевидно, остались на кладбище. Но офицер внимательно поглядел на меня. Он вовсе не выглядел одураченным.
– Отведите его на главный двор, к остальным, – сказал он. – После окончания боевых действий его судьбу решит трибунал.
Я подумал, что не так его понял. Я спросил:
– Как, разве меня не расстреляют?
– Во всяком случае, не сейчас. И потом, это уже не по моей части.
Я все еще не понимал.
– Но почему?
Он молча передернул плечами, солдаты увели меня. На общем дворе толпилось около сотни арестованных: старики, дети. В полном недоумении я принялся бродить вокруг центральной клумбы. В полдень нас повели в столовую. Двое или трое пытались со мной заговорить. Очевидно, мы были знакомы, но я им не отвечал: я больше не понимал, где я и что. К вечеру во двор втолкнули дюжину новых арестантов. Среди них я узнал булочника Гарсиа. Он крикнул мне:
– А ты везучий! Вот уж не думал увидеть тебя живым.
– Они приговорили меня к расстрелу, – отозвался я, – а потом передумали. Не могу понять почему.
– Меня взяли в два часа, – сказал Гарсиа.
– За что?
Гарсиа политикой не занимался.
– Понятия не имею, – ответил Гарсиа, – они хватают каждого, кто думает не так, как они.
Он понизил голос:
– Грис попался.
Я вздрогнул.
– Когда?
– Сегодня утром. Он свалял дурака. В среду вдрызг разругался с братцем и ушел от него. Желающих его приютить было хоть отбавляй, но он никого не захотел ставить под удар. Он сказал мне: «Я бы спрятался у Иббиеты, но раз его арестовали, спрячусь на кладбище».
– На кладбище?
– Да. Нелепая затея. А сегодня утром они туда нагрянули. Накрыли его в домике сторожа. Грис отстреливался, и они его прихлопнули.
– На кладбище!
Перед глазами у меня все поплыло, я рухнул на землю. Я хохотал так неудержимо, что из глаз хлынули слезы.
Комната
Мадам Дарбеда держала в пальцах рахат-лукум. Она осторожно приблизила его к губам и задержала дыхание, опасаясь, что взлетит легкая сахарная пудра. Она подумала: «Этот рахат-лукум из лепестков розы». Потом резко прокусила стекловидную плоть, запах гнили тотчас заполнил ее рот. «Любопытно, как болезнь утончает ощущения». Мадам Дарбеда вспомнила мечети и слащавых, покорных людей Востока (она провела в Алжире свое свадебное путешествие), и на ее бледных губах возникло подобие улыбки: рахат-лукум был тоже сладок и покорен.
Пришлось несколько раз провести ладонью по страницам книги, так как, несмотря на предосторожность, они покрылись тонким слоем белой сахарной пыли. Под руками мадам Дарбеда на гладкой бумаге похрустывали маленькие крупицы сахара. «Это напоминает мне Аркашон, когда я читала на пляже…» Лето 1907 года она провела на берегу моря. Она носила тогда широкополую соломенную шляпу с зеленой лентой; мадам Дарбеда располагалась около дамбы с романом Жип или Колетт. Ветер швырял на ее колени горсти песка, и время от времени она трясла книгу, держа ее за углы. То же самое ощущение: только песчинки были совсем сухие, а маленькие пылинки сахара немного прилипали к пальцам. Она вновь представила полоску жемчужно-серого неба над темным морем. Ева тогда еще не родилась. Мадам Дарбеда была доверху заполнена воспоминаниями и ощущала себя драгоценной, как сандаловая шкатулка. Внезапно в ее памяти всплыло название романа: он назывался «Маленькая женщина» и был занятным. Но с тех пор, как непонятный недуг приковал ее к этой комнате, мадам Дарбеда предпочитала мемуары и исторические опусы. Ей хотелось, чтобы благодаря своим страданиям, серьезному чтению, сосредоточенным воспоминаниям и прихотливым ассоциациям она вызревала как прекрасный оранжерейный плод.
Она подумала немного раздраженно, что скоро в дверь постучит ее муж. В остальные дни недели он приходил только к вечеру, молча целовал ее в лоб и, усевшись напротив нее в глубоком кресле, читал «Тан». Но четверг был «днем» месье Дарбеда. В течение часа он должен был быть у дочери – обычно с трех до четырех. Перед этим он заходил к жене, и оба они с горечью говорили о зяте. Эти разговоры по четвергам, известные заранее до мельчайших деталей, изнуряли мадам Дарбеда. Месье Дарбеда переполнял спокойную комнату своим присутствием. Он непрерывно шагал взад-вперед, делал резкие повороты. Его повадки ранили мадам Дарбеда, как звон разбитого стекла. В этот же четверг было еще хуже, чем обычно: при одной мысли, что сегодня ей придется повторить мужу признание Евы и увидеть, как его большое устрашающее тело подпрыгнет от ярости, ей становилось дурно. Ее прошибло потом. Она взяла с блюдца рахат-лукум, нерешительно рассматривала его несколько мгновений, затем грустно положила назад: ей не хотелось, чтобы муж видел, как она лакомится этой сластью.
Услышав его стук, она вздрогнула.
– Входи, – сказала она слабым голосом.
Месье Дарбеда вошел на цыпочках.
– Сейчас пойду к Еве, – сказал он, как обычно.
Мадам Дарбеда улыбнулась.
– Поцелуй ее за меня.
Месье Дарбеда не ответил, озабоченно наморщив лоб: в каждый четверг, в один и тот же час он ощущал глухое раздражение и одновременно тяжесть в желудке.
– Потом зайду навестить Франшо, я попрошу его серьезно с ней поговорить, сделать еще одну попытку.
Он часто посещал доктора Франшо. И все напрасно. Мадам Дарбеда подняла брови. Раньше, когда она была здорова, то часто пожимала плечами. Но с тех пор, как болезнь опутала ее тело, она заменила утомительные жесты игрой лица: она говорила «да» глазами, «нет» уголками губ, поднимала брови вместо плеч.
– Любой ценой Еву необходимо у него отнять.
– Я тебе уже говорил, что это невозможно. Наши законы несовершенны. Франшо однажды признался мне, что у них невообразимые неприятности с семьями: люди не решаются отдать больного, у врачей связаны руки, они могут лишь высказать свое мнение, не больше. Нужно, чтоб он устроил публичный скандал или чтоб она сама попросила о его помещении в клинику.
– Но это будет нескоро.
– Увы.
Он обернулся к зеркалу, запустил пальцы в бороду и начал ее расчесывать. Мадам Дарбеда бесстрастно смотрела на его красный мощный затылок.
– Если она не решится, – сказал месье Дарбеда, – то свихнется сама. Все это ужасно. Она его не покидает ни на минуту, выходит только проведать тебя, никого не принимает. В их комнате просто нельзя продохнуть. Она никогда не открывает окно, потому что Пьер этого не хочет. Как будто нужно спрашивать разрешения у больного. Они жгут благовония, какую-то гадость в курильнице. Можно подумать, что заходишь в церковь. Ей-богу, иногда мне кажется… знаешь, у нее стали странные глаза.
– Не заметила, – не согласилась мадам Дарбеда. – По-моему, она выглядит как всегда, только грустна, но это естественно.
– Ева бледна как смерть. Спит ли она? Ест ли? Я не могу ее об этом спросить. Но уверен, что по ночам, когда Пьер рядом, она не смыкает глаз. – Он пожал плечами. – Мне кажется невероятным, что мы, ее родители, не имеем права защитить ее от нее самой. Уверяю тебя, за Пьером будут лучше ухаживать у Франшо. Там большой парк. И потом, я думаю, – добавил он, слегка улыбнувшись, – что он лучше найдет общий язык с себе подобными. Эти существа, как дети, их нужно оставлять в своей компании; у них что-то вроде масонского ордена. Именно туда следовало его поместить с самого начала ради него самого. Это, безусловно, было бы в его интересах. – После паузы он добавил: – Признаюсь тебе, мне тяжело сознавать, что она остается с Пьером наедине, особенно ночью. Представь, если что-нибудь случится… У Пьера ужасно противоестественный вид.
– Не знаю, – сказала мадам Дарбеда, – стоит ли тут беспокоиться, ведь такой вид был у него давно, всегда казалось, что он над всеми смеется. Бедный мальчик, – продолжала она, вздыхая, – с его гордыней дойти до такого! Он считал себя умнее всех. У него была манера всем говорить: «Вы правы», только чтоб избежать спора… Это для него счастье, что он не сознает своего положения.
Она с неудовольствием вспомнила его удлиненное ироническое лицо, всегда немного склоненное набок. В первое время замужества Евы мадам Дарбеда очень хотела установить с зятем задушевные отношения, но Пьер пресек ее усилия: он почти всегда молчал или с отсутствующим видом поспешно с ней соглашался.
Месье Дарбеда продолжал:
– Франшо пригласил меня посетить его клинику – она великолепна. Больные имеют отдельные комнаты, там кожаные кресла, как тебе нравятся, и диван-кровати. Есть даже теннисный корт, скоро будут строить бассейн.
Он остановился у окна и посмотрел сквозь стекло, немного раскачиваясь на своих кривых ногах. Потом ловко повернулся на каблуках, опустив плечи и засунув руки в карманы. Мадам Дарбеда почувствовала, что сейчас она покроется потом; каждый раз одно и то же: теперь он зашагает взад-вперед, как медведь в клетке, и при каждом шаге его башмаки будут скрипеть.
– Друг мой, – сказала она, – умоляю тебя, сядь! Ты меня утомляешь. – И поколебавшись, добавила: – Я должна тебе сказать нечто важное.
Месье Дарбеда сел в кресло, положив руки на колени; легкая дрожь пробежала по позвоночнику мадам Дарбеда: никуда не денешься, придется сказать все.
– Ты знаешь, – молвила она, смущенно кашлянув, – что во вторник я видела Еву. – Да.
– Мы болтали о разных пустяках, Ева была очень мила, я давно уже не видела ее такой сердечной. Я ее немного порасспрашивала, навела разговор на Пьера. И вот что я узнала, – добавила она смущенно, – Ева очень дорожит им.
– Мне это хорошо известно, черт возьми! – вскричал месье Дарбеда.
Он ее немного злил: ему всегда нужно было тщательно все объяснять, ставя точки над L Мадам Дарбеда мечтала жить и общаться с людьми более тонкими, чуткими, понимающими ее с полуслова.
– Но я хочу сказать, – продолжала она, – что она иначе дорожит им, чем нам кажется.
Месье Дарбеда завращал беспокойными и гневными глазами, так он делал всегда, когда не очень хорошо понимал какой-нибудь намек или околичность.
– Что ты имеешь в виду?
– Шарль, – сказала она, – не утомляй меня. Ты должен понимать, что мне как матери кое о чем трудно говорить впрямую.
– Не понимаю ни словечка из того, что ты мне рассказываешь, – сказал с раздражением месье Дарбеда. – Что ты имеешь в виду?
– Ладно, скажу, – сдалась она.
– Как, они еще… и сейчас?
– Да! Да! Да! – раздраженно выкрикнула она три маленьких резких слова.
Месье Дарбеда развел руками, склонил голову и замолчал.
– Шарль, – взволнованно сказала мадам Дарбеда, – я не должна была тебе это говорить. Но я не могла этого утаить от тебя.
– Наше дитя! – простонал он. – С этим сумасшедшим! Ведь он ее даже не узнает, он зовет ее Агатой. Нет, для этого нужно утратить последние остатки здравого смысла.
Он поднял голову и сурово посмотрел на жену.
– А ты уверена, что правильно ее поняла?
– В этом нет никакого сомнения, – заверила она, – я, как и ты, сначала не поверила ей, к тому же я ее не могу понять. При одной только мысли, что этот несчастный может притронуться… Нет, я все поняла правильно, – вздохнула она, – полагаю, что этим он ее и держит.
– Ты помнишь, – сказал месье Дарбеда, – что я тебе говорил, когда он пришел просить ее руки? Я сказал: «Думаю, что он слишком нравится Еве». А ты не захотела меня понять. – Вдруг он ударил кулаком по столу и побагровел. – Но это же разврат! Он заключает ее в объятия, целует, называя Агатой, несет всякую околесицу о летающих статуях и еще черт знает что! И она ему это позволяет! Но что их связывает? Пусть она его жалеет от всего сердца, но пусть она поместит его в клинику, где сможет видеть его каждый день, в добрый час. Нет, никогда бы не подумал… Я считал ее вдовой. Послушай, Жаннета, – сказал он серьезно, – я буду говорить откровенно: раз уж она так чувственна, я бы предпочел, чтоб она завела себе любовника!
– Шарль, замолчи! – возмутилась мадам Дарбеда.
Месье Дарбеда с усталым видом взял шляпу и трость, которые он, войдя, положил на круглый столик.
– После того, что ты мне сказала, – заключил он, – у меня почти не остается надежды. Но я все же поговорю с ней, потому что это мой долг.
Мадам Дарбеда постаралась побыстрее его спровадить.
– Знаешь, – сказала она, чтобы его подбодрить, – я все же надеюсь, несмотря на все это, у Евы больше упрямства, чем… другого. Она знает, что он неизлечим, и все же упорствует, она не хочет, чтобы диагноз еще раз подтвердили.
Месье Дарбеда задумчиво погладил бороду.
– Упрямство? Да, может быть. Ну что ж, если ты права, она в конце концов устанет. Он и всегда-то был не шибко общителен, а сейчас он и вовсе молчит. Когда я с ним здороваюсь, он мне молча протягивает вялую руку. Как только они остаются одни, он возвращается к своим навязчивым идеям: она мне сказала, что он кричит как резаный, потому что у него галлюцинации. Статуи. Они ему внушают страх, когда, жужжа, проносятся над ним. Он убежден, что они летают, глядя на него своими мертвыми белыми глазами. – Он надел перчатки и продолжил: – В конце концов, она устанет, говорю тебе. Но что если раньше она расстроит себе нервную систему? Я хотел бы, чтоб она хоть немного выходила, видела людей: возможно, она встретила бы какого-нибудь приятного молодого человека – вроде Шредера, который работает инженером у Симплона; кого-нибудь с будущим. Она иногда видела бы его то у одних, то у других знакомых и постепенно обвыклась бы с мыслью, что пора начинать новую жизнь.
Мадам Дарбеда, желая сократить разговор, промолчала. Муж склонился над ней.
– Ну все, – сказал он, – мне пора идти.
– Пока, папуля, – сказала мадам Дарбеда, подставляя ему лоб, – поцелуй ее крепко и скажи, что мы ее любим и жалеем.
Когда муж ушел, мадам Дарбеда слегка пошевелилась в глубоком кресле и устало прикрыла глаза. «Какая жизнеспособность!» – подумала она с упреком. Немного восстановив силы, она осторожно протянула бледную руку и взяла с блюдца рахат-лукум, на ощупь, не открывая глаз.
Ева жила с мужем на шестом этаже старого дома на улице Бак. Месье Дарбеда легко поднялся по ста двенадцати ступенькам. Даже не запыхавшись, он нажал на кнопку звонка. С удовольствием вспомнил слова мадам Дормуа: «Для ваших лет, Шарль, вы просто молодец». Никогда он не ощущал себя сильней и бодрее, чем по четвергам, особенно после этих восхождений.
Ему открыла Ева. «Действительно, у нее нет горничной. Эти девушки не могут тут оставаться: я их понимаю». Он исцеловал ее: «Здравствуй, моя бедная детка».
Ева поздоровалась с ним с некоторой холодностью.
– Ты немного бледненькая, – сказал месье Дарбеда, касаясь ее щеки, – ты мало двигаешься.
Наступило молчание.
– Как себя чувствует мама? – спросила Ева.
– Так себе. Ты видела ее во вторник? Вчера ее навестила тетя Луиза, это доставило ей удовольствие. Она любит принимать визиты, но нельзя, чтоб они длились слишком долго. Тетя Луиза приехала в Париж с детьми ради этой истории с залогом. Она заходила ко мне в бюро посоветоваться. Я сказал ей, что выхода нет: нужно продавать. Она уже нашла покупателя: это Бретонель. Ты помнишь Бретонеля? Сейчас он удалился от дел.
Внезапно он остановился: Ева едва его слушала. Он с грустью подумал, что она больше ничем не интересуется. «Это как с книгами. Когда-то приходилось их у нее вырывать. Теперь она даже не читает».
– Как себя чувствует Пьер?
– Хорошо, – сказала Ева. – Хочешь его повидать?
– Ну конечно, – сказал месье Дарбеда и добавил шутливым тоном: – Хочу испросить у него маленькую аудиенцию.
Он был полон сострадания к этому несчастному малому, но не мог смотреть на него без брезгливости. «Я испытываю отвращение к нездоровым людям. Совершенно очевидно, что Пьер не виноват, у него тяжелейшая наследственность». Месье Дарбеда вздыхал: «Осмотрительность бесполезна, такое всегда узнаешь слишком поздно». Нет, Пьер не отвечает за свою болезнь. И все же он всегда носил в себе эту порчу: она повлияла на самую суть его характера. Это совсем не то, что при раке или туберкулезе, если хочешь судить о человеке, от них можно отвлечься. Его нервное изящество, его субтильность, которая так нравилась Еве, когда он за ней ухаживал, – все это были цветы его безумия. Он уже был сумасшедшим, когда на ней женился, только до времени это не проявлялось. Спрашивается, подумал месье Дарбеда, где начинается ответственность, или, скорее, где она кончается? Во всяком случае, Пьер слишком дотошно себя анализировал, был замкнут на себе. Но причина ли это или уже следствие его недуга? Месье Дарбеда проследовал за дочерью по длинному темному коридору.
– Эта квартира слишком велика для вас, – сказал он, – вам нужно ее сменить.
– Ты мне каждый раз говоришь это, папа, – ответила Ева, – но я тебе уже отвечала, что Пьер не хочет покидать свою комнату.
Ева изумляла его: неясно, понимает ли она действительное состояние мужа. Ведь он буйнопомешанный, а она считается с его мнением, как будто он в своем уме.
– Но пойми, мы тревожимся о тебе, – продолжал месье Дарбеда, слегка раздосадованный. – Мне кажется, будь я женщиной, мне было бы страшно в этих старых, плохо освещенных комнатах. Я выбрал бы для тебя светлую квартиру, какие строят в последние годы рядом с Отей, три маленькие, хорошо проветриваемые комнаты. Хозяева снизят квартирную плату, так как не находят жильцов. Сейчас как раз удачный момент.
Ева тихо повернула защелку, и они вошли в комнату. У месье Дарбеда запершило в горле от тяжелого запаха ладана. Шторы были задвинуты. В полумраке он различил худой затылок над спинкой кресла. Пьер сидел к нему спиной: он ел.
– Здравствуй, Пьер, – сказал месье Дарбеда, повышая голос. – Ну как мы себя сегодня чувствуем?
Он подошел ближе: больной отрешенно сидел за столиком.
– Так-так, сегодня мы едим яйца всмятку, – сказал месье Дарбеда, снова повышая голос, – это хорошо.
– Я не глухой, – тихо сказал Пьер.
Месье Дарбеда, опешив, посмотрел на Еву, как бы призывая ее в свидетели. Но Ева ответила ему суровым взглядом и промолчала. Месье Дарбеда понял, что ранил ее. Ладно, тем хуже для нее. С этим несчастным малым невозможно найти правильный тон: у него меньше разума, чем у четырехлетнего ребенка, а Ева хотела бы, чтобы с ним обращались, как с мужчиной. Месье Дарбеда устал уже ждать момента, когда все эти смешные знаки внимания будут признаны бессмысленными. Больные всегда его немного раздражали, особенно сумасшедшие, потому что они были кругом неправы. Бедный Пьер, к примеру, был неправ всегда: он не мог произнести ни слова, не городя при этом вздора, и тем не менее бесполезно было требовать от него хоть какого-то смирения или даже мимолетного признания своей неправоты.
Ева убрала скорлупу от яйца и подставку. Потом положила перед Пьером прибор с вилкой и нож.
– Что мы сейчас будем есть? – спросил наигранно весело месье Дарбеда.
– Бифштекс.
Пьер взял вилку и подержал ее кончиками длинных бледных пальцев. Он тщательно ее изучил, потом слегка усмехнулся.
– На этот раз ничего не выйдет, – прошептал он, кладя ее на место. – Меня предупредили.
Ева подошла, с живым интересом посмотрела на вилку.
– Агата, – сказал Пьер, – дай мне другую.
Ева повиновалась. Пьер начал есть. Она взяла подозрительную вилку и, не сводя с нее глаз, зажала в руке. Казалось, это стоило ей огромных усилий. «Как странны все их жесты, все их отношения!» – подумал месье Дарбеда. Ему было не по себе.
– Осторожно, – сказал Пьер, – возьми ее за середину ручки, не уколись о зубья.
Она вздрогнула и положила вилку на сервировочный столик. Месье Дарбеда почувствовал, что теряет самообладание. Он не считал, что следует поддерживать фантазии этого несчастного, к тому же это пагубно и для Пьера. Франшо ему ясно пояснил: «Никогда нельзя входить в бред больного». Вместо того чтобы давать ему другую вилку, лучше бы его мягко убедить, что первая такая же, как другие. Он подошел к столику, демонстративно взял вилку и прикоснулся пальцами к ее зубьям. Затем повернулся к Пьеру. Но тот спокойно резал мясо: он поднял на своего тестя спокойный невыразительный взгляд.
– Я хотел бы немножко поболтать с тобой, – сказал Еве месье Дарбеда.
Дочь послушно последовала за ним в гостиную. Сев на кушетку, месье Дарбеда заметил, что вилка еще в его руке. С раздражением он бросил ее на столик.
– Здесь лучше, – сказал он.
– Я сюда никогда не захожу.
– Можно закурить?
– Конечно, папа, – поспешно сказала Ева, – хочешь сигару?
Месье Дарбеда предпочел размять сигарету. Он думал не без досады о предстоящем разговоре. Говоря о Пьере, он как-то стеснялся своей разумности, как великан смущается своей силы, когда играет с ребенком.
«С моей бедной Жаннетой, нужно признаться, я испытываю нечто подобное». Конечно, мадам Дарбеда не сумасшедшая, но из-за болезни она кажется… полуспящей. Ева же, напротив, была похожа на отца, с характером прямым и последовательным; когда-то он очень любил с ней спорить. «Именно поэтому я не хочу, чтоб ее разрушили». Месье Дарбеда поднял глаза, он хотел увидеть тонкое и умное лицо своей дочери. Но был разочарован: в лице, недавно таком разумном и открытом, теперь было нечто смутное и непроницаемое. Ева все еще была красивой. Месье Дарбеда заметил, что она тщательно накрасилась – будто для какого-то торжества. Она подкрасила голубым веки, провела тушью по своим длинным ресницам. Этот сильный и искусный макияж произвел на него удручающее впечатление.
– Под гримом ты совсем зеленая, – сказал месье Дарбеда, – боюсь, как бы ты не заболела. Почему ты стала краситься? Ты ведь всегда была такой скромницей.
Ева не ответила, и месье Дарбеда со смущением рассматривал некоторое время это яркое и изнуренное лицо под тяжелой копной черных волос. Он подумал, что у нее вид трагической актрисы. «Я даже знаю, на кого она похожа. На ту женщину, румынку, которая играла Федру по-французски под стеной Оранжа». Он пожалел, что сделал ей замечание. «У меня это вырвалось! Лучше уж было бы не огорчать ее из-за мелочей».
– Извини, – сказал он, улыбаясь, – но ты же знаешь, что я давний сторонник естества. Терпеть не могу все эти мази, которые современные женщины накладывают себе на лицо. Впрочем, наверно, нужно не отставать от времени.
Ева вежливо улыбнулась. Месье Дарбеда зажег сигарету и сделал несколько затяжек.
– Деточка моя, – начал он, – я предлагаю поболтать, как в добрые прежние времена. Сядь и выслушай меня по-хорошему: нужно доверять своему старому отцу.
– Предпочитаю постоять, – отрезала Ева, – так о чем ты хочешь поговорить?
– Я хочу задать тебе простой вопрос, – сказал месье Дарбеда несколько суше. – К чему все это приведет?
– Все это? – повторила удивленно Ева.
– Да, все, вся эта жизнь, которую ты себе создала. Послушай, – продолжал он, – не считай только, что я тебя не понимаю (внезапно его озарило). Но то, что ты делаешь, выше человеческих сил. Ты хочешь жить только воображением, не так ли? Ты не желаешь замечать, что он болен. Ты не хочешь видеть сегодняшнего Пьера. Твои глаза видят только прежнего, которого уже не существует. Но, доченька моя, твой зарок выполнить невозможно. Слушай, я тебе расскажу сейчас историю, которую ты, вероятно, не знаешь: когда мы отдыхали в Сабль-д’Олонн, тебе было три года, твоя мать познакомилась с очаровательной женщиной, имеющей чудесного сына. Ты играла с этим мальчуганом на пляже, оба вы были от горшка два вершка, но ты считалась его невестой. Какое-то время спустя, в Париже, твоя мать захотела снова увидеть эту женщину; ей рассказали, что с ней случилось ужасное несчастье: ее красивому сыну снесло голову передним крылом автомобиля. Твоей матери посоветовали: «Пойдите, но ни в коем случае не говорите с ней о смерти ее малыша, она не хочет верить, что он мертв». Твоя мать увидела почти обезумевшее создание: она жила так, будто ее мальчик еще существовал; она разговаривала с ним, ставила на стол его прибор. Так вот, она жила в таком нервном напряжении, что через шесть месяцев ее вынуждены были отправить в клинику, где продержали три года. Да, малышка, – сказал месье Дарбеда, качая головой, – за такое тяжко расплачиваешься. Было бы лучше, если б она мужественно признала истину. Конечно, она бы долго страдала, но потом время зарубцевало бы ее рану. Поверь, нет ничего лучше, чем смотреть жизни прямо в лицо.
– Ты ошибаешься, – сказала она с усилием, – я хорошо знаю, что Пьер…
Ева осеклась. Держалась она очень прямо, положив руки на спинку кресла: снизу лицо ее казалось сухим и неприятным.
– А что дальше? – изумился месье Дарбеда.
– Дальше?
– Ты…
– Я его люблю таким, какой он есть, – раздраженно отрубила Ева.
– Но это неправда! – выкрикнул месье Дарбеда. – Это неправда: ты не любишь его, ты не можешь его любить! Такие чувства можно испытывать только к человеку здоровому и нормальному. К Пьеру ты испытываешь сострадание – я в этом не сомневаюсь, и, конечно, ты хранишь память о трех годах счастья, которыми ты ему обязана. Но не говори мне, что ты его любишь, все равно я тебе не поверю.
Ева продолжала молчать и с отсутствующим видом глядеть на ковер.
– Ты могла бы мне ответить, – холодно проронил месье Дарбеда. – Не думай, что этот разговор для меня менее тягостен, чем для тебя.
– Но ты же мне не веришь.
– Ну хорошо, если ты его любишь, – в отчаянии воскликнул он, – это огромное несчастье и для тебя, и для меня, и для твоей бедной матери! Сейчас я скажу тебе то, что я предпочел бы скрыть: менее чем через три года Пьер впадет в состояние полного идиотизма, он будет как животное.
Месье Дарбеда сурово посмотрел на дочь: он сердился на нее за то, что она вынудила его своим упрямством сделать такое мучительное признание.
– Знаю. – Ева не моргнула, она даже не подняла глаз.
– Кто тебе это сказал? – ошеломленно спросил он.
– Франшо. Уже семь месяцев, как я знаю.
– А я-то рекомендовал ему пощадить тебя, – сказал он с горечью. – Но, в конце концов, может, так и лучше. Теперь-то ты должна понять, что было бы непростительно и дальше держать его дома. Борьба, которую ты ведешь, обречена на провал, его болезнь неизлечима. Если бы можно было что-то сделать, если бы его можно было спасти с помощью ухода, я не стал бы этому противиться. Но подумай сама: ведь ты красива, умна, жизнерадостна, а губишь себя упрямо и бесполезно. Ладно, допустим, ты достойна восхищения, но вот все кончено, ты выполнила свой долг, больше, чем долг, и теперь просто нелепо упорствовать. Ведь есть долг и по отношению к самому себе, дитя мое. И потом, ты не думаешь о нас. Нужно, – повторил он, чеканя слова, – чтобы ты отправила Пьера в клинику Франшо. Ты оставишь эту квартиру, где была так несчастна, и вернешься к нам. Если у тебя есть желание быть полезной и облегчать чужие страдания, то у тебя есть мать. За бедной женщиной ухаживают сиделки, и она очень нуждается в заботе. А уж она сможет оценить то, что ты для нее сделаешь, и будет тебе за это бесконечно благодарна.
Наступило долгое молчание. Месье Дарбеда услышал пение Пьера в соседней комнате. Вообще-то это едва ли можно было назвать пением; скорее нечто вроде речитатива, пронзительного и торопливого. Месье Дарбеда поднял глаза на дочь:
– Ну как?
– Пьер останется здесь, – тихо ответила она, – мы хорошо понимаем друг друга.
– И вы будете предаваться своим каждодневным утехам?
Ева бросила на отца странный взгляд, насмешливый и почти веселый. «Значит, это правда, – подумал месье Дарбеда с яростью, – они только этим и занимаются! Они спят вместе!»
– Ты совершенно безумна, – сказал он, вставая.
Ева грустно улыбнулась и прошептала как бы для себя:
– Не совсем.
– Не совсем? Я могу тебе сказать только одно, дитя мое, ты меня пугаешь.
Он поцеловал ее и вышел. «Нужно было, – подумал он, спускаясь по лестнице, – послать сюда двоих здоровенных парней, которые силой увели бы этого бедного кретина и поставили бы его под душ, не спрашивая ни у кого согласия».
Был прекрасный осенний день, прозрачный и безмятежный, солнце золотило лица прохожих. Месье Дарбеда был поражен простотой и открытостью этих лиц; одни были обветренные, другие гладкие, но все они отражали бесхитростную радость и обыденные заботы. «Я точно знаю, в чем упрекаю Еву, – подумал он, выходя на бульвар Сен-Жермен. – Я ее упрекаю в том, что она живет вне всего человеческого. Ведь Пьер больше не человеческое существо: все заботы, всю любовь, которую она ему дает, она отнимает по крупицам у всех этих людей. Никто не имеет права отказываться от себе подобных, черт подери, все мы живем в одном мире».
Он рассматривал прохожих с симпатией; ему нравились их глаза, то серьезные, то лучезарные. На этих освещенных солнцем улицах, среди людей, чувствуешь себя в безопасности, как среди большой семьи.
Какая-то женщина с непокрытой головой остановилась перед витриной. За руку она держала маленькую девочку.
– Что это? – спросила девочка, показывая на радиоприемник.
– Это такой аппарат, – ответила мать, – он делает музыку.
Они немного постояли в молчаливом благоговении. Растроганный, месье Дарбеда нагнулся к девочке и улыбнулся ей.
«Он ушел». Входная дверь закрылась с сухим стуком. Ева осталась в гостиной одна. «Хоть бы он умер».
Она судорожно впилась руками в спинку кресла: вспомнила глаза отца. Месье Дарбеда склонился над Пьером с понимающим видом; он ему сказал: «Это хорошо!» Он на него посмотрел, как человек, умеющий говорить с больными, и Пьер отразился в глубине его больших живых глаз. «Я его ненавижу, когда он смотрит на Пьера, когда думаю, что он его видит».
Руки Евы соскользнули вдоль кресла, она повернулась к окну. Ее ослепило. Комната наполнилась солнцем, оно было везде: бледные пятна на ковре, сверкающая в воздухе пыль. Ева давно уже отвыкла от этого наглого проворного света, который шарил повсюду, проникал во все углы, очищая мебель, делая ее сияющей, как это делает хорошая хозяйка. Она подошла к окну и подняла муслиновую штору против стекла. В то же самое мгновение месье Дарбеда выходил из дома; Ева про себя отметила его широкие плечи. Он поднял голову и посмотрел на небо, моргая глазами, затем зашагал крупными шагами, как молодой человек. «Он делает над собой усилие, – подумала Ева, – сейчас у него заколет в боку». Она его больше не ненавидела: в этой голове было так мало содержимого, всего лишь малюсенькая забота казаться молодым.
Но гнев овладел ею снова, когда она увидела, что он повернул на углу бульвара Сен-Жермен и исчез. «Он сейчас думает о Пьере». Небольшая часть их жизни выскользнула из закрытой комнаты и волочилась по солнечным улицам, среди людей. «Ну разве нельзя, чтобы нас наконец забыли?»
Улица Бак была почти пустынной. Старая дама мелкими шажками переходила мостовую; прошли смеясь три девушки. А потом мужчины, мужчины сильные и серьезные, несущие свои портфели и разговаривающие между собой. «Нормальные люди», – подумала Ева, удивившись, что она обнаружила в себе такую силу ненависти. Миловидная толстушка побежала навстречу элегантному мужчине. Она обняла его и поцеловала в губы. Ева зло засмеялась и опустила штору.
Пьер больше не пел, но молодая женщина со второго этажа села за пианино: она играла этюд Шопена. Ева понемногу успокоилась: она шагнула по направлению к комнате Пьера, но тотчас же остановилась и с некоторой тревогой прислонилась к стене: как всегда, когда она покидала комнату, ее охватывала паника при мысли, что ей нужно туда вернуться. Однако она знала, что не смогла бы жить в другом месте: она любила эту комнату. С холодным любопытством оглядела она, чтобы выиграть время, это помещение без теней и запаха: она ждала, когда к ней вернется мужество. «Можно подумать, что это кабинет дантиста». Кресла из розового шелка, диван, табуретки были строги, скромны и выглядели как-то по-родственному: добрые друзья человека. Ева представила, как некие серьезные господа в светлых костюмах, похожие на тех, что она видела из окна, входят в гостиную, продолжая начатый разговор. Они даже не тратят времени, чтобы осмотреться; уверенными шагами они приближаются к середине комнаты; один из них, державший руку сзади, как кильватер, прикасается при проходе к диванным подушкам, к предметам на столах, даже не вздрагивая при прикосновении к ним. Когда на пути встречается какая-либо мебель, эти степенные люди не дают себе труда обогнуть ее, а спокойно ее передвигают. Наконец они рассаживаются, все еще погруженные в свою беседу. «Гостиная для нормальных людей», – подумала Ева. Она уставилась на круглую ручку закрытой комнаты, и тревога снова стиснула ей горло: «Нужно вернуться туда. Я никогда не оставляла его одного так долго». Нужно открыть эту дверь, затем она остановится на пороге, пытаясь приучить глаза к полумраку, и комната будет выталкивать ее изо всех сил. Необходимо преодолеть это сопротивление и углубиться в самое сердце комнаты. Внезапно Еву охватило неодолимое желание увидеть Пьера; ей хотелось посмеяться с ним над месье Дарбеда. Но Пьеру она была не нужна; она не могла предвидеть прием, который он ей уготовил. Внезапно с некоторой гордостью она подумала, что для нее не было больше места нигде. «Нормальные думают, что я одна из них. Но я не смогла бы оставаться с ними и часа. Мне необходимо жить там, по другую сторону стены. Но там меня не хотят тоже».
Все вокруг нее разом изменилось. Свет как бы постарел, он стал серым: потяжелел, как застоявшаяся вода в цветочной вазе. В этом постарелом свете Ева снова почувствовала меланхолию, о которой она уже давно забыла: меланхолию осеннего послеполудня на исходе. Она посмотрела вокруг, нерешительная, почти робкая: все прочее осталось так далеко. В комнате не было ни дня, ни ночи, ни времени года, ни меланхолии. Она смутно припомнила очень давние осени, осени своего детства, затем внезапно напряглась: она боялась воспоминаний. Тут она услышала голос Пьера:
– Агата, где ты?
– Иду, – отозвалась она.
Потом открыла дверь и вошла в комнату.
Пока она таращила глаза и простирала руки, густой запах ладана заполнил ее ноздри и рот – запах и полумрак были для нее уже давно одной стихией, едкой, поглощающей шум, такой же простой и привычной, как вода, воздух или огонь. Она осторожно продвинулась к бледному пятну, которое, казалось, парило в тумане. Это было лицо Пьера (с самого начала своей болезни он одевался во все черное), одежда его сливалась с темнотой. Пьер откинул голову назад и прикрыл глаза. Он был красив. Ева посмотрела на его длинные загнутые ресницы, затем присела рядом с ним на низкий стульчик. «У него страдающий вид», – подумала она. Мало-помалу ее глаза привыкали к полумраку. Первым всплыл письменный стол, потом кровать, затем его вещи: ножницы, пузырек с клеем, книги, гербарий, лежащие рядом на кресле.
– Агата?
Пьер открыл глаза и с улыбкой взглянул на нее.
– Насчет вилки, – сказал он. – Я это сделал, чтобы испугать того типа. В ней почти ничего не было.
Опасения Евы улетучились, и она легко засмеялась.
– Тебе это очень хорошо удалось, – сказала она, – ты его ошеломил.
Пьер улыбнулся.
– Ты видела? Он ее какое-то время вертел, зажав в кулаке. Они не умеют брать вещи, они всегда сжимают их в кулаке.
– Это верно, – согласилась она.
Пьер слегка ударил ладонь левой руки указательным пальцем правой.
– Вот этим они их берут. Они приближают свои пальцы, и когда они хватают предмет, то зажимают в ладони, чтобы его убить. – Он говорил быстро, кончиками губ, вид у него был озадаченный. – Я спрашиваю себя, чего они хотят, – сказал он наконец. – Этот тип уже приходил. Почему его снова ко мне подослали? Если они хотят знать, что я делаю, они могут увидеть это на экране, им даже не нужно никуда идти. Они совершают ошибки. Я же не ошибаюсь, это мой главный козырь. Оффка, – сказал он, – оффка, – длинными своими руками он пошевелил у лба. – Сволочь! Оффка, паффка, суффка. Хочешь еще?
– Это колокол? – спросила Ева.
– Да. Он ушел? – продолжал Пьер сурово. – Этот тип их сподручный. Ты его знаешь, ты ходила с ним в гостиную.
Ева не ответила.
– Что ему надо? – спросил Пьер. – Он должен был тебе это сказать.
Она на мгновение заколебалась, затем ответила без обиняков:
– Он хочет, чтобы тебя заперли.
Когда Пьеру говорили правду спокойно, он не верил, нужно было ее выпалить разом, чтобы оглушить его и парализовать сомнения. Ева предпочитала вранью грубую прямоту: когда она ему врала и он вроде бы ей верил, Ева не могла удержаться от легкого ощущения превосходства, а потом сама себе ужасалась.
– Меня запереть! – иронически процедил он. – Да они рехнулись. Стены передо мной бессильны. А эти болваны думают, что стены меня остановят. Мне кажется, что есть все-таки две банды. Банда негра – основная, но есть еще банда самозванцев, которая пытается вмешиваться в игру, но совершает ошибку за ошибкой. – Он вздернул руку на ручку кресла и стал ее разглядывать. – Стены я пройду легко. Что ты ему ответила? – спросил он с любопытством.