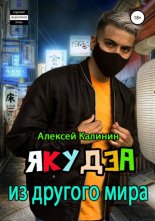Ничего кроме надежды

– Вот вам и переводчица, – сказал кто-то негромко.
И сразу – словно только и ждали этих слов – заговорили все, громко и возбужденно, как обычно говорят люди, только что пережившие сильный испуг. Высказывали разные предположения, вспоминали не совсем обычную историю появления Вали в эшелоне; действительно, тут было много загадочного, просто на это раньше не обратили внимания. Она появилась в вагоне уже на пути сюда, когда их везли из Рейнхаузена, и (кто-то это теперь припомнил) попросила сказать, в случае чего, что была вместе с ними уже в пересыльном лагере. Вероятно, откуда-то бежала и присоединилась к ним, чтобы замести следы. А может быть, она была разведчицей?
В эту ночь Таня долго лежала без сна. Валю, несомненно, арестовали за какие-то старые грехи: здесь, в лагере, она едва ли занималась чем-либо противозаконным. Теперь стало понятным и ее странное появление, ее всегдашняя замкнутость. Она никогда не рассказывала о себе, и в седьмой комнате, где все знали более или менее все друг о друге, переводчица была единственным исключением. И еще, разумеется, Таня.
Лагерь, в сущности, оказался западней. Тане почему-то никогда не приходила в голову простая мысль: гестапо не может не проверять постепенно всю эту огромную массу восточных рабочих, скопившуюся в трудовых лагерях. Было бы просто нелепостью, если бы оно этим не занималось! Ведь среди остарбайтеров могут быть и разведчики; сегодня, чтобы заслать человека в Германию, не нужны ухищрения, ему достаточно проникнуть на оккупированную территорию и в первом же городе зарегистрироваться на бирже труда. Когда рабочую силу гонят в рейх эшелон за эшелоном, проверять каждого трудмобилизованного нет никакой возможности; конечно, проверка производится потом, уже по прибытии на место, – в гестапо получают копии лагерных списков, сличают имена, фотографии на кеннкартах, отпечатки пальцев…
Очевидно, Валю за что-то разыскивали, разыскивали не один месяц, пока не обнаружили здесь, в лагере «Шарнхорст-Шуле». Но ведь и ее – бывшую сотрудницу Энского гебитскомиссариата – тоже не могут не разыскивать! Не может быть, чтобы тамошняя служба безопасности, узнав о ее побеге как раз в день отправки эшелона, не сделала соответствующих выводов. Вероятнее всего, начальник кадров гебитскомиссариата давно уже направил куда следует ее личное дело – с фотографиями, описанием особых примет и всем прочим. Значит, вопрос теперь только в сроках.
Из лагеря надо бежать, и бежать немедленно. Но как? Валерка прав – отсюда, из Рура, до польской границы не добраться. Нечего и пробовать. Но и оставаться здесь нельзя.
Аня Кириенко, спящая на верхней койке, заворочалась и пробормотала что-то во сне. Вот уж действительно, у каждого свои заботы! Этой дурище дают возможность покинуть лагерь, а она еще ревет. Деревенская жизнь ей, видите ли, не нравится.
И тут вдруг пришло решение – само по себе пришло, такое простое, что Таня даже тихонько присвистнула и села на постели, обхватив руками коленки. Как она сразу не догадалась!
Через несколько минут план был обдуман во всех деталях. Надо только, чтобы инициатива исходила не от нее. Совпадение может показаться подозрительным – арест переводчицы и внезапно возникшее у номера 2316 желание убраться из лагеря. Нет, пусть к коменданту идет сама Кириенко. Пусть она скажет, что умолила и упросила одну свою приятельницу ехать вместо нее, что сама она так привязалась к своей старой и беспомощной хозяйке, что не может оставить бедную старушку без привычного ухода. И пусть хорошенько перед ним поревет – она хорошо это умеет, а комендант совершенно не переносит слез. Пусть поревет погромче, и тогда он по обыкновению схватится за голову и закричит: «Ну ладно, ладно, делайте что хотите, ну вас всех к черту!» Утром она поговорит с этой любительницей городской жизни – уверена, что та клюнет сразу.
Но утром поговорить с Кириенко не удалось. Та исчезла из лагеря раньше обычного, верно, побежала прощаться к своей старухе, а вечером весь Танин план, так хорошо продуманный, лопнул как мыльный пузырь. Перед ужином (Кириенко еще не вернулась) в седьмую комнату заглянул парень из соседней, «холостяцкой», нашел взглядом Таню и поманил пальцем. Недоумевая, Таня вышла на лестничную площадку.
– Слышь, сестренка, какое дело, – сказал парень. -Тут ребята просили с тобой поговорить. Ты немецкий хорошо знаешь?
Таня готова была уже сказать, что вовсе не знает немецкого, но что-то ее удержало: очень уж непривычно-серьезным тоном говорил парень из восьмой комнаты, обычно они с ней балагурили, норовили ущипнуть, шлепнуть.
– Немецкий? Да так себе, – ответила она осторожно. – А что?
– Да понимаешь… Валя была хорошая девчонка, а кого теперь пришлют – неизвестно. Среди этих переводчиков такие бывают суки – страшное дело. Мы с ребятами и подумали…
– Что вы подумали?
– Ну, Валя говорила, что ты вроде шпрехаешь по-ихнему. Подойди к коменданту, заговори с ним, может, он сам тебя оформит как переводчицу…
– Зачем это мне? – возразила она испуганно. – Ты что!
– Тебе-то, может, и незачем, – согласился парень. – А лагерю это еще как нужно. Нам всем нужно, могла бы и сама сообразить.
– Мало ли что вам нужно! А мне нужно дожить до конца войны, ясно? Нашли себе козу отпущения!
– Ладно, кончай сопли распускать. Насилуют тебя, что ли? Валя тебе хорошую давала характеристику, поэтому мы и решили. Что ж, ошибочка вышла! Кому ты такая нужна, еще в комсомолках небось ходила…
Глянув на нее с презрением, парень ушел в восьмую комнату, хлопнув дверью. Таня осталась стоять на площадке, прикусив кулак. Да что же это такое в самом деле, до каких пор ей будут навязывать героические роли! Там Леша давил на нее могучим авторитетом комсорга: «Нам позарез нужен свой человек в комиссариате…» И этот в небесных подштанниках теперь туда же! Ну, это дурой надо быть, просто дурой, чтобы вот так – самой – лезть на рожон, подставляться под проверку… И почему обязательно ей? Без нее, что ли, не обойдутся, обходились же до сих пор. До сих пор, правда, была Валя. А если и в самом деле пришлют какого-нибудь фольксдойча? Иной раз от переводчика больше зависит, чем от коменданта, в этом они правы…
Таня заметила вдруг, что плачет, поспешно достала платок, вытерла глаза и долго, с отчаянием, сморкалась. Все-таки простыла, наверное, прав был конопатый. Подойдя к двери с цифрой «8», она громко забарабанила в филенку кулаком. Кто-то выглянул, спросил, чего надо.
– Позовите того, который сейчас со мной говорил, -сказала она, – да поживее!
Тот вышел, глянул на нее неприязненно:
– Ну?
– А ты не нукай! – Таня вдруг озлилась. – Вот что: если я стану переводчицей, может получиться так, что в один прекрасный день мне надо будет отсюда смываться. Вы в таком случае поможете?
– Чем?
– Ну, я не знаю – в другой лагерь перебраться хотя бы. Ты сказал: «Мы с ребятами подумали». У вас что, комитет какой-нибудь есть? Значит, и возможности должны быть.
– Там поглядим, если до этого дойдет, – ответил парень неопределенно. – Обещать, сама понимаешь, ничего не можем.
– Да уж понимаю! Обещать никто из вас ничего не может, вы только призывать умеете. Ладно, завтра поговорю с комендантом…
На следующее утро, когда лагерники не спеша строились на аппельплацу, она подошла к Фишеру. Тот был явно в дурном настроении, с непонимающим видом листал списки и сердито бормотал что-то себе под нос.
– Прошу меня извинить, герр лагерфюрер, – сказала она непринужденным тоном, копируя берлинское произношение своей комиссариатской начальницы фрау Дитрих. – Могу я обратиться с небольшой просьбой?
– Валяй, выкладывай, – буркнул тот, не глядя на нее.
– Я была бы вам так признательна, если бы вы сегодня разрешили мне не идти на общие работы. Дело в том, что вчера я растерла ногу, а эти деревянные башмаки…
– Знаю, знаю, кожаные были бы удобнее, согласен. Черт с тобой, иди мыть котлы, кофе сегодня смердит хуже обычного, уж не крысу ли вы там сварили, с вас станется…
Тут он вдруг уставился на нее ошалело, разинув рот.
– Постой, постой! Ты что – говоришь по-немецки?
–О, в весьма ограниченном объеме, герр лагерфюрер, – скромно ответила Таня. – Словарный запас, вы понимаете…
– Ничего не понимаю! Как ты здесь очутилась, дочь сатаны? Ты что – народная немка?
– Нет, нет, я русская, но мы в школе учили немецкий…
– Так какого же черта ты до сих пор молчала?! – заорал Фишер. – Herrgottverdammtkruzifixnochmal!11 Вторые сутки – с тех пор как эти мерзавцы забрали Фалентину – я объясняюсь на пальцах, как глухонемой кретин, а эта ослица разгуливает тут с невинным видом! Словарный запас у нее, видите ли, мал! Я тебе такой словарный запас покажу, что ты неделю не сядешь! Ты что, не знала, что мне нужна переводчица? Марш в контору – в аптечке найдешь лейкопласт, заклей что там у тебя растерто, и – немедленно обратно! Нам еще надо распределить людей по группам, а уже почти семь. Живее, я сказал!
Глава пятая
К исполнению своих новых обязанностей Таня приступила с неохотой и даже страхом. Известные привилегии, на которые она теперь имела право, не компенсировали опасности, неизбежно связанной с положением лагерной переводчицы. Вместо того чтобы оставаться одним из нескольких сотен безликих «номеров», она торчала теперь на самом виду, привлекая к себе общее внимание – только этого ей и не хватало!
Она очень испугалась, когда несколько дней спустя Фишер спросил, печатает ли она на машинке; поспешила ответить, что нет, откуда же, где ей было научиться… «Жаль, – сказал комендант, – у меня тут чертова куча всякой писанины. Ты бы поучилась в свободное время, переводчица должна быть немного секретарем». Таня послушно начала учиться, но показала себя такой неспособной, что коменданту пришлось отказаться от мысли обзавестись секретаршей. Может быть, это было простым совпадением, а не проверкой?
Она была избавлена от физического труда, но свободного времени оставалось даже меньше, чем когда вкалывала в «шарашкиной команде». Приблизительно треть лагерного населения не имела постоянного места работы, и каждый день их направляли то туда, то сюда, в зависимости от разовых заявок на рабочую силу, а это означало, что Тане приходилось каждый вечер допоздна сидеть над списками и бланками заявок, решая, кого куда послать. Убедившись, что переводчица справляется, комендант вмешиваться в эти дела скоро перестал, и лагерники теперь не давали ей проходу своими жалобами и просьбами – почти всегда обоснованными, но не всегда выполнимыми.
Много хлопот доставляли сектанты из шестой комнаты. Они отказывались ходить в баню, отказывались носить номерные жетоны, отказывались обращаться к врачу в случаях заболеваний, иногда отказывались даже работать – у них был какой-то свой особенный календарь, где определенные дни полагалось проводить в посте и молитве. Никакие попытки договориться ни к чему не приводили – Таня понимала, что кончится это плохо, но была совершенно бессильна что-нибудь сделать.
С середины декабря участились воздушные тревоги. Теперь почти каждый вечер, около десяти часов, по всей округе начинали орать сирены. Одна, какая-то особенно мощная, была установлена на крыше соседнего здания: включаясь, она издавала вначале хриплый, необычайно низкого тона бычий рев, который повышался по мере того, как набирал обороты ее диск. Раскрутившись, сирена вопила пронзительно и исступленно, так что звенели оконные стекла, потом стихала, потом опять набирала силу. От одного этого воя можно было рехнуться.
Во время воздушной тревоги населению лагеря полагалось находиться в подвале, приспособленном под бомбоубежище; сигнал отбоя давали обычно уже за полночь, и эти три-четыре часа страха и ожидания в плохо вентилируемом, до отказа набитом бункере изматывали людей больше, чем самая тяжелая работа.
Самолеты пролетали, не сбрасывая бомбы. Их цели лежали пока восточнее – Бремен, Ганновер, Магдебург, Берлин. Но этого никто не знал заранее, и каждую ночь можно было ожидать, что бомбы снова посыплются на Рур, как весной этого года. О майских бомбежках лагерные старожилы вспоминали с ужасом, да Таня и сама уже несколько раз побывала в Эссене, своими глазами видела целые кварталы, превращенные в щебень взрывами «воздушных торпед», дотла выжженные фосфором и термитом.
Рур сильно пострадал, но он еще работал, еще дымили бесчисленные трубы, каждую ночь небо полыхало багровыми заревами мартенов, выдающих плавку за плавкой, круглосуточно вращались колеса шахтных подъемников, работали прокатные, кузнечно-прессовые, инструментальные, сборочные цеха бесчисленных заводов. Но что все это было обречено, понимал всякий. Вопрос был лишь в сроках.
Таня тоже это понимала, но почему-то не испытывала особого страха. Два года назад (неужели прошло только два года?), дома, после той памятной бомбежки, ее бросало в дрожь от одного звука летящего самолета. А сейчас страха почти не было, хотя опасность возросла стократно. Та бомбежка покажется детской забавой в сравнении с тем, что произойдет здесь; в лагере были люди из Гамбурга – его этим летом сожгли за одну неделю, погибших было больше сорока тысяч. Таня думала об этом почти равнодушно. Чему быть – того не миновать.
В один из вечеров, когда тревога застала ее за работой в лагерной канцелярии, она решила не идти в убежище. Проревели и замолкли сирены, затих топот бегущих по лестницам; Таня выключила свет, подняла маскировочную штору и распахнула окно. Промозглая ледяная сырость декабрьской ночи хлынула в комнату. Зябко обхватив плечи руками, Таня стояла долго, всматриваясь и прислушиваясь. Начали вспыхивать прожектора – она увидела два, потом еще три, потом их стало уже слишком много, чтобы сосчитать; размытые туманом голубоватые световые столбы обшаривали черное небо, качались влево и вправо, перекрещивались, сходились в пучки и расходились. Стало светлее, на фоне их призрачно колеблющегося зарева обозначались угольно-черные ломаные очертания крыш.
Где-то далеко впереди уже мерцали в туманной мгле тусклые короткие вспышки – это вели огонь зенитные батареи западнее Эссена; вспышки приближались, стал слышен далекий еще грохот орудий и почти одновременно – гул самолетов.
Таня почувствовала инстинктивное желание бежать и отступила от окна, но заставила себя остаться на месте. Еще никогда в жизни не слышала она ничего подобного этому чудовищному звуку, заполнившему, казалось, все небо от горизонта до горизонта; тысячи моторов мрачно и торжествующе ревели сейчас у нее над головой, в черной ледяной вышине, исполосованной прожекторами и словно кипящей огненными пузырями зенитных разрывов. На полнеба расплескивая кровавые зарницы, с резким железным грохотом ударили пушки больших калибров, установленные в окрестностях, у Гельзенкирхена и Ваттеншайда. А англичане летели дальше – теперь уже было ясно, что и в эту ночь на их штурманских картах обозначены другие цели.
Захваченная жутким спектаклем, Таня не услышала, как за ее спиной отворилась дверь. Когда вошедший комендант окликнул ее, она вздрогнула от неожиданности.
– Почему не в бункере?! – крикнул он, подойдя.
– Там очень душно! – ответила Таня, стараясь перекричать всю эту вакханалию звуков. – Я думаю, здесь они не будут бросать! Летят дальше!
Комендант закрыл окно и опустил штору. В комнате стало потише. Не включая света, он присел на край стола и закурил.
– Да, здесь не будут, – сказал он. – Сейчас они бомбят Кассель, а вторая волна пошла дальше – в направлении Лейпциг, Галле.
– Уже было сообщение?
– Только что – «тяжелый террористический налет». Ты, надо полагать, чувствуешь глубокое удовлетворение?
– Нет, – сказала Таня, помолчав. – Я сама была однажды под бомбежкой, правда, не такой тяжелой.
– Где это было?
– У меня дома, в России.
– Тогда тем более! Своими глазами видишь, как приходит справедливое возмездие, не правда ли?
– Может быть, но ведь умирают не те, кто виноват…
– О, я знаю, у тебя всегда готов ответ. И кто же виноват, по-твоему?
– Я думаю, – убежденно ответила Таня, – что в этой войне виноваты масоны, евреи, всякие плутократы, я хочу сказать.
– Ах, плутократы! Ну-ну. Но может быть, и нам – немцам тоже хотелось немножко повоевать, а? Может быть, нам действительно не хватало пространства?
Комендант включил настольную лампу и теперь испытующе смотрел на Таню, ожидая ответа. Разговор становился опасным.
– Я не знаю, – сказала Таня, пожав плечами. – Разрешите, я пойду вниз?
– Подожди-ка, – сказал комендант. – Ты мне не ответила! Так как насчет жизненного пространства? По-твоему, это выдуманная проблема для нас, немцев?
– Но ведь таким путем ее все равно не решить, правда? Жизненного пространства у вас все равно не прибавится, я думаю.
Комендант усмехнулся.
– Это ты думаешь теперь, когда мы проигрываем войну. Год назад, когда мы были на Волге и на Кавказе, ты так не думала. И никто не думал! Это чепуха – все эти разговоры о виновности и невиновности. Не знаю, как насчет плутократов, но в этой стране войны хотел весь народ. Слышишь? Весь без исключения! Партия никогда не скрывала своей программы, она выступила с нею совершенно открыто, она открыто готовила немцев к войне за жизненное пространство. И немцы с радостью готовились! Так что бремя ответственности за случившееся несут все. В том числе и те, кто в эти минуты сгорает живьем от английского фосфора. Единственно, кто действительно не виноват, это дети. Детей жаль. Это страшно, когда маленькие умирают под бомбами, страшнее нет ничего. Но может быть, им все-таки лучше умереть сейчас, чем потом пережить то, на что Германия себя обрекла… Ну что ты смотришь на меня своими загадочными славянскими глазами? Забудь все, что я наговорил, проверь маскировку и ступай в бункер, нечего здесь торчать. Они могут сбросить остаток бомб на обратном пути.
На немецкое Рождество окончательно установилась зима. Выпал снег, стояли ясные солнечные дни с легким морозцем. Жизнь в лагере «Шарнхорст» шла без изменений – каждое утро люди вставали по сигналу побудки, дежурные таскали бачки с эрзац-кофе, резали хлеб -буханку на четверых, раздавали «цулагу»12 – иногда это был маргарин, иногда мармелад, иногда конская колбаса – каждая порция размером с половину спичечной коробки. Позавтракав и намотав на себя все, что можно, лагерники выходили на аппель-плац, где в морозном тумане тускло светились синие фонари вдоль опутанного колючей проволокой забора. До вечера здание затихало, только штубендинсты13 мыли полы, драили лестницы и площадки, разносили по комнатам суточные порции угля. Следить за всем этим тоже входило в Танины обязанности, но она своим правом надзора не злоупотребляла, и днем ей иногда удавалось выкроить два-три свободных часа, чтобы постирать или поштопать, а то и почитать что придется. В немецких журналах недостатка не было – почти каждый вечер кто-то из обитателей седьмой комнаты приносил какой-нибудь «Иллюстрирте», кельнский, или берлинский, или мюнхенский. Было в комнате и несколько зачитанных до дыр книг, прихваченных кем-то еще из дома, – «Боги жаждут», «Разгром», несколько старых русских романов и даже изданная в Риге приключенческая повесть некоего Солоневича, густо-антисоветская, но довольно занятно написанная. Комендант против чтения вообще не возражал; он только предупредил Таню, что, если в лагере будет обнаружена хоть одна советская книга, то ей – переводчице – определенно несдобровать. А то, что лагерники читают Золя, он далее одобрил: «Разгром», по его мнению, надолго прославил прусскую победу под Седаном.
– Содержащиеся в книге выпады против немцев следует отнести за счет шовинистических настроений автора, – разъяснил он. – Было бы странно, напиши француз иначе.
Когда Таня спросила, относится ли к числу запрещенных авторов Анатоль Франс, он поморщился.
– Вообще – безусловно, – сказал он. – Но «Боги» пусть остаются, там ярко изображены преступления якобинской революции.
– А почему вообще Франс у вас запрещен?
– Немецкому мировоззрению чужд его ядовитый скептицизм, поэтому нам Франс не нужен.
– Простите, я не поняла, – сказала Таня. – Зачем запрещать то, что чуждо? Если вы перед собакой положите охапку сена, то излишне говорить ей «нельзя», потому что она и без всякого запрещения его не тронет. Другое дело, если это кусок мяса, которого она давно не ела…
– Послушай-ка, переводчица, – сказал комендант. – Я давно заметил, что язычок у тебя хорошо подвешен, но он гораздо длиннее, чем рекомендуется в наше время. Поэтому держи его за зубами, если не хочешь разделить печальную участь твоей предшественницы…
Подошел Новый год. Вечером тридцать первого лагерники получили «праздничный паек» – дополнительный хлеб, колбасу, семейным с маленькими детьми выдали по три штучки какого-то печенья на сахарине; гемюза, привезенная в этот вечер, была вполне съедобна и даже попахивала мясом – очевидно, ее заправили бульонным экстрактом. После ужина в бывшем актовом зале, убранном еловыми ветвями и гирляндами бумажных флажков, начался небольшой концерт силами лагерной самодеятельности – в программе были украинские и русские народные песни, несколько сольных номеров на губной гармонике, фокусы, показанные бывшим иллюзионистом из какого-то периферийного цирка, подвизающимся сейчас в «шарашкиной команде».
Комендант, против обыкновения принаряженный, в черном костюме с партийным значком на лацкане, сидел в первом ряду рядом с Таней, после каждого номера аплодировал и удовлетворенно говорил: «Schn, schn»14. Когда концерт окончился, он поднялся на эстраду, поздравил лагерников с наступающим Новым годом и пожелал всем мира и победы. Чья победа имелась в виду, Фишер не уточнил.
– Зайди потом в канцелярию, – сказал он Тане, когда люди стали расходиться по комнатам.
Когда она зашла в канцелярию, комендант сидел за своим столом под портретом Гитлера, на столе стояла бутылка, две эмалированные кружки. Занят был Фишер обычным делом, за которым Таня часто его заставала: препарировал очередную порцию принесенных лагерниками окурков. Найти на тротуаре окурок было большой удачей, за ними охотились и немцы из цивильных, но у военных бросить не до конца докуренную сигарету считалось особым шиком, потому улов – хотя и небольшой – был, и некурящие либо выменивали добычу, либо сдавали коменданту. К регулярным своим поставщикам он был особенно благосклонен и обычно назначал на более легкие работы, связанные с пребыванием на свежем воздухе.
Внимательно исследовав окурок, Фишер вскрывал его лезвием безопасной бритвы, осторожно отделял обгоревшие частицы начинки, а сохранившийся табак так же бережно ссыпал в баночку.
– Да, да, это не очень гигиенично, согласен, – сказал он, заметив, с каким отвращением Таня наблюдает за его работой. – Но если куришь в трубке, ничего страшного – при сгорании все обеззараживается… Ладно, доделаю завтра, на сегодня хватит.
Убрав недорезанные окурки в ящик стола, он сжег в пепельнице оставшиеся от выпотрошенных обрывки папиросной бумаги, тщательно вымыл руки и вернулся к столу.
– А теперь можно и попраздновать, – он указал на бутылку и уважительно поднял палец: – Шнапс! Настоящий шнапс, понимаешь? Большая ценность по нынешним героическим временам. Сейчас мы с тобой выпьем за Новый, тысяча девятьсот сорок четвертый год, но сначала я хочу сделать тебе маленький презент…
Он полез в карман и достал флакончик духов.
– Держи, переводчица, – сказал он, протягивая ей подарок. – Здесь, в лагере, тебе не до всяких таких штучек-дрючек, но восприми это символически – как залог лучшего будущего. Духи, конечно, дрянь, эрзац какой-нибудь, я не эсэс-группенфюрер, чтобы дарить парижские. Зато от души!
– Спасибо, господин Фишер, я искренне тронута.
– И заметь – без всякой задней мысли. Я ведь не пытался склонить тебя к сожительству?
– Нет, насколько я могла заметить.
– О, уж это ты бы заметила! Фишер был когда-то малый не промах, что верно, то верно. Правда, никогда не позволял себе использовать для этих целей служебное положение. Тем более в данной ситуации! Так что, переводчица, за свою невинность можешь не опасаться. – Он подмигнул и разлил шнапс но кружкам. – Прозит!
Таня, держа флакончик в кулаке, подняла кружку и сделала глоток. Шнапс оказался невероятно противным на вкус, она не удержалась от гримасы. Фишер, спохватившись, достал из стола пакет в вощеной бумаге.
– Совсем забыл – я тут организовал тебе пару бутербродов, съешь, а то станет плохо.
Она взяла, стала жевать – машинально, не разбирая вкуса, шнапс уже ударил в голову, и ей пришлось сделать усилие, чтобы понять то, что говорил Фишер.
– …быть благоразумной и держать язык за зубами – вот все, что от тебя требуется, – говорил он, – иначе ты просто не доживешь до конца этого великогерманского свинства. А оно кончится рано или поздно, надо только уметь дождаться… Ты помнишь, мы как-то говорили о французской революции – ну, ты меня спросила насчет Анатоля Франса. Так вот, был такой аббат именем Сийес, современник Дантона, Робеспьера и прочих умников. Любил побаловаться политикой, был депутатом Национального собрания, даже одно время его президентом, но при терроре вел себя тихо и от гильотины ускользнул… как ни странно, да. Потом снова ожил, побывал послом у нас, в Берлине, консулом при Бонапарте, ну и так далее. Так я это к чему? Сийеса однажды спросили – что он делал во время террора? Он пожал плечами и ответил: «Я жил». Запомни эти гениальные слова, переводчица. Ибо бывают в истории эпохи, когда от мудрого человека требуется одно – выжить. Хотя я далек от мысли причислять тебя к мудрым людям, ты скорее хитра, это нечто иное, но Бог с тобой, я искренне хотел бы, чтобы ты выжила. И даже готов за это выпить. Прозит!
– Спасибо, – отозвалась она едва слышно, через силу допила шнапс и поставила кружку на стол. – Не наливайте мне больше, я не могу…
– Больше я тебе и не предлагаю, еще чего, остальное выпью сам. А ты ешь, ешь!
Странно, от бутерброда почему-то пахло духами. Ах да, подарок… Флакончик был все еще зажат у нее в кулаке, она поднесла его к носу, понюхала – запах немного походил на «Красную Москву». Таня крепко зажмурилась и, уронив на колени флакончик и недоеденный бутерброд, беззвучно заплакала.
А наутро проснулась совершенно больной – трещала голова, от одной мысли о еде мутило. К счастью, день был нерабочий, по случаю Нового года лагерников не погнали даже на обычные воскресные работы по разгрузке вагонов. В седьмой комнате было тихо, часть обитателей уехали в Эссен, получив увольнительные до вечера, другие отсыпались.
Таня заставила себя встать, запила таблетку аспирина горьким остывшим кофе и снова легла, задернув занавеску у своей койки, – чтобы никого не видеть и не слышать. Головная боль стала понемногу утихать. Из соседней комнаты – восьмой, «холостяцкой» – слышалось пение под гармошку – хлопцы, видимо, изрядно хватившие вчера технического спирту, без зазрения совести горланили советские песни – «Катюшу», «Спят курганы темные». Да ну их, подумала Таня, пусть себе поют, едва ли в такой день может оказаться в лагере какой-нибудь немецкий чин со стороны. А Фишеру на такие дела плевать, его можно не опасаться.
Доорав про парня, который вышел в степь донецкую, хлопцы с еще большим воодушевлением затянули «Любу-Любушку». Таня, постанывая от ломоты в висках, осторожно повернула голову на подушке, увидела рядом давешний флакончик и опять понюхала, закрыв газа.
«Нет на свете краше нашей Любы» – это лето сорокового года, неутомимые рупоры громкоговорителей на сочинском пляже, горячая шершавая галька и блещущее море до самого горизонта, это непонятные Дядисашины разговоры с соседями по столу – Дюнкерк, Гудерьян (она однажды спросила, кто это, и очень удивилась, как армянин стал немецким генералом), танковые клещи, окружение – все то, что вошло в общеразговорный язык годом позже… А потом грохот колес, мчавших ее домой в Энск, к Сереже, плавное кружение золотых, уставленных скирдами, полей за широким пыльным окном международного вагона, запах духов и паровозного дыма в лакированной, бархатно-зеркальной кабинке купе, и она сама, шестнадцатилетняя, замирающая от ожидания встречи и от мысли, что у нее не хватит денег расплатиться с проводником…
Для нее эта старая простенькая мелодия – тот вечер первого сентября, обрывки музыки с танцплощадки, звезды в вершинах серебряных от луны тополей, и твердое Сережино плечо, и стук его сердца, и их торопливые поцелуи. Это – вся та ночь, промелькнувшая как одна секунда, прохладный голубоватый рассвет на проспекте Фрунзе, пустые трамваи и пустая гулкая лестница в спящем еще Доме комсостава, тихое, словно замершее в ожидании чуда, первое утро их любви.
А «Катюшу» – точно так же, с такими же рыдающими переборами, – выводила в толпе гармонь там, на сортировочной, в те последние страшные минуты, когда уже не было ни слов, ни мыслей, ничего, кроме леденящего сознания наступившей в мире пустоты. Когда уже никакими поцелуями, никакими объятиями нельзя было удержать его, стоявшего перед нею в солдатской одежде, в пилотке и гимнастерке с коротковатыми, не по росту рукавами. «Выходи-и-ла на берег Катю-у-ша!» – пели в вагонах, а вагоны шли быстрее и быстрее, громыхая на стыках и обгоняя бегущих, и она бежала вместе с другими, спотыкаясь, ослепнув от слез и не видя ничего, кроме огромного закатного зарева впереди, там, куда убегали, обгоняя ее, красные громыхающие вагоны…
Все это было ее прошлым, а прошлое было частью ее самой, оно определяло ее настоящее и, вероятно, ее будущее. Что ей могла дать спасительная «мудрость» аббата Сийеса!
Конопатый орловец Валерка подстерег ее на лестнице поздно вечером, когда она возвращалась к себе из канцелярии.
– Тань, ты в воскресенье сможешь съездить в Эссен? – спросил он вполголоса, поднимаясь вместе с нею. – Там один парень хочет тебя видеть…
Таня остановилась.
– Какой парень? – спросила она, изумленно глядя на своего бывшего сподвижника по «шарашкиной команде», которого ей удалось вытащить оттуда и устроить на постоянную работу в Эссен, в какую-то деревообрабатывающую мастерскую.
– Наш, остовец, – он про тебя спрашивал, это в том лагере, откуда нам гемюзу возят, знаешь?
– Гемюзу нам возят из «Фридрихсфельда». А ты что там делал? И почему этот парень обо мне спрашивал?
– Да я почем знаю! Мы там работаем, от мастерской, бараки ремонтируем. С самого Нового года. Он вчерась подошел и спрашивает, с какого мы лагеря. А я говорю – со Штееле. Он говорит – это что в школе или что в бараках? Я говорю – в школе. Он тогда спрашивает, как, мол, у вас зовут переводчицу, не Татьяной ли…
У Тани перехватило дыхание.
– Как он выглядит? – шепнула она, боясь поверить догадке.
– Да так, – Валерка неопределенно пожал плечами, – вроде рыжеватый. А лицо такое корявое, вроде бы от оспы. Ростом невысокий, с меня будет, только поширше.
– Ну, хорошо, – сказала Таня разочарованно. – Так зачем я ему понадобилась?
– А он не говорил. Сказал – спроси, мол, у нее, сможет ли взять в воскресенье увольнительную, часа в три. Нужно, мол, поговорить. И если сможет, чтоб передала, где будет.
– Я могу, конечно… но только нужно заранее спросить у коменданта, а сейчас он уже ушел. Завтра я спрошу и вечером передам тебе, а ты послезавтра ему скажешь. Сегодня среда? Ну вот, это будет как раз пятница, успеешь…
На следующий день она сказала Фишеру, что хочет в воскресенье съездить в Эссен, и попросила дать увольнительную сразу, чтобы потом не забыл. Тот не стал возражать.
– Только никаких кино! – заявил он, прихлопнув лагерной печатью заполненный бланк. – Попадешься – я тебя выручать не стану.
Таня заверила его, что в кино не пойдет.
– В таком случае, переводчица отправляется на свидание? Что ж, война войной, а любовь любовью. Духи, я вижу, пригодились раньше, чем я предполагал?
– Так точно, господин комендант, – Таня улыбнулась. Вечером она сказала Валерке, что в воскресенье в три часа будет у главного вокзала, где «Дом техники».
– А как он меня узнает? – спросила она. – Ты вот что – скажи, что у меня в левом кармане будет торчать русская газета. «Новое слово» – знаешь?
– Знаю, – снисходительно ответил Валерка. – Читал я эту брехаловку. В левом, говоришь? Ладно, я передам.
По мере того как приближалось воскресенье, ее волнение все росло. Кому и зачем она могла понадобиться? Неужели кто-нибудь из Энска?
Когда пришел долгожданный день, она так торопилась, что не рассчитала времени и приехала на вокзал Эссен-главный почти за час до назначенного срока. Был тусклый январский день, медленный снег беззвучно ложился на мокрый асфальт, тут же превращаясь в слякоть под ногами прохожих. Поглядывая на часы, Таня обошла всю привокзальную площадь до отеля «Хандельс-хоф» и назад к виадуку, порассмотрела витрины, постояла у журнальных киосков. Без четверти три она уже стояла на условленном месте, на углу у многоэтажного, полностью выгоревшего изнутри кирпичного остова с уцелевшими наверху огромными буквами «Haus der Technik».
Она прождала десять минут, двадцать, полчаса – никто не шел. С железнодорожных путей, расположенных, как во всех здешних вокзалах, на втором ярусе, доносился гул проходящих поездов, свистки, удары колокола. Пришел, очевидно, поезд дальнего следования – из вокзального подъезда повалил народ, солдаты-отпускники с винтовками, чемоданами и рюкзаками, прошла шумная толпа бородатых моряков в черных шинелях. Таня, уже порядком озябшая в своем легком пальтишке (тоже подарок коменданта), с любопытством посматривала на прохожих – в лагере отвыкла от новых впечатлений. Словно завороженная, проводила она взглядом нарядную и ослепительно красивую женщину, вышедшую из вокзала с небольшим крокодиловой кожи чемоданчиком в руке. Приезжая была явно иностранкой – темные, красиво причесанные волосы, синее широкое пальто необычного покроя, легкие туфельки на остром французском каблуке – все это сразу выделяло ее из толпы немецких женщин, которые никогда не ходили с непокрытыми головами, одевались в темное и носили грубую обувь на толстой подошве. Кроме того, на ее лице была косметика – вещь совершенно необычная для Германии сорок четвертого года. Женщина эта прошла как существо из иного мира, где нет ни войны, ни карточек на хлеб и текстиль, где можно следить за своей внешностью, обдумывать прическу и туалеты, путешествовать…
Таня дошла до угла, у выгоревшего изнутри портала сохранилась на стене рекламная эмалированная дощечка «Norddeutsches Lloyd» с изображением белого парохода на фоне какой-то сине-оранжевой экзотики, повернула назад. Было уже половина четвертого. Наверное, никто не придет. Что за дурацкий розыгрыш? Разозлившись, она уже решила, что подождет еще пять минут и уйдет. И тут ее негромко окликнули сзади.
Она обернулась с замершим сердцем – перед ней стоял человек, довольно точно описанный Валеркой, коренастый, с рябым от оспы лицом.
– Татьяна? – спросил он, коснувшись газеты, которая торчала из ее кармана. – Извини, припоздал. Давно ждешь?
– С полчаса, – ответила Таня. Она с удивлением заметила, что на нем нет нашивки «OST»; и вообще по одежде его нельзя было отличить от немца-рабочего – такая же двубортная поношенная теплая куртка, пестрый вязаный шарф, темно-синяя суконная фуражка-тельманка. – Вы хотели меня видеть?
– Ага. Пойдем-ка, поговорим по пути.
– Куда?
– Ну, просто пройдемся, чтобы не стоять. Озябла, небось? Хорошо бы погреться, тут вон напротив есть забегаловка – вроде наших «американок», помнишь? – дают какую-то баланду без карточек, называется «штам-герихт»15, но только народу там всегда – не протолкнешься. А поговорить надо без посторонних. Так что, может, потом поедим?
– Ничего-ничего, я не замерзла, – соврала Таня.
Они пошли вдоль кирпичной стены путепровода, от площади.
– Послушай, – сказал Танин спутник, – я буду без предисловий. Ребята из вашего лагеря считают, что ты человек надежный, и Валя тоже хорошо про тебя отзывалась…
– Вы знали ее? – спросила Таня, останавливаясь.
– Знал, раз говорю. Идем, идем.
– Что с ней?
– С ней плохо, засыпалась она, сама ведь знаешь. Так вот, слушай, есть к тебе одно небольшое дельце. Сможешь устроить – хорошо, не сможешь – ладно, будем искать в другом месте. Но только в таком случае – молчок. Поняла? Ты меня не видела и со мной не встречалась. Я говорю – для твоей же безопасности. Поняла? Если ты, скажем, сболтнешь кому-то про наш разговор и дойдет это до немцев – до меня они то ли докопаются, то ли нет, но уж тебя-то так просто не отпустят. Ну, ты не маленькая, сама понимаешь.
– Что вы, – обиделась Таня. – Неужели вы считаете меня способной на предательство!
– Считал бы, так мы бы тут с тобой не разговаривали. Короче, Татьяна, дело вот в чем. Хорошо бы в ваш лагерь сунуть одного парня, но так сунуть, чтобы комар носу не подточил. Провести по спискам задним числом, будто он у вас давно. Дело опасное, врать не буду, так что ты подумай хорошенько и прикинь – сумеешь ли это спроворить, чтобы не засыпаться к чертовой матери. Скажем, недельку подумай.
– Я… я не знаю, – сказала Таня со страхом. – Конечно, можно попробовать, но… ведь лагерные списки есть и в арбайтзамте, и если обнаружится расхождение…
– Это мы понимаем, что списки там есть. Но расхождение обнаружится только в том случае, если будет проверка; поэтому надо сделать так, чтобы им не пришло в голову проверять. В этом и задача! У вас вообще проверки часто бывают? Вот это все ты и выясни. Не выйдет, так не выйдет, что ж делать. Тогда будем пытаться в другом месте. Но хорошо, если бы получилось. Это очень нужно, Татьяна. И тянуть с этим нельзя. Ну, скажем – от силы неделя сроку…
Они дошли до угла совершенно разрушенного квартала. Среди запорошенных снегом развалин копошились люди в полосатой одежде кацетников, двое на вершине раскачивающейся пожарной лестницы крепили трос в оконном проеме уцелевшего обломка фасада, торчащего подобно огромному зубу высотой в четыре этажа. Закончив работу, один из них махнул рукой, лестница поползла вниз. Пожарная машина отъехала в сторону, застрекотала лебедка, трос стал медленно натягиваться. Когда натянулся как струна, стрекотание лебедки замедлилось, стало глуше. Обломок фасада дрогнул, начал клониться – сначала едва заметно для глаза, потом быстрее – и наконец рухнул, разваливаясь еще в воздухе.
– Пошли обратно, не надо здесь стоять, – сказал Танин спутник, – возле хефтлингов даже немцам запрещено задерживаться. Так ты подумаешь над этим делом?
– Подумаю. – Таня кивнула. – Я вам через неделю отвечу, ладно?
– Договорились, – сказал рябой. – Ну а теперь пошли поедим. Попробуешь, что у них там за штамгерихт.
В забегаловке оказалось действительно много народу. Взяв у входа два алюминиевых жетона, рябой отдал их Тане.
– Иди вот туда, возьми ложки, я займу очередь к кассе. Бляшки потом сдадим на выходе, иначе не выпустят, скажут, что ложки сперли. У немцев все продумано!
Таня взяла ложки в обмен на свои жетоны, рябой тем временем успел уплатить и получить две порции похлебки. С мисками в руках они потолкались по переполненному помещению, пока не нашли места у одного из высоких круглых столиков. Штамгерихт оказался ненамного лучше лагерной баланды, но он был горячий, и Таня уничтожила свою порцию с аппетитом.
– Кто, собственно, сюда ходит? – поинтересовалась она.
– Больше иностранцы из всяких вольнонаемных, ну и немцы, кто победнее. У них тоже жизнь не масленица. Русских и поляков сюда обычно не пускают, так что ты, если будешь заходить, «ост» не показывай. Гляди, как это делается…
Он расстегнул верхнюю пуговицу на своей куртке и отогнул лацкан – сине-белый лоскут был пришит на другой его стороне.
– Можно и так, и этак, видишь?
– Действительно, до чего удобно! – восхитилась Таня. – А я еще подумала – почему вы без «оста». Но так разве позволяют?
– Мало ли чего не позволяют. В крайнем случае, заставят перешить на рукав, долго ли отпороть…
Когда они вышли на улицу, было уже темно.
– Тебе в Штееле? – спросил Рябой. – Идем, провожу до трамвая. Ответ ты тогда передашь через Валерку – скажешь просто: «да» или «нет». Если «да», то встретимся тут же, когда тебе удобнее…
Глава шестая
Дрезден был ему глубоко противен. Противна была вся Германия, причем не только эта, нынешняя, погрязшая в национал-социалистической гнусности, но даже и прежняя, всегдашняя, Германия вообще – не меняющаяся от режима к режиму, всегда ordentlich, всегда sehr gemutlich16, всегда непоколебимо довольная собой и при кайзере, и при фюрере, и при ком угодно; противны были немецкие города, одинаково – что новые, бездушно разлинеенные и однообразные, что старые, маниакально кичащиеся своей древностью, подслеповатыми окнами-бойницами, фахверковыми фасадами в кривых переулочках, угрюмыми шестисотлетними кирками; но из всех немецких городов едва ли не самым противным представлялся Дрезден, напыщенный, весь в пышнозадом барочном купидонстве вперемешку с бидермайером и купеческим модерном начала века, помешанный на своем кур-тизанском прошлом и культе Августа Саксонского…
И дрезденцы тоже не вызывали симпатии – филистеры, сукины дети, патриоты околоточного масштаба: «Цвингер, о-о! Хофкирхе, ах-х!». Может быть, не восторгайся они так своей «Флоренцией на Эльбе», не выражай таких неумеренных восторгов по поводу каждой изваянной Пермозером нимфы и каждого карниза с завитушками, придуманного Бэром или Пеппельманом, и сам Дрезден не вызывал бы раздражения. Ну что, город как город – не Париж, понятно, не Прага, но вообще вполне приличный. Только зачем объявлять его восьмым чудом света?
Ридель вполне разделял его чувства – и к Германии вообще, и к Дрездену в частности. У него была своя классификация городов, лучшим в мире он считал Сингапур, где бордели отвечают самому тонкому вкусу, а в Европе первым шел его родной Инсбрук, за ним Вена, а за нею какой-то никому, кроме самого Риделя, не известный Моршин в Галиции, где он однажды до войны провел незабываемое лето, наслаждаясь любовью совершенно обольстительной польской графини и бимбером домашнего изготовления.
– Всякий город должен вырастать постепенно, как растет лес, – объяснял он Болховитинову, – Дрезден же – это артефакт, он весь выдуман, в нем нет ни грана органичного. Просто, когда этот коронованный жеребец курфюрст Август стал еще и польским крулем и получил право титуловаться Augustus Rex, слава ударила ему в голову, и он решил переплюнуть французского Людовика с его Версалем, для чего начал возводить Цвингер, строить дворцы для своих шлюх и скупать картины по всей Европе…
– А как тебе нравится теперешняя архитектура, – подхватывал Болховитинов, – одна табачная фабрика возле Веттинского вокзала чего стоит – купол, минареты, обалдеть можно! А Новая Ратуша – это же казарма с башней, ни пропорций, ничего…
– Хе-хе, тут еще не то бывало! На Выставке, возле Музея гигиены, в двадцатые годы вылупился дом-ядро, шар диаметром в пять этажей. Воображаешь? При Адольфе, правда, его сразу снесли, поскольку автором проекта был иудей…
Во всем этом было много эмигрантщины, Болховитинов сам это понимал. Эмигранта ведь медом не корми, а дай позлословить насчет места, куда он в данный момент заброшен судьбой. В Праге русские в своем кругу обожали судачить о том, что чехи – это вообще черт знает что: по крови вроде славяне, а как онемечились – истинными стали колбасниками, к тому же разве не чешские легионеры продали большевикам Колчака. Того же типа разговоры шли и в парижской колонии, обитатели 15-го аррондисмана вечно перемывали косточки французам – и сантимщики-де они, любой фермер удавится за пять су, и безбожники, недаром Вольтера породили, и войну-то мировую выиграли кровью русского солдата, в благодарность за что и поручили Морису Палеологу состряпать масонский заговор против престола, поддерживая гучковых, керенских и прочую сволочь…
Брюзжали и негодовали не только по поводу национальных качеств того или иного народа, такому же решительному осуждению подвергалось вообще все – где бы эмигрант ни жил, окружающее не могло идти в сравнение с тем, что было там, дома. В Брюсселе слишком дождливо, в Париже зимой слишком сыро, а летом нечем дышать из-за бензиновой вони, где-нибудь в Канне или Ментоне слишком жарко, вместо березок одни пальмы, а уж как мистраль задует – вообще житья нет…
Он, правда, всегда считал эту вздорную эмигрантскую ксенофобию явлением чисто русским – с другими эмигрантами общаться не случалось. А вот теперь нашел ее же и у Риделя – тот ведь, в сущности, тоже был эмигрантом, хотя Болховитинов не совсем понимал, что заставляет его торчать здесь, в Германии; сам Ридель объяснил это тем, что предпочитает находиться подальше от дома, покуда там хозяйничает мерзавец Гофер, – это же как надо было вызмеиться, отыскать для Тироля гаулейтера с такой фамилией, чтобы все считали его потомком того, казненного в Мантуе17!
– Мне, конечно, проще было бы смыться прямо в Швейцарию, – сказал он однажды, – в тридцать восьмом это было довольно легко, многие так и сделали; но вот тут я, признаться, попросту спасовал – как представил себе, что ведь уедешь и потом неизвестно, сможешь ли вообще вернуться, – нет, не смог. Германия дело другое, тут я вроде и в эмиграции, а в то же время и домой съездить могу, коли очень уж потянет…
– Хороша «эмиграция», – заметил на это Болховитинов, – из горшка да на сковородку. Здесь, что ли, не те же гаулейтеры?
– Да на здешних мне плевать, какое мне дело до здешних! Партайгеноссе Мутшман пусть всю свою Саксонию хоть раком поставит, меня это не волнует, немцы сами кашу заварили, теперь пусть жрут до отвала…
Неясным каким-то человеком был этот Людвиг Ридель – бабник и выпивоха, вроде бы неглупый и порядочный, а в то же время обыватель, открыто исповедующий самые обывательские взгляды на жизнь и даже ими как бы гордящийся – вот, дескать, ничего из себя не строю, весь на виду, таким меня и принимайте… В этом смысле Болховитинову не повезло с единственным приятелем, которым он обзавелся в Германии; в конце концов, есть же и среди тевтонов люди как люди. Так нет – подвернулся типичнейший бюргер, а по-русски сказать – мещанин, мещанин до мозга костей. Спасибо хоть, что не той породы, кого в теперешней России называют «стукачами» (загадочное словцо, он так и не смог раскопать его этимологию); с тирольцем можно было говорить откровенно о чем угодно, не опасаясь последствий.
Там, на Украине, он с Риделем не откровенничал, а тот делал вид, что ни о чем не догадывается, и даже в своей обычной скабрезной манере одобрял оперативность коллеги, сумевшего заарканить недурственную девчонку из резерва, можно сказать, самого гебитскомиссара. Только этим летом, когда он вернулся из Винницы и узнал о случившейся беде, Ридель совсем уже другим тоном спросил его, не нужна ли срочная помощь, и сам, первый, сказал, что уже интересовался в гестапо и выяснил, что арестованная переводчица советника Ренатуса действительно бесследно исчезла по пути из Воронцовки в Энск. Он, выходит, давно сообразил, что Таня каким-то образом связана с подпольем, и держал язык за зубами. Болховитинов это оценил.
Теперь здесь, в Дрездене, где он уже не рисковал ничем, кроме собственной головы, прятать от Риделя свои настроения было бы и вовсе ни к чему. Другое дело, что особенного смысла не было и в том, чтобы ими делиться, – нацистов Ридель презирал, но говорить о какой-то «борьбе» с ними считал недостойным мыслящего человека.
– На фронте – пожалуйста, – пояснил он, – будь я помоложе и похрабрее, с превеликим удовольствием перебрался бы на ту сторону и поступил добровольцем… куда – это уже деталь. Я бы не отказался от бомбардировочной авиации! Представляешь, как здорово – подлететь к какой-нибудь огромной куче дерьма типа Берлина или Нюрнберга, хорошенько прицелиться и с высоты трех тысяч метров вывалить на нее сотню центнеров тротила. Это было бы неплохо, но, увы, терпеть не могу летать, всегда плохо переносил болтанку. Бороться же здесь, сидя в тылу, – это вздор и самообман. И вообще, чего ради? Бороться против нацизма как государственной системы уже бессмысленно, система эта издыхает, а нацизм как система взглядов неистребим: задавят его здесь – завтра он вылезет в другом месте и под другим названием и, скорее всего, кстати, у вас в Москве…
Предаваясь этим своим рассуждениям, Ридель делался непереносим, разговаривать с ним становилось невозможно – ну что можно сказать человеку, который бахвалится перед тобой собственным цинизмом? Начни возражать всерьез, и окажешься в положении дурака, провозглашающего общеизвестные истины; соглашаться для виду – еще глупее, а отшутиться, подхватив разговор в таком же ерническом ключе, язык не поворачивается. Болховитинов понимал к тому же двусмысленность своего собственного положения. Как и Ридель, он служил у немцев, пошел на эту службу сам, обдуманно и сознательно (по каким причинам – вопрос уже другой), и разглагольствовать теперь насчет того, что вот, мол, сидим тихо и мирно, приспособились, стали коллаборантами, – не выглядит ли это самым настоящим ханжеством? Поэтому разговоры о возможности «что-то делать» были между ними крайне редки, если не считать беглых замечаний по этому поводу. А кроме Риделя, рядом не было вообще ни одного человека, способного хоть как-то избавить его от ужасающего чувства одиночества.
Мысль о том, чтобы обзавестись любовницей, казалась теперь чудовищной, хотя раньше он относился к этому иначе – бывали у него подружки в Париже (француженки; с соотечественницами никогда себе ничего не позволял), и даже здесь в позапрошлом году – до отъезда на Украину – он без особого сопротивления уступил домогательствам сестры одного сослуживца, которая только что проводила на фронт жениха и срочно искала утешения. Сейчас и подумать о таком было немыслимо.
Так худо ему не было еще никогда – впереди полная бесперспективность, глухо, никакого просвета. Появлялась даже мысль уйти к чехам в партизаны, мысль совершенно безумная по многим причинам. Во-первых, в самом Протекторате о партизанах не слыхали, здесь сопротивление, где оно и было, выражалось иначе – промышленным саботажем на заводах; партизаны, если верить слухам, действовали в Словакии, но там ему делать было нечего, он не знал ни языка, ни людей. Во-вторых, его вряд ли приняли бы в свою среду и чехи. С какой стати они поверили бы ему – выходцу из русско-эмигрантской среды, которую иностранцы левых убеждений всегда считали реакционной, чуть ли не профашистской, да еще заклеймившему себя службой у немцев? Нет, выхода здесь не было, так же как не было его и в том, чтобы вернуться во Францию (об этом он тоже порой подумывал). Для французов – тех, что боролись и могли бы дать ему такую возможность, – он тоже прежде всего оставался бы sale collabo18, пошедшим на сотрудничество с оккупантами…
Отсидев положенные часы в конторе за какими-то ерундовыми расчетами (даже работы интересной – и той не было), он возвращался к себе домой, в Плауэн, где жил неподалеку от православной церкви на Рейхс-штрассе – собственно, из-за этого соседства он там и поселился. В церкви, правда, не служили, но даже пройти мимо было приятно, такой неподдельно родной выглядела она со своими пятью куполами и высокой шатровой колокольней, увенчанной наверху еще одной золоченой луковкой, поменьше. Болховитинов долго считал, что Церковь построена каким-то нашим архитектором (в прошлом веке русские любили бывать в Дрездене), но потом, к удивлению своему, выяснил, что строил немец – видно, из добросовестных, дотошно изучивший русскую церковную архитектуру.
По вечерам он обычно никуда не выходил, слушал радио или читал. Благо, книг хватало – знакомый старичок-букинист снабжал его французскими, а русские он привозил из Праги, одалживая там у знакомых. Ездить туда приходилось часто, это было единственным преимуществом его работы в «Вернике Штрассенбау»; у фирмы были в Протекторате два филиала (точнее, две бывшие чешско-еврейские фирмы, которые старый Вернике ухитрился «ариизировать» в свою пользу), но бывать там немцы не любили, поездки по железным дорогам становились все опаснее, да еще в оккупированную страну, к этим коварным чехам; на Болховитинова, никогда не отказывавшегося от командировок в Протекторат, смотрели как на избавителя.
В январе сводка ОКБ сообщила об очередном выравнивании фронта на Востоке, в ходе которого был оставлен Энск. Болховитинов уже знал об этом из сообщений Лондонского радио накануне, но теперь схема «выровненного» участка была помещена в газетах – да, никакой ошибки, черная линия уже проходила западнее. Долго разглядывая схему, он думал о том, что вот теперь все, теперь действительно кончено. Раньше у него хоть появлялись какие-то бредовые мечтания: вдруг фронт там стабилизируется, а ему предложат съездить зачем-нибудь именно туда, и что-то удастся выяснить… А теперь как будто броневая дверь захлопнулась – намертво, навсегда.
Вскоре ему снова пришлось поехать в Прагу. Там уже чувствовалось приближение весны, башенные шпили и колокольни призрачно сквозили в тумане, часто шел мокрый оттепельный снег. Тихим и призрачным казался город, словно погруженный в свое прошлое; молча и торопливо шли прохожие по узким тротуарам, все городские шумы были приглушены, даже трамваи пробегали без обычного звона и скрежета. Неживую тишину пражских улиц нарушало лишь рычание патрульных вездеходов с номерными знаками войск СС.
Болховитинов побывал в нескольких русских семьях – здесь все было более или менее по-прежнему, колония жила обычной эмигрантской жизнью, только победнее да потише, ходили слухи о том, что немцы собираются в скором времени провозгласить нечто вроде «русского эмигрантского правительства» – именно здесь, в Праге. Называли разные имена, чаще всего генерал-лейтенанта Власова; формируемая им Освободительная армия – РОА – получит якобы прежнюю русскую форму и войдет в состав германских вооруженных сил как одно из «самостоятельных» национальных формирований, наподобие словацких, хорватских и иных частей.
Слушая все эти разговоры, Болховитинов только диву давался. В то, что русская эмиграция сможет когда-нибудь стать реальной политической силой, с которой всерьез считались бы в Лондоне или Париже, он не верил уже давно. Предполагать, что с нею вдруг начнут считаться в Берлине, было еще глупее; даже в сорок первом году, когда создание марионеточного правительства могло быть оправдано пропагандистскими соображениями, этого не случилось. А сейчас, в сорок четвертом? Однако некоторые верили в такую возможность.
– …момент, момент надо учитывать, – уверенно рассуждал старый штаб-ротмистр, от которого Болховитинов, встретив однажды на улице, не смог отделаться. -Что немцы для нас каштаны из огня таскать не собираются – это, батенька, очевидно. Никто этого от них и не ждал. Но вы поймите другое! Немцы сейчас обмишурились по всем статьям; они уже не знают, за какую соломинку хвататься. Вот это мы и должны использовать. Вы говорите – поздно? Не-е-ет, батенька, ошибки исправлять никогда не поздно, не извольте сомневаться! В немецких руках еще половина Малороссии, вся Минская губерния, Крым, Курляндия – это ненамного меньше, чем оставалось у большевиков в девятнадцатом году… ко времени «Московской директивы», ежели помните. Товарищи-то, однако, на этой территории удержались – и еще какую державу отгрохали!
– Простите, не вижу связи, – сказал Болховитинов.
– Связь самая прямая! Совдепы почему устояли, вшивые да голодные, против отборнейших войск? Да потому, что духом были сильнее нас, а дух на войне – великое дело, в конечном счете именно он все и решает. Вот я и говорю, территория – дело десятое, было бы за что драться. И если немцы сейчас возьмутся за ум, дадут русскому народу ясную программу, дадут вождя – все еще может ох как обернуться!
– Какой это к черту «вождь»? Генерал, перешедший на сторону противника, считался и будет считаться изменником при любом режиме, при любом государственном строе и любой форме правления. И выдвигать его в качестве…
– Да я, батенька, не о Власове говорю, не горячитесь, – возразил штаб-ротмистр. – Есть же другой вождь, законный! Вождь, так сказать, Божьей милостью, легитимный наследник престола, его императорское высочество Владимир Кириллович. Что бы вы там ни говорили, а русский народ без царя не может. Все-таки идея помазанника…
– Позвольте с вами не согласиться, – сказал Болховитинов. – В России я не видел монархических настроений… по крайней мере, у молодежи, с которой мне приходилось общаться более тесно. Смею вас уверить – «идея помазанника» не вызовет там сейчас ничего, кроме недоумения. Как это ни печально, советская молодежь вполне довольна существующим строем… хотя и видит все его недостатки. Главное в том, поймите правильно, что это их строй, они считают его своим, надеются улучшить со временем и не думают ни о каких радикальных переменах. Я уже не говорю о главном – сейчас, на третьем году войны, нелепо даже гадать о том, как встретят в России ту или иную политическую «программу», поддержанную немцами. От чьего бы имени она ни была провозглашена, для русского народа это будет немецкая программа – разработанная врагом…
Подобные разговоры ему уже приходилось вести и раньше, с другими знакомыми. Одни ругали немцев больше, другие меньше, одни делали ставку на Власова, другие – на Черчилля и Рузвельта, третьи уповали на неизбежные перемены в Советском Союзе после победоносного окончания войны и вспоминали декабристов; признаки этих перемен они видели уже сейчас – погоны в Красной Армии, совершенно новый тон советской пропаганды, вспомнившей наконец о царях и полководцах, и тому подобное. Люди эти были искренни в своем патриотизме, искренне хотели что-то понять, как-то разобраться в происходящем, – но как безнадежно далеки были они от той, настоящей, сегодняшней России!