Принцип чистого разума Кант Иммануил
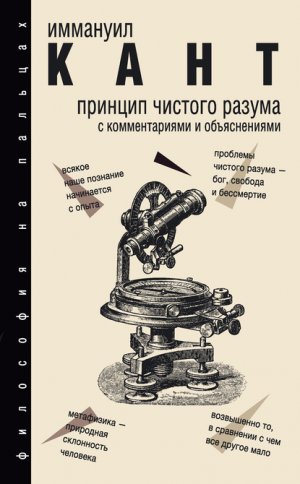
© ООО «Издательство АСТ», 2017
Хронометр философии
Если бы существовал топ пять самых влиятельных философов, то Иммануил Кант непременно был бы среди них. Известный немецкий мыслитель, основатель немецкой классической философии, родился 22 апреля 1724 года в Кенигсберге, откуда так ни разу и не выехал. Одной из причин такого рода затворничества было слабое здоровье философа. Об этом пишет советский сатирик Зощенко в «Возвращенной молодости». Но несмотря на физическую слабость, Кант поразительным образом прожил мало того что долгую, так еще и удивительно продуктивную жизнь. Канонически принято считать, что строгий режим Канта помог ему в этом. Зощенко пишет: «Вся его жизнь была размерена, высчитана и уподоблена точнейшему хронометру. Ровно в десять часов он ложился в постель, ровно в пять он вставал. И в продолжение 30 лет он ни разу не встал не вовремя. Ровно в семь часов он выходил на прогулку. Жители Кенигсберга проверяли по нем свои часы». Этот же сюжет раскручивает режиссер Филипп Коллин в фильме «Последние дни Иммануила Канта».
Но Кант, очевидно, известен нам не только благодаря своему строгому режиму. Физики, например, знают Канта как ученого, сформулировавшего гипотезу о происхождении Солнечной системы из газово-пылевой туманности. Эта гипотеза называется «гипотеза Канта-Лапласа» (они в одно и то же время придумали одну гипотезу).
Также Кант писал статьи политического толка, вел лекции по антропологии. Но славу ему принесла его критическая философия. Критической она называется из-за названия трех известных работ: «Критика чистого разума», «Критика практического разума» и «Критика способности суждения». Первая «Критика» – о познании, вторая – об этике, третья – об эстетике. Трудно переоценить важность этих работ для истории философии и мысли. Сразу после Канта появились школы его последователей – неокантианцы. Основатель феноменологии Гуссерль взял труды Канта в основу своей философии. Хайдеггер, одна из ярчайших фигур немецкой философии, находился под сильным влиянием Канта. То же самое можно сказать о Делезе и Лиотаре, которые неоднократно писали комментарии к текстам Канта и полемизировали с ним в своих работах. Неважно, спорили ли они с Кантом или выражали паритет, но Кант стал основой для развития философии.
Умер Кант 12 февраля 1804 года на 81 году жизни. Несмотря на то что сам Кант желал себе скромных похорон, проводить философа пришел весь город. Похоронили его в профессорском склепе, примыкавшем к кафедральному собору Кенигсберга. Сейчас Кенигсберг принадлежит Российской Федерации и именуется Калининградом, так что всякий житель России без труда может увидеть и город Канта, и место его захоронения.
В этой книге мы рассмотрим две фундаментальные работы Канта – «Критику чистого разума» и «Критику способности суждения». В первой критике Кант пытается выяснить основания метафизики. Эта крайне важная работа для философии и для науки. В другой критике Кант рассматривает понятия, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, – прекрасное, вкус, гений. Здесь мы выясним, какие споры о вкусе возможны, как работает механика восприятия прекрасного и возвышенного и почему необходимо быть нравственным, чтобы воспринимать прекрасное.
Нужно, конечно, предупредить, что кантовский стиль письма крайне сложен, часто приходится пробираться через объемные дефиниции и развёрстки. Однако если привыкнуть к стилю, то окажется, что, несмотря на трудное письмо, Кант пишет ясно и точно. И к этой же точности мышления он призывает и своих читателей.
Александра Арамян
Критика чистого разума
Предисловие к первому изданию
На долю человеческого разума в одном из видов его познания выпала странная судьба: его осаждают вопросы, от которых он не может уклониться, так как они навязаны ему его собственной природой, но в то же время он не может ответить на них, так как они превосходят возможности человеческого разума.
Это может напомнить известную цитату из Аристотеля: «Все люди от природы стремятся к знанию».
В такое затруднение разум попадает не по своей вине. Он начинает с основоположений, применение которых в опыте неизбежно и в то же время в достаточной мере подтверждается опытом. Опираясь на них, он поднимается (как этого требует и его природа) все выше, к условиям более отдаленным. Но так как он замечает, что на этом пути его дело должно всегда оставаться незавершенным, потому что вопросы никогда не прекращаются, то он вынужден прибегнуть к основоположениям, которые выходят за пределы всякого возможного опыта и тем не менее кажутся столь несомненными, что даже обыденный человеческий разум соглашается с ними. Однако вследствие этого разум погружается во мрак и впадает в противоречия, которые, правда, могут привести его к заключению, что где-то в основе лежат скрытые ошибки, но обнаружить их он не в состоянии, так как основоположения, которыми он пользуется, выходят за пределы всякого опыта и в силу этого не признают уже критерия опыта. Арена этих бесконечных споров называется метафизикой.
Под метафизикой изначально подразумевался корпус работ Аристотеля, которые не вошли в «Физику». Приставка «мета» означает «после», то есть после физики. Позднее (преимущественно в Новое время) под метафизикой подразумевали бесплодное знание, оторванное от опыта. Справедливости ради нужно отметить, что тогда, в Новое время, отличали метафизику и философию; вторая занимала крайне важную и почетную позицию.
Было время, когда метафизика называлась царицей всех наук, и если принимать желание за действительность, то она, конечно, заслуживала этого почетного названия ввиду большого значения своего предмета. В наш век, однако, вошло в моду выражать к ней полное презрение, и эта матрона, отвергаемая и покинутая, жалуется подобно Гекубе: modo maxima rerum, tot generis natisque potens – nunc trahor exul, inops (Ovid., Metam.)[1].
Вначале, в эпоху догматиков, господство метафизики было деспотическим. Но так как законодательство носило еще следы древнего варварства, то из-за внутренних войн господство метафизики постепенно выродилось в полную анархию, и скептики – своего рода кочевники, презирающие всякое постоянное возделывание почвы, – время от времени разрушали гражданское единство. К счастью, однако, их было мало, и они поэтому не могли мешать догматикам вновь и вновь приниматься за работу, хотя и без всякого согласованного плана. Правда, в Новое время был момент, когда казалось, что всем этим спорам должен был быть положен конец некоторого рода физиологией человеческого рассудка ([разработанной] знаменитым Локком) и что правомерность указанных притязаний метафизики вполне установлена. Однако оказалось, что хотя происхождение этой претенциозной царицы выводилось из низших сфер простого опыта и тем самым должно было бы с полным правом вызывать сомнение относительно ее притязаний, все же, поскольку эта генеалогия в действительности приписывалась ей ошибочно, она не отказывалась от своих притязаний, благодаря чему все вновь впадало в обветшалый, изъеденный червями догматизм; поэтому метафизика опять стала предметом презрения, от которого хотели избавить науку. В настоящее время, когда (по убеждению многих) безуспешно испробованы все пути, в науке господствует отвращение и полный индифферентизм – мать Хаоса и Ночи, однако в то же время заложено начало или по крайней мере появились проблески близкого преобразования и прояснения наук, после того как эти науки из-за дурно приложенных усилий сделались темными, запутанными и непригодными.
Джон Локк – известный английский эмпирик Нового времени. Он является основателем того, что в современном смысле слова можно было бы назвать «сознанием».
В самом деле, напрасно было бы притворяться безразличным к таким исследованиям, предмет которых не может быть безразличным человеческой природе. Ведь и так называемые индифферентисты, как бы они ни пытались сделать себя неузнаваемыми при помощи превращения ученого языка в общедоступный, как только они начинают мыслить, неизбежно возвращаются к метафизическим положениям, к которым они на словах выражали столь глубокое презрение. Однако указанное безразличие, возникшее в эпоху расцвета всех наук и затрагивающее как раз тех, чьими познаниями, если бы они имелись, менее всего следовало бы пренебрегать, представляет собой явление, заслуживающее внимания и раздумья. Совершенно очевидно, что это безразличие есть результат не легкомыслия, а зрелой способности суждения нашего века, который не намерен больше ограничиваться мнимым знанием и требует от разума, чтобы он вновь взялся за самое трудное из своих занятий – за самопознание и учредил бы суд, который бы подтвердил справедливые требования разума, а с другой стороны, был бы в состоянии устранить все неосновательные притязания – не путем приказания, а опираясь на вечные и неизменные законы самого разума. Такой суд есть не что иное, как критика самого чистого разума.
Я разумею под этим не критику книг и систем, а критику способности разума вообще в отношении всех знаний, к которым он может стремиться независимо от всякого опыта, стало быть, решение вопроса о возможности или невозможности метафизики вообще и определение источников, а также объема и границ метафизики на основании принципов.
Кант пытается найти источник знания вне всякого опыта, то есть необходимые условия возможности получения опыта. Прояснить знания в области этих условий – значит прояснить многие научные положения.
Этим единственным оставшимся путем пошел я теперь и льщу себя надеждой, что на нем я нашел средство устранить все заблуждения, которые до сих пор ссорили разум с самим собой при его независимом от опыта применении. Я не уклонился от поставленных человеческим разумом вопросов, оправдываясь его неспособностью [решить их]; я определил специфику этих вопросов сообразно принципам и, обнаружив пункт разногласия разума с самим собой, дал вполне удовлетворительное решение их. Правда, ответ на эти вопросы получился не такой, какого ожидала, быть может, догматически-мечтательная любознательность; ее могло бы удовлетворить только волшебство, в котором я не сведущ. К тому же и естественное назначение нашего разума исключает такую цель, и долг философии состоял в том, чтобы уничтожить иллюзии, возникшие из-за ложных толкований, хотя бы ценой утраты многих признанных и излюбленных фикций. В этом исследовании я особенно постарался быть обстоятельным и смею утверждать, что нет ни одной метафизической задачи, которая бы не была здесь разрешена или для решения которой не был бы здесь дан по крайней мере ключ. Чистый разум и на самом деле есть такое совершенное единство, что если бы принцип его был недостаточен для решения хотя бы одного из вопросов, поставленных перед ним его собственной природой, то его пришлось бы отбросить целиком, так как он оказался бы непригодным для верного решения и всех остальных вопросов.




