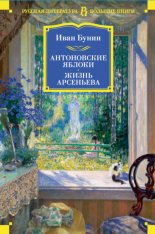Что думают гении. Говорим о важном с теми, кто изменил мир Белл Алекс

Глава 1
О равенстве и справедливости
(Жан-Жак Руссо)
Место: Женева, Швейцарская республика
Время: 1762 год
Если вам посчастливилось хотя бы несколько дней провести в Швейцарии, вам хорошо знакомо то необыкновенное, почти магическое успокаивающее действие, которое оказывают на человека пейзажи и даже сама атмосфера этой особенной страны. Изумрудные склоны гор; прозрачные бирюзовые озера; невероятно чистый воздух; уютные, словно игрушечные горные долины. И, конечно, сами жители этих мест: неторопливые, улыбчивые, невозмутимые и очень зажиточные.
Перед тем как приступить к своей миссии, я не смог отказать себе в удовольствии теплым ясным летним утром прогуляться вдоль берега Женевского озера, расположенного на юго-западе страны. В те времена виды озера уже не сильно отличались от современных: не хватало, пожалуй, лишь знаменитого высокого фонтана напротив городской набережной; да мосты через озеро в его узкой части, соединявшие две части Женевы, тогда еще были деревянными. На улочках города повсюду слышался французский язык: Женева в силу своего расположения традиционно тяготела к культуре Франции, хотя одновременно и гордилась своей политической независимостью от нее.
В 1700-х годах образ жизни людей в развитых странах Европы приблизился к современному ощутимее, чем за всю предыдущую тысячу лет. Благодаря изобретению парового двигателя (энергия сжигаемого топлива пришла на смену простой мускульной силе) производительность труда на фабриках Англии, а затем и других развитых стран за относительно короткий срок выросла более чем в десять раз. Вакцинация и базовые представления о бытовой гигиене положили конец нашествиям оспы и чумы, в прошлом регулярно опустошавшим города и целые страны. Крупные страны Европы преимущественно оставались монархиями, но их стиль к концу XVIII века заметно изменился. На смену абсолютизму и жестокой тирании пришла мода на «просвещенных монархов». Новые властители стран Европы были хорошо образованы, общались лично с лучшими учеными и писателями своей эпохи, поддерживали деятелей культуры и даже иногда играли в видимость демократии и заботу о простых людях. На словах приветствовали освобождение подданных от гнета и несправедливостей, высказывались за всеобщее образование. Но на деле серьезных, глубинных социальных изменений не было. Скорее наоборот – жизнь многих простолюдинов и бедняков стала даже еще более тяжелой, чем раньше.
Во главе государств находился монарх, воля которого по-прежнему стояла над любыми законами. За ним на социальной лестнице располагался тонкий слой приближенной к престолу потомственной аристократии, имевшей все, о чем человек тогда мог мечтать, лишь по праву своего рождения. Рос и креп с каждым годом новый слой – буржуазии, богатых владельцев предприятий. В совокупности в обществе доля «уважаемых, состоятельных и благородных» людей составляла около одного процента. А вот остальные девяносто девять процентов людей жили не лучше, чем в «мрачное» Средневековье. Не каждый день имели достаточно еды для всей семьи на столе; для многих на смену каторжной, но все-таки сезонной работе в поле (на себя и своего землевладельца) пришла еще более изнурительная работа, но теперь уже круглый год на мануфактурах по четырнадцать-шестнадцать часов в день: без выходных, отпусков, больничных, пенсий и правил безопасности на производстве. Дожить хотя бы до своего сорокалетия для рабочего в те времена было серьезной удачей. Но знатные слои общества проблемы бедняков нисколько не занимали. И дело здесь было даже не в их личной «черствости» или высокомерии. Большинство дворян искренне не понимало, а как иначе вообще может «работать» человеческое общество, если не в условиях самой жесткой и беспрекословной сословной и имущественной иерархии граждан.
В этот раз я был судебным приставом, работавшим в Женевской республике. Мне было поручено вручить вчерашнее решение суда человеку, родившемуся в Женеве, ее гражданину, но проведшему почти всю жизнь во Франции и вернувшегося на родину лишь несколько лет назад. Ему было около пятидесяти. Большинство жителей города, несмотря на свой незлобный нрав, не любили его и считали весьма странным человеком, который мешал им жить так, как они желали.
Человека звали Жан-Жак Руссо, и он, несмотря на немалую известность, даже не был дворянином. Обычный простолюдин, да еще и со скользкой, многократно запятнанной репутацией. Широко прославили этого человека его сентиментальные, слезливые романы в стиле популярной в то время романтической беллетристики. Эти произведения (во многом автобиографичные) били все рекорды продаж художественных книг Европы той эпохи, их переиздавали большими тиражами по несколько раз в год. Ими зачитывались (зная в мелких деталях их сюжеты и личности героев) почти все грамотные женщины Франции и соседних стран: от герцогинь до прислуги и монашек. Серьезной литературой романы Руссо никогда не считались, критики от них воротили нос. Но что-то было в них – юношеская бравада автора, оставшаяся при нем до старости, искренность слога, душещипательность, а может быть, и что-то еще, – что глубоко трогало читательниц.
Сама жизнь Руссо была необычной, бурной и напоминала затейливый авантюрный роман. Руссо родился в многодетной семье интеллигентного, но бедного музыканта и часовщика. Уже в четырнадцать лет Руссо уходит из дома, чтобы начать самостоятельную жизнь, но нигде не задерживается надолго. Учится разным ремеслам, но всякий раз быстро бросает дело. Увлекается по-настоящему только чтением книг, в остальном – просто плывет по течению. Но у Руссо с юности обнаруживается талант привлекать к себе людей, и именно это всю жизнь будет выручать его из всевозможных передряг. Он хорош собой, строен, энергичен, остроумен, пользуется неизменным успехом у женщин. Неоднократно подолгу Руссо беззастенчиво живет на средства своих любовниц – богатых замужних женщин, графинь и герцогинь значительно старше него. Сам он тем временем тоже женат, на своей бывшей служанке, скромной и некрасивой, родившей ему пятерых детей. Всех своих детей Руссо после рождения «во избежание хлопот» отдает в детские дома и никогда их больше не видит. В непростые времена он уезжает в монастыри: там, искренне, на коленях, в слезах, кается в своих грехах перед настоятелями (завоевывая их симпатию), чтобы несколько месяцев перебиться на церковном содержании. Большинство окружающих считают Руссо обаятельным, но поверхностным болтуном и повесой. Однако, оказавшись в Париже, безродный авантюрист знакомится там с лучшими французскими учеными и мыслителями эпохи, и те неожиданно охотно, с нескрываемым интересом к его личности, принимают его в свой узкий элитарный круг. Эссе и лирические романы Руссо расходятся в столице Франции на ура, а написанная им опера вызывает восторг короля. Правда, больше музыку Руссо не писал (посчитав, что его «великим» сочинением недостаточно восхитились критики и публика), а до наших дней и эта опера, к сожалению, не дошла.
Став знаменитостью, но также нажив своим характером и острым языком множество врагов, Руссо возвращается из Парижа в Женеву. Позже там же появляется его извечный враг и соперник – великий Вольтер. Эти двое, будучи, возможно, самыми яркими деятелями европейской культуры своей эпохи, – страстные, непримиримые антагонисты. Вольтер, убежденный материалист, зло высмеивает все, что связано с церковью. Руссо, хоть сам и не образцовый христианин, остроумно и с успехом атакует атеизм соперника. Вольтер превозносит точные науки, видя в них в будущее, Руссо же страстно ратует за «возвращение к истокам» и «природную простоту человека». Вольтер (богатый дворянин) на свои средства открывает в Женеве театр. Руссо, используя все свои связи, добивается закрытия этого театра, утверждая, что «надо сначала накормить голодных, а уж потом тратиться на пустое, бессмысленное лицедейство». Оказываясь лицом к лицу в обществе, эти два светоча культуры своей эпохи порой едва не доходят до драки. После отъезда соперника из Женевы Руссо вновь погружается в литературу. Но в этот раз из-под его пера неожиданно выходит не очередной сентиментальный роман-бестселлер, а острейший философский и политический памфлет: «Об общественном договоре». Благодаря известности автора он быстро распространяется и доходит до короля Франции. Тот приходит в ужас от прочитанного и требует немедленно арестовать автора – «самого дерзкого смутьяна, какого только видел мир». Женева, самостоятельная республика, писателя не выдает. Но во избежание конфликта постановлением суда Жану-Жаку Руссо предписывается немедленно, в течение двух суток, навсегда покинуть Женеву.
Дом, в котором проживал писатель, находился в необычном месте: на небольшом островке между двумя берегами узкой реки Роны, которая брала начало в соседней Франции, протекала через весь город и в центре Женевы впадала в прекрасное Женевское озеро. Таким образом, дома, стоявшие на островках посреди реки, находились одновременно и почти в центре города, и вдали от городского шума и суеты: до них можно было добраться только на лодке.
Была середина дня; стояла жаркая, но приятная, не душная июльская погода. Мне открыла дверь супруга Руссо, встретившая меня холодно, с опаской. Узнав, что я представитель власти, проводила в гостиную, предложив освежиться домашним лимонадом со льдом. Хозяин дома ежедневно совершал долгие прогулки и возвращался около четырех пополудни. Хозяйка (маленькая пожилая блеклая женщина с простым крестьянским лицом, но, как мне показалось, с довольно живым умом) показала мне разбитое стекло в спальне. Время от времени недовольные жители Женевы (кто-то был обижен из-за закрытия театра, другие прослышали о том, что Руссо – преступный вольнодумец и смутьян) ночью тайком, тихо подплыв на лодке, кидали камни в окна его дома. Хозяйка сказала, что они вызвали стекольных дел мастера на завтра, но я ответил, что в этом, к сожалению, уже нет особой нужды. Узнав о цели моего прихода, она громко всхлипнула, но быстро взяла себя в руки.
Руссо появился, когда солнце уже понемногу начало клониться к вечеру. Войдя, он поклонился мне, явно находясь в хорошем настроении и ни о чем не догадываясь. Одет он был весьма экстравагантно: в яркий зеленый камзол, снизу отороченный перьями (видимо, дорогой и модный), на голове – высокий, похожий на турецкий тюрбан. Зачем он был так одет в обычный день, да еще и в жаркую погоду, было непонятно, но расспрашивать об одежде в такой момент я его не стал. Первое впечатление, несмотря на нелепый стиль одежды, он производил приятное. В его пятьдесят внешне ему трудно было дать даже сорок лет. Безупречное телосложение; живые карие глаза; правильные черты лица в стиле голливудских актеров эпохи черно-белого кино; сильный голос, густые темные волосы без седины; энергичные, размашистые движения. Казалось, что это был хоть и потрепанный жизненными невзгодами, но все еще вполне молодой человек.
Вскоре от веселости Руссо не осталось и следа. Документ, который я вручил ему, он прочитал несколько раз, прежде чем осознал его смысл. Его реакция была неожиданно эмоциональной, если не сказать истерической. Он начал громко, во весь голос кричать, вопрошая о том, за что судьба его в который раз столь жестоко и несправедливо наказывает. Затем стал бешено ходить из угла в угол, сорвал с себя камзол, швырнув его на пол, и, наконец, бросившись на колени перед женой, начал громко, как дитя, рыдать. Приговаривал, что это заговор его врагов, завистников и что его жизнь теперь не стоит и гроша. Жена гладила его рукой по голове, пытаясь утешить. Когда Руссо наконец пришел в себя, он сел напротив меня, но затем снова нервными шагами стал мерить комнату. Я попытался его немного успокоить.
– Простите, но мне кажется, решение женевского суда – не худшее, что могло произойти. Если бы вместо меня здесь появились жандармы, надели на вас кандалы и отвезли на пожизненное заточение в парижскую Бастилию, как того требовал король, все было бы куда страшнее.
– Но куда мне бежать? У меня есть еще один дом в Швейцарии, в немецкой части, тоже на острове, около Берна.
– Не думаю, что это хорошая идея. Бернские власти не станут вас защищать и спокойно выдадут вас Франции, притом очень скоро.
– Тогда я погиб! Я не знаю, где еще я смогу спокойно жить.
Неожиданно в разговор вступила Тереза, супруга Руссо:
– Ты же мне недавно говорил, что какой-то шотландский философ в письме приглашал нас погостить пару месяцев в Британии и попутешествовать по ней в его компании, за его счет.
– Да. Его зовут Дэвид Юм. Но понимаешь, в чем дело, дорогая. Мне совершенно не нравится его философия. Ты представляешь, как мне будет неуютно в его компании? Это будет просто ужас!
Спустя некоторое время мы все же убедили Руссо, что данный выход в его положении – лучший из возможных. Он громко высморкался в накрахмаленный платок, затем постарался кое-как привести себя в порядок. Его жена тем временем расспросила меня о мелочах, связанных с их предстоящим завтра вынужденным отъездом. Когда писатель уже совершенно пришел в себя (и даже слегка повеселел), я поинтересовался, что же было в его памфлете настолько ужасного, что даже не самый суровый в истории французский монарх так разгневался на него. Руссо лишь пожал плечами.
– Я разъяснил в этой работе всему миру то, каким должно быть правильно и справедливо устроенное общество. Показал человечеству прямой путь к естественному состоянию счастья. Разумеется, в таком справедливом обществе нет места тиранам и королям.
– Но ведь в мире не найти такой страны, где не было бы облеченного полнотой власти правителя?
– На самом деле это не так. Подобные страны были в прошлом: древние Афины в короткий промежуток демократии, ранний Рим, управляемый сенатом. Сейчас монархия крайне ограничена в Британии и Нидерландах – там почти вся власть в руках у парламента, который формально избирается народом. Но большая доля правды в вашем утверждении есть. Все перечисленные примеры только подтверждают печальное общее правило. Даже в тех странах, где на бумаге демократия, на деле безраздельно властвует олигархия. Узкая прослойка богачей выдвигает якобы независимых депутатов, одураченный народ голосует так, как ему внушают. А уже через день люди снова оказываются не у дел и в последующие годы не имеют ни малейшего влияния на власть.
– Что же предлагаете вы?
– Я начал свой памфлет фразой: «Человек рождается свободным, но повсюду он в тяжелых оковах». Это правда. Мир наполнен ужасающей несправедливостью, угнетением, вопиющим неравенством. Надо навсегда разрубить этот узел. Чтобы понять, что следует изменить, сделаем небольшой экскурс в прошлое. Определим первопричину болезни.
– Разве неравенство не сопутствовало всем человеческим обществам с глубокой древности?
– Вовсе нет. Чтобы убедиться в этом, достаточно сесть на корабль и добраться до далеких берегов новооткрытых континентов. Выбрать самые примитивные, абсолютно чуждые культуре и науке дикие племена, живущие до сих пор охотой и собирательством. Да, в них тоже есть некая иерархия. Но ее нельзя сравнить с тем, что происходит в развитых обществах. Большую часть времени дикарь предоставлен самому себе, он абсолютно счастлив наедине с природой. Хочет есть – идет охотиться либо собирает плоды. Чувствует плотское влечение – и свободно, без предрассудков спаривается с любой самкой поблизости. Мне рассказывали случай, когда дикарь утром продал свой шалаш, а вечером одумался и выкупил его обратно. Утром он даже не думал о том, что вечер наступит. В каждом прожитом дне такого дикаря больше счастья, чем за целый год у современного человека.
– Теперь я понимаю, почему ваш недруг Вольтер рассказывает повсюду, что «Руссо предлагает людям снова ходить на четвереньках».
– Вольтер – это высокий ум и низкая душа. Он строит из себя главного вольнодумца и бунтовщика, но все, что он делает, в итоге всегда оказывается на руку власти. Разумеется, я никогда не предлагал подобного. Однако я продолжу. Неравенство возникло тогда, когда люди стали заниматься обработкой земли. И для этого, по праву силы, разумеется, одним людям доставались огромные наделы, другие довольствовались крохотными или вовсе их не имели, работая на хозяина. Обширные леса превратились в нивы, которые надо орошать человеческим потом и из которых выросли рабство и нищета. Среди крупных землевладельцев путем грубого, кровавого насилия выделились самые влиятельные, и они стали королями, вождями. Ими и их подручными беднякам насильно был навязан негласный и несправедливый «общественный договор». Бедные люди только лишь за одно право жить (не умереть от голода и не быть убитыми) безропотно отчуждали все свои права и остатки жалкого имущества в пользу всесильных властителей. Удивительно, но прошли тысячелетия, наука изобрела множество необыкновенных вещей. И сегодня общественный уклад в мире по сути остался таким же, каким он был в незапамятной древности, в начале эпохи обработки земли. Горстка людей в каждой стране купается в роскоши, а сотни тысяч или миллионы других горбатятся ради них на заводах и рудниках от зари до зари за жалкие крохи. Голодают, болеют, рано умирают. Мне больно даже просто со стороны наблюдать за этим.
– Но возможно ли это изменить?
– Разумеется! Не просто возможно, а остро необходимо. Причем не когда-то в отдаленном будущем, а уже сейчас, при нашей жизни.
– Какие реформы вы предлагаете?
– Начинать любое дело следует с определений. Закон законов должен звучать так: «Суверенитет человека не может быть никем отчужден». А суверенитет народа не может быть отнят у народа. Закабалить человека, лишить его прав (если только он не злостный преступник) не вправе никто: ни общество, ни тем более король, который на самом деле – такой же обычный человек, как и все. Далее я формулирую три основных, базовых принципа. Вот они.
Все люди свободны. Все люди равны. Все люди – братья.
Последнее означает не физиологическое родство, конечно, а то, что никто из нас не враг, не соперник любому другому гражданину государства. Всегда и во всем сограждане – это партнеры, единомышленники в деле созидания различных общественных благ, которые идут на пользу всем и каждому в отдельности.
Свобода, равенство и братство (Libert, galit, Fraternit). Национальный девиз Франции иногда приписывается кровавому вождю французской революции Робеспьеру, но первым этот лозунг в своей работе сформулировал Жан-Жак Руссо. Слушая речи увлеченного, явно желающего людям добра, хотя и немного наивного философа, я понимал, что он и понятия не имеет, к каким страшным жертвам и катаклизмам в будущем приведут попытки создания «рая на земле». Он не мог этого знать, и я не хотел его разуверять в, казалось бы, столь светлых и искренних идеях.
– Господин Руссо. Я все-таки не понимаю, как протянуть мостик от ваших идей к действительности.
– Я не сторонник жестоких революций, переворотов. Мне кажется, все, о чем я говорю, настолько естественно, что должно неминуемо случиться само собой. Народ должен встать в полный рост и объявить себя хозяином той земли, на которой он живет. Даже с религиозной точки зрения: как Господь может судить деяния человека в его земной жизни, если он прожил жизнь не свободно? Посмотрим и на животный мир: всем известно, что свободные животные в дикой природе намного сильнее, умнее, выносливее, чем те, что живут в рабстве, одомашненные человеком.
– Хорошо, допустим даже, что революция произошла, причем мирно. Что будет дальше?
– Дальше народ должен принять новые законы. Провести национальный референдум по всем мало-мальски важным, значимым вопросам. По мелким уложениям достаточно простого большинства голосов. Главные законы надо обсуждать и согласовывать до тех пор, пока они не будут приняты народом почти единогласно. Разумеется, всегда кто-то будет против. Но если таких противников большинства останется лишь небольшая горстка, я не думаю, что это станет проблемой.
– Хорошо, допустим. Но должен быть властный аппарат, который следит за исполнением законов.
– Да, он будет. Надо, чтобы исполнительная власть была полностью отделена от законодательной и судебной. Но этот орган не будет властью в сегодняшнем понимании. Его представителей будет выбирать народ на очень недолгий срок: думаю, достаточно от месяца до полугода. Затем будут избирать новых, и так без конца. Я понимаю, что здесь есть проблема. Так как за исполнение функций власти (пусть даже недолгое) людям не будут ничего доплачивать, никто не захочет в нее идти. Зачем взваливать на себя лишнюю ношу, когда у тебя полно дел по твоей основной работе? Но, надеюсь, сознательность людей возьмет верх. Если такому государству будет грозить внешний враг, тогда народ выберет военачальника. Но только строго до конца войны и ни днем больше.
– Но ведь у людей в любых странах всегда есть разные мнения, свои точки зрения. Что делать с теми, кому не будет нравиться подобное «государство всеобщего счастья»?
– Таких несогласных и вредных граждан следует немедленно, силой депортировать из страны. Пусть живут при другом общественном строе, если он им нравится больше.
– А если они не согласятся? Скажут, что эта земля – их родина, здесь могилы их предков и так далее.
– Тогда таких людей следует вешать. Лучше публично, на площадях. Если они против свободы и равенства, значит, они – враги идеального общества, то есть самые злостные преступники на свете. Впрочем, я уверен, что в прекрасном справедливом государстве таких людей будут лишь единицы.
– Спасибо, господин Руссо. Кажется, я теперь достаточно хорошо представляю ваше государство.
За окном начало смеркаться. Я понимал, что с моей стороны невежливо заставлять хозяев напрасно тратить их драгоценное время, необходимое на сборы. Но не мог не затронуть еще одну важную тему.
– Простите, вы можете уделить мне еще немного времени?
– Времени? Я никогда не думаю о нем. Этой мой принцип. Свои единственные часы я продал еще в юности. Стараюсь жить спокойно и просто, как счастливые дикари.
– Как вы относитесь к религии? С одной стороны, вы не посещаете службы в церкви, легко меняете христианские конфессии, в своих романах критикуете священников. С другой – подолгу жили в монастырях, ругаете атеизм Вольтера, в своих эссе нередко упоминаете Бога. Во что вы верите?
– Религия – это опиум для души. В малых дозах она полезна: успокаивает и лечит. Но в слишком больших – затуманивает разум и рассудок, делает человека агрессивным фанатиком. Религия (как и все в жизни) хороша в меру. Но вера в душе должна быть. Ведь Бог, разумеется, существует.
– Что для вас есть Бог?
– Я никогда не любил нудных средневековых схоластов вроде Фомы Аквинского. По-моему, нет ничего глупее, чем пытаться доказать бытие Бога научно, логически. Бог – это Великая сила, управляющая природой. Мы сами, ничтожные частички этой природы, что можем знать о Нем?
– На чем же тогда, по-вашему, должна основываться вера?
– На Ощущении Бога. И только на нем. Религия по своей сути не может быть научной, объективной. Понимаете, вы иногда просто чувствуете, что рядом с вами присутствует Нечто Высшее. Такое ощущение возникает (чаще или реже) у каждого человека. Лично меня оно осеняет каждый день. Но я не согласен с основной идеей нашей церкви. Она исходит из того, что человек изначально плох, греховен и лишь приобщение к Библии делает его добрым и праведным. Я же считаю наоборот. Всякий человек рождается добрым, но жизнь, общество, угнетение зачастую с годами делают его плохим. Таким образом, чтобы изжить грехи, надо обязательно в корне изменить само общество, а не просто подобострастно читать вслух Евангелие. Говоря начистоту, мне вообще не нужна церковь в качестве посредника между мной и Богом. Но при этом атеизм, отрицание Бога, мне кажется самым большим заблуждением, на которое способен человек.
– Именно поэтому вы так легко перешли из католичества в протестантизм и обратно?
– Скажу больше. Я не особенно принадлежу к христианству вообще. Я верю в Высшее Существо, чувствую Его поддержку, молюсь Ему, и мне этого достаточно. Я вообще не воспринимаю многое из догм. Например, в Новом Завете Сын Бога приходит в Иерусалим и всем людям открывает дорогу к спасению. А что делать душам тех людей, которые жили и умерли во все предыдущие века? За какие грехи Бог лишил их своей Благой Вести? Авозьмем, скажем, индейцев в Америке. Если бы Колумб не открыл их земли, то они так и жили бы, ничего не зная о Христе. То есть без торговца Колумба перед индейцами были бы навек закрыты Врата Божьи? Форменная бессмыслица.
– То есть вы верите в Бога, но не принадлежите ни к какой конкретной религии. Существует ли, по-вашему, противоречие между верой и наукой, как это утверждает Вольтер?
– Нет никакого противоречия. Например, Ньютон убедительно, математически описал, как планеты движутся по своим орбитам. Но какими формулами описать ту Руку, что запустила их в полет?
– Не могу не спросить вас еще раз, напоследок. Вы непреложно убеждены в том, что ваша модель государства, общества принесет людям благо, а не обернется для них в итоге чем-то еще худшим?
Руссо посмотрел мне прямо в глаза. Впервые с минуты нашего знакомства его взгляд казался абсолютно спокойным, уверенным, а голос звучал ровно и весомо.
– Да, я полностью убежден в этом. Чем заметнее в государстве различие в уровне жизни богачей и бедняков, чем более вопиюще положение, когда у одних людей есть только права, а у других – лишь обязанности (вместо того чтобы разделять и то и другое поровну), тем более шатки, неустойчивы и гнилы основы таких обществ и государств. У узаконенной системы бездушной, аморальной, циничной эксплуатации одних людей другими нет и не может быть будущего.
Я поблагодарил философа за беседу и пожелал ему и его жене удачного путешествия.
В Британии Руссо (в обществе другого великого философа XVIII века Дэвида Юма) прожил несколько лет. Юм делал все, чтобы Руссо чувствовал себя комфортно (содержал, терпел все выходки и капризы, даже выхлопотал ему приличную пенсию). Но Руссо считал, что на Туманном Альбионе он находится в тюрьме – в ужасном холодном сыром климате, чужой культуре, вдали от многочисленных поклонников его творчества. Король Франции смягчился и негласно разрешил философу вернуться на родину. Последнее десятилетие жизни Руссо провел в достатке и комфорте, написал еще несколько популярных романов. Но его психическое состояние ухудшалось: он боялся людей, не раз внезапно и тайно менял места жительства, опасаясь преследований.
Руссо умер в возрасте около семидесяти, не дожив до главного события своей жизни – Великой французской революции 1789 года.
Сочинения Руссо стали библией вождей революции. Монархия низложена, все люди объявлены равными. Даже официальной религией Республики вместо христианства объявлена вера в описанное Руссо абстрактное «Высшее Существо».
Но уже скоро страшные гильотины, на которых были обезглавлены сначала тысячи «несогласных», а затем и многие из самих революционеров (в результате борьбы между ними за власть), окрасили это, казалось бы, прогрессивное социальное событие в мрачные, трагические тона. Республика (Директория) привела к еще большему обнищанию простых людей и продержалась всего десять лет, после чего ее свергла контрреволюция, в результате которой к власти во Франции снова пришел император. Но совершенно иного, чем раньше, толка – молодой современный генерал Наполеон Бонапарт. Сейчас, по прошествии двухсот с лишним лет, французы (несмотря на всю кровь и ужасы гильотин) расценивают революцию положительно: как тяжелое жестокое событие, но резко ускорившее давно назревшую модернизацию, обновление их страны.
Оценки философского, идейного наследия Жана-Жака Руссо сильно разнятся. Его всегда превозносили сторонники левых социальных идей, в том числе коммунизма. Критики из лагеря консерваторов обычно упрекали мыслителя в поверхностности и наивном отрыве от реальности, которые впоследствии привели к десяткам миллионов жертв жестоких тоталитарных режимов по всему миру, скрывавшихся под вывеской «обществ всеобщего счастья».
И все же великую идею свободы, равенства и братства трудно назвать не гуманистической.
Глава 2
Простое богатство для всех
(Адам Смит)
Место: Эдинбург, Шотландия (Великобритания)
Время: 1778 год
Всего за одно столетие Великобритания прошла невероятный путь от экономически отсталой, почти захолустной страны на задворках Европы к статусу зарождающейся великой империи, лидера всего цивилизованного мира.
Множество факторов и обстоятельств сложились воедино. Успешность колониальной политики Англии, благодаря самому современному флоту захватившей многие из крупных, самых лакомых земель на новооткрытых континентах; расцвет английской науки, где после Ньютона появилось созвездие ярких ученых; проблемы стран континентальной Европы, которые или находились в застое из-за абсолютизма власти, или сотрясались религиозными войнами. Но главной силой, стремительно превращавшей Великобританию в мировую империю, был мощный рост ее новой капиталистической экономики. Наибольшая свобода предпринимательства в сочетании с постоянными технологическими открытиями превратила в XVIII веке Туманный Альбион во «всемирную мастерскую». Здесь, на множестве новых фабрик, производились самые сложные, технологичные товары той эпохи, и затем они экспортировались по всему миру.
Разумеется, плоды потрясающего экономического успеха нации распределялись в английском обществе неравномерно. Аристократическая, промышленная и военная элита страны вышла на новый уровень благосостояния, которому втайне завидовал остальной мир. Но основная масса британцев, как и раньше, трудилась на фабриках на износ за скромный заработок, на уровне прожиточного минимума, и была недовольна своим материальным положением. И все же капиталисты (разумеется, вовсе не из человеколюбия) впервые в истории начали понимать, что многое в их теперь более сложных, чем раньше, производствах зависело не просто от количества рабочих, а от уровня их навыков, квалификации. Их все еще можно было «держать в черном теле», скромно оплачивая их труд, но игнорировать, как прежде, все их пожелания, относиться как к бесправным бессловесным рабам стало невозможно. Впервые возникают профсоюзы; государство рекомендует минимальную зарплату и вводит правила безопасности труда.
Скорость и качество изменений в английской экономике в те годы были беспрецедентными за всю мировую историю. Осмыслить их, понять, что за законы царят в этой странной новой, теперь в основном промышленной, а не сельскохозяйственной национальной экономике, какое-то время не удавалось. Точнее говоря, никому и в голову не приходило поставить перед собой такую цель.
В этот раз я был руководителем крупного лондонского книжного издательства. К концу XVIII века у нас ежегодно выходило несколько сотен наименований книг. Я сам редко ездил в командировки – для этого у нас были разъездные сотрудники рангом ниже. Но в этот раз поручение и книга, о которой шла речь, были столь важными, что я не мог никому доверить эту миссию.
Тем более что цель моей поездки – Эдинбург, столица Шотландии, – была приятной во всех отношениях. Промышленная революция все активнее охватывала Британию, особенно много новых фабрик появлялось в центре и на севере Англии. Население Англии благодаря тому же сверхбыстрому экономическому росту росло не по дням, а по часам: удвоилось за последнее столетие, чего еще никогда не было. Но Эдинбург, старинный рыцарский город, позже красочно описанный в романах Вальтера Скотта, бумом промышленности пока совершенно не был затронут. Уже в те времена сюда нередко приезжали просто туристы: город, расположенный на берегу залива, соединявшегося с Атлантикой, на изумрудных, покрытых дымкой тумана холмах, был и остается необычайно красивым, живописным. В центре Эдинбурга, на холме, возвышается видный отовсюду прекрасный замок из темно-серого камня, словно вырастающий из самой гранитной породы. В Средние века, когда Шотландия была независимой, этот замок служил резиденцией ее королей, а теперь в нем располагалась местная администрация.
Человек, с которым у меня была назначена встреча, отличался безупречной пунктуальностью. Мы заранее обменялись письмами, условившись встретиться в обед, в приличной харчевне с видом на замок с одной стороны и прекрасной панорамой гор и залива – с другой. В начале апреля в Лондоне стояла уже вполне теплая погода. Но здесь, в Шотландии, с на редкость капризным, непостоянным климатом, было очень свежо: всего несколько градусов выше нуля. С утра, по моим наблюдениям, небольшой дождь успел пройти три или четыре раза. Каждый раз он длился недолго, минут пятнадцать, после чего мгновенно выглядывало солнце. Шотландцы на дождь вообще никак не реагировали: судя по всему, мокнуть под ним им было так же привычно, как дышать. Я пришел на встречу заранее, чтобы какое-то время просто посидеть на чистейшем воздухе, почувствовать атмосферу этой очень симпатичной, гордой, самобытной страны. Я заказал аппетитную жареную треску, свежую, только что выловленную, запивая ее темным, немного подогретым по моей просьбе домашним элем. Вершины холмов на горизонте еще были покрыты серым талым снегом, но на их склонах пробивалась ярко-зеленая трава. Вероятно, там паслись многочисленные фермерские стада овец, но с такого расстояния их было не разглядеть.
О биографии моего собеседника сложно сказать что-либо, кроме того, что она ровна и безупречна. Адам Смит (даже его имя и фамилия были самыми распространенными в Британии) родился в Керколди, старинном шотландском городке вблизи Эдинбурга, к северу через залив (имей я мощный бинокль, то я, вероятно, мог бы, не вставая со своего места, издали рассмотреть его). Семья была бедной, и Адам с детства осознал, что единственный путь к достатку и достойному положению в обществе – ежедневная кропотливая учеба. Он читал все книги, которые мог достать, а по окончании школы поступил в университет Глазго (крупнейшего, хотя и не столичного, города Шотландии). Там он проявил себя блестящим студентом, выучил несколько языков, получил степени по философии и истории. Его приняли в Оксфорд, что в те времена для безродного бедного молодого шотландца было почти невозможным. Учебу в Оксфорде Смит вспоминал как свои худшие годы: жил впроголодь, сокурсники высмеивали его шотландский акцент и одежду, чопорные преподаватели не любили его за частые споры на лекциях. Но диплом Оксфорда дал ему путевку в высшее общество. По возвращении в университете Эдинбурга ему предоставили кафедру и оклад; его лекции на разные темы (Смит был редким эрудитом, мог преподавать все: от математики до литературы и истории) привлекали толпы слушателей. Дальнейшая карьера Адама Смита была очень успешной. К пятидесяти годам он стал почетным профессором университетов Глазго и Эдинбурга, уважаемым членом Лондонского королевского общества, которое полувеком ранее возглавлял Ньютон. Разбогател, получая оклады двух университетов и пожизненное содержание от одного видного лорда за отличное воспитание его сына, которого лорд отдавал Смиту на попечение. Впрочем, к деньгам ученый был равнодушен: всегда жил аскетически, не был женат (имел отношения, но в брак они не переросли; детей у него также не было). Свои деньги тратил на покупку книг, в том числе редких (после его смерти осталась большая уникальная библиотека), и благотворительность. Однажды совершил долгое путешествие по Франции, познакомившись лично с самыми видными французскими учеными; эта поездка еще расширила его знания о мире. Наконец, достигнув всего, чего он хотел, Смит ушел с академических должностей и вернулся в родной Керколди, где засел в домашней тишине на пять долгих лет, чтобы написать главный труд своей жизни. Книга «Исследование о природе и причинах богатства народов» стала первым в истории широким, фундаментальным, всеобъемлющим (для своего времени, конечно) экономическим исследованием. Труд вышел огромным, более чем на тысячу страниц. Целиком, со всей приводимой в нем статистикой, его издали только в университетах. Для широкой публики была опубликована облегченная и сильно сокращенная версия работы. Хотя наше издательство не ожидало от этой, казалось бы, слишком сложной и сухой для простого обывателя книги коммерческого успеха, в Лондоне она внезапно стала бестселлером. Весь ее тираж был быстро распродан, и его не хватило всем желающим. Я приехал на встречу со Смитом для того, чтобы обсудить детали второго издания его книги, еще большим тиражом.
Я еще издали заметил степенного, стройного, безупречного, словно с картинки, английского джентльмена, в неизменном белом парике, строгом сером костюме, с тросточкой в руках. Хотя на слово «английский» он бы обиделся: всегда и везде подчеркивал, что он шотландец. В воспоминаниях современников об Адаме Смите как о человеке не написано ни одной плохой строчки. Его описывали как безупречно вежливого, тактичного, доброжелательного собеседника. Единственной странностью Смита, отклонением от нормы, отмечали его привычку часто вслух (причем довольно громко и четко) разговаривать с самим собой. Видимо, приобрел он ее еще в юности, в трудные одинокие годы в Оксфорде, а с годами просто перестал скрывать ее. Впрочем, могло быть и другое объяснение: в те годы Адам Смит был единственным в мире крупным экономистом, поэтому содержательно подискутировать по разным вопросам этой интересной, важной, но только зарождавшейся науки он мог только с самим собой.
Впрочем, когда мы поздоровались, внешность Смита вблизи, его лицо показались мне не слишком аристократическими: крупный мясистый нос; не тонкие, а простые и даже несколько крестьянские черты лица. Но как только он заговорил, я попал под действие его обаяния. Уверенный, но не надменный, а подчеркнуто вежливый интеллигентный голос, вдумчивый взгляд карих глаз делали его приятным собеседником. Он поинтересовался, была ли моя поездка из Лондона комфортной, после чего мы перешли к делам.
– Профессор Смит, хочу вас поздравить с большим успехом вашей книги. Для нас будет честью выпустить ее второе издание спустя всего полгода после первого.
– Спасибо. Вам наверняка известно, что после завершения книги я решил не возвращаться к преподаванию. Теперь работаю на госслужбе – главой таможни Эдинбурга. Составляю новые – более либеральные, чем раньше, – правила торговли, хотя бы в пределах Шотландии. Я решил, что обязан на практике применить те выводы, к которым пришел в моем исследовании.
– Понимаю и считаю это чрезвычайно разумным. Любая наука мертва, если ее открытия не применяются в реальной жизни. Помимо подписания договора на второе издание, я приехал с еще одной целью. Буду вам признателен, если вы мне поможете.
– Обещаю сделать все, что в моих силах.
– Мне поручено написать предисловие к новому изданию вашей книги. Такое, чтобы читателям, особенно молодым, было бы легче воспринять ее идеи. А также заранее сделать серию объявлений о ней – так сказать, рекламную кампанию. Для успеха этой кампании нам было бы полезно проиллюстрировать ее основные идеи на понятных всем простых практических примерах. Именно это я и хотел с вами обсудить.
Адам Смит сделал небольшую паузу, вглядевшись в водную гладь залива и очертания берега за ней. Затем, решив что-то, сказал:
– Здесь, в Эдинбурге, я вряд ли могу показать вам нечто полезное. Наша прекрасная столица пока никак не соприкоснулась с промышленным бумом. В центре города находятся администрация и учебные заведения, а сразу за ними начинаются фермы, которые за тысячу лет не изменились. Но мы можем сесть в экипаж и отправиться на запад, в сторону Глазго. Посередине между этими городами появилось несколько крупных фабрик. Погода замечательная, поэтому мы сможем добраться туда за пару часов, не больше.
Поездка в экипаже неожиданно стала для меня испытанием. Несмотря на то что сиденья внутри кареты были мягкими, из-за деревянных колес (шины были изобретены на столетие позже, причем здесь же, в Шотландии) каждая кочка грунтовой ухабистой, с ямами, дороги ежеминутно отдавалась болезненным встряхиванием. Когда мы прибыли на место, мне казалось, что мой зад и низ спины превратились в сплошной синяк. Но для Адама Смита, как и для любого человека того времени, условия поездки казались привычными и комфортными. По пути я поинтересовался:
– Живя в Эдинбурге, в этой живописной, но все-таки глуши, далеко от Лондона, вы не ощущаете свою оторванность от центров цивилизации и науки?
– Ну что вы. Разумеется, нет. Вы как истинный англичанин недооценивете наши края. Здесь, в Эдинбурге, в квартале от меня живет Джеймс Уатт, технический гений, изобретатель первого в мире парового двигателя. Мы с ним дружим. У меня нередко гостит Дэвид Юм, великий философ, тоже шотландец. Раз в год я бываю в Лондоне, в Королевском обществе, где обстоятельно общаюсь с ведущими учеными Англии. В поездке по Франции я познакомился на одном из научных вечеров с Вольтером. Мы долго беседовали с ним и, кажется, показались друг другу интересными. Я регулярно получаю письма от экономистов из разных стран, которые обсуждают мои идеи и предлагают свои собственные; я стараюсь на них отвечать. Так что если я порой и страдаю, то от избытка общения и всеобщего внимания, а вовсе не от их недостатка.
Фабрикой, где мы наконец высадились, оказался железоделательный завод. Здесь трудились сотни рабочих. Звон тяжелых ручных инструментов в темных и примитивных по современным понятиям цехах был столь громким, что у меня на время заложило уши. Смит указал мне на груду готовых небольших железных изделий, аккуратно уложенных в штабеля.
– В этом цехе изготавливают подковы для лошадей. Как вы знаете, плохие подковы – вечная проблема. Из-за них лошади служат меньше, чем могли бы. Раньше подковы делали деревенские кузнецы – из грубых заготовок, выполняя по очереди все операции. В итоге один кузнец за день мог сделать не больше десяти подков, и их качество было низким. В этом цехе процесс изготовления разбит на восемь стадий, которые выполняют восемь рабочих. Каждый из них набил руку на своей операции и делает ее быстро и четко. Кроме того, сам процесс продуман до мелочей технологами. Рабочие совершают минимум переходов с места на место и вооружены самыми удобными инструментами. Бригада изготавливает за день восемьсот подков. То есть сто штук на одного рабочего. Производительность труда оказывается ровно в десять раз выше, чем у простого кузнеца, не говоря уже о более высоком качестве, надежности, долговечности изделий. Разделение труда и продуманность, регламентация производственных процессов – это первый важнейший фактор бурного роста нашей промышленности в последние годы.
Мы посмотрели еще несколько цехов, затем направились на находившуюся неподалеку новую ткацкую фабрику. Выйдя на свежий воздух, снова увидев свет и услышав весеннее пение птиц, я испытал заметное облегчение. Тем временем Адам Смит продолжал рассуждения, расширив свои логические выводы. Теперь они уже не казались такими уж простыми, очевидными.
– Мы только что наблюдали самый примитивный положительный эффект разделения труда. Перелопатив массу данных из разных стран Европы, я пришел к ясному неопровержимому выводу. Разделение труда точно так же увеличивает производительность труда и повышает благосостояние людей и тогда, когда мы говорим о разумном разделении труда между странами. Например, на виноградниках Бордо благодаря прекрасному южному климату, а также знаниям и опыту местных виноделов производят божественное вино. В нашем климате выращивать виноград невозможно. Но зато шотландские горы – это безбрежный океан сочной, свежей, питательной травы для овец. Помножьте это на мощь наших текстильных фабрик, и вы поймете, что ни одна страна мира не может продавать соседям столь же дешевую, прочную качественную овечью пряжу, сукно, одежду. В результате мы, шотландцы, можем пить лучшее в мире вино из Бордо, а французы – носить наши отличные недорогие ткани. Обе стороны остаются в большом выигрыше. Разумеется, это простой пример. Но вы хотели такие примеры. Международное разделение труда – второй фактор роста.
– Какой из этого следует практический вывод?
– Абсолютно логичный и чрезвычайно важный. Государства не должны препятствовать свободной торговле между странами высокими искусственными пошлинами и налогами. Допустим, если правительство введет высокую пошлину на французское вино, то оно станет слишком дорогим. Нам придется ввозить худшее вино из других стран или даже вовсе обходиться без него. Таким образом, в явном проигрыше останутся все: и французские виноделы, потерявшие сбыт, и британские потребители, перешедшие на худшие напитки. Самое интересное состоит в том, что проиграет в этом случае и казна государства, которая не получит никаких таможенных отчислений.
– Но что, если лучший импорт уничтожит собственную аналогичную отрасль промышленности?
– Я не вижу в этом ничего страшного. Это будет просто означать, что эта отрасль нашей стране не нужна и нам безусловно полезнее и выгоднее сосредоточиться на производстве чего-то другого.
Помещение ткацкой фабрики выглядело приятнее металлургического цеха. Оно было просторным, светлым; я насчитал более ста ткацких станков, которые стояли в два ряда, вдоль стен, плотно друг за другом; при этом все или почти все мерно, ритмично работали. В широком проходе между ними деловито ходили рабочие, и мужчины, и женщины; один оператор управлялся сразу с несколькими станками. Женщины-рабочие выглядели мило и опрятно; что было особенно важно – работа в этом ткацком цехе нового поколения впечатления чрезмерно физически тяжелой не производила.
Адам Смит с гордостью пригласил меня зайти в это помещение, которое было оборудовано по последнему слову техники того времени.
– Прогресс в текстильной промышленности – просто поразительный. Всего за одно поколение изобретатели внедрили «летающий» челнок для прядильных машин, механические ткацкие станки. Теперь мы можем не только обрабатывать нашу шерсть, но и делать сверхпрочные, долговечные ткани из хлопка, привозимого из Америки. Я произвел расчеты и выявил, что благодаря всему этому новому оборудованию производительность труда в текстильной промышленности только при нашей жизни выросла в сорок раз. Это поразительно. Мы стоим также на пороге взрывного роста машиностроения. Вы слышали о таких недавних удивительных изобретениях, как токарный и фрезерный станок?
Я кивнул. Действительно, на глазах людей поколения Смита рождался новый индустриальный мир.
– А выплавка стали? Веками кузнецы использовали для нее едва тлеющий древесный уголь. Теперь, когда мы научились перерабатывать природный уголь в кокс с куда более высокой температурой горения и теплоотдачей, можно будет выплавлять не тонны, как раньше, а тысячи тонн стали в день.
– Насколько я понимаю, мы подошли к третьему важнейшему фактору роста.
– Совершенно верно. Научный и технологический прогресс набрал в последнее время невероятный темп. Наши фабрики преображаются благодаря возможностям новых удивительных станков, механизмов. Но, кажется, мы начинаем отвлекать рабочих от дела.
Мы вышли с фабрики, направившись к небольшому городку, где планировали переночевать. Солнце стало клониться к закату, а над нашими головами нависла свинцовая туча. Вечером собирался разразиться ливень, и ехать в темноте в экипаже по разбитой грунтовке обратно было небезопасно. Городок, куда мы направлялись, находился недалеко. Большинство работников фабрик, в которых мы побывали, жили как раз в нем. Даже издали это место, с аккуратными рядами однотипных, но симпатичных деревенских домов с белыми стенами и серыми крышами, казалось уютным, чистым, вполне благополучным. Я обратил на это внимание Смита.
– Конечно. Хотя так наши рабочие жили далеко не всегда. Видели бы вы, в каких тяжелых условиях борются за свое выживание шотландские фермеры высоко в горах, с их натуральным хозяйством. Огромные семьи ютятся в полуразваленных домишках с одной комнатой. Если жена фермера рожает десятерых, а из них доживают до совершеннолетия хотя бы трое, в деревнях это считается удачей. Собственно, мы перешли к еще одному условию роста производства. Если спросить лично меня, то именно его я считаю важнейшим.
– И что же это за условие?
– Достойная заработная плата. Рабочий, трудом которого пользуется капиталист, должен вести пусть не богатую, но нормальную человеческую жизнь. Даже если он один кормилец в семье, где больше никто не работает, его жена, дети, и он сам как минимум должны не голодать, иметь крышу над головой и возможность носить хоть и самую простую, дешевую одежду, но все же не лохмотья.
– Я думаю, далеко не все капиталисты полны заботы о своих рабочих, к сожалению.
– Да, это так. Вечерами в ресторанах мне приходилось не раз слышать от них, что рабочим слишком много платят, они этого не заслуживают и от этого они даже якобы становятся ленивыми. Мои исследования и расчеты доказывают, что это не так. На самых эффективных предприятиях работает и самый хорошо оплачиваемый персонал. Понимаете, это ведь прямое следствие научного прогресса. Раб под хлыстом надсмотрщика может быстро рыхлить землю мотыгой. Но для фабрик со сложными технологиями рабы – это, наоборот, то, что может их сломать, остановить. Свободные, удовлетворенные жизнью рабочие – вот единственный путь к прогрессу.
Перед городком находился небольшой продуктовый рынок. Он специально располагался так, чтобы работникам фабрик, возвращающимся домой вечером, было удобно по дороге купить себе еду. Ассортимент рынка был скромным: овощи, парная телятина, озерная рыба и темный мутный деревенский виски, разлитый в большие, грязноватые снаружи бутыли. Я поинтересовался ценами. Оказалось, что продукты здесь, в шотландской глуши, стоили в два, три, а иногда и четыре раза дешевле, чем на рынке Ковент-Гарден в центре Лондона.
Я спросил Адама Смита, как он мог бы объяснить столь серьезный разброс цен и как вообще, по его мнению, формируется рыночная цена любого товара.
– Ну, конечно. Увлекшись восторгами по поводу прогресса, я не раскрыл вам суть самого объемного раздела моей книги.
– Пока мы, не торопясь, идем, подыскивая достойную харчевню для ужина, а капли дождя – все еще редкие, у нас достаточно времени.
– Несомненно. Итак, цена любого товара определяется соотношением рыночного спроса на него и предложения производителей.
Я подумал, что в наше время подобная фраза звучала банально, почти как «дважды два – четыре». Но Адам Смит был первым экономистом, кто внятно сформулировал суть спроса и предложения.
– Главное в этой связке – рыночное предложение. Никто не станет производить товар, чтобы затем продать его ниже себестоимости. Себестоимость складывается из трех составляющих: земельная рента (для любого производства нужна площадь), заработная плата и прибыль предпринимателя. Зарплата работника может сильно колебаться в зависимости от сложности, физической тяжести и даже степени «неприятности» работы. Прибыль – это и «зарплата» предпринимателя за организацию производства, и процент дохода на вложенный им в дело капитал, и его справедливое вознаграждение за взятые им на себя коммерческие риски.
– Как же тогда объяснить большую разницу цен на рынках в деревне и столице? Ведь если не считать затраты на перевозку, все остальное: рента, зарплата и прибыль производителя – примерно те же.
– А вот здесь громко заявляет о себе фактор спроса. Мимо этого рынка ежедневно проходят только жители этого городка. В Лондоне потенциальных покупателей – миллион и у многих высокий уровень дохода. Таким образом, иногда благодаря большому платежеспособному спросу цена на тот или иной товар резко взлетает, но его все равно покупают, даже несмотря на то что его себестоимость, или «естественная цена», как я ее называю, гораздо ниже.
– Не могу не согласиться. В вашей работе еще есть два больших раздела: о капитале и налогах.
– Постараюсь быть кратким. Капитал – важнейший фактор преуспевания, всеобщего благосостояния любой нации. Капитал бывает двух видов: оборотный и основной. Оборотный капитал важен в торговле: это сумма средств, которую купцы могут потратить на товар, а затем она возвращается им с прибылью после продажи. Главное – это основной капитал. Богатство нации в виде заводов, шахт, ферм, станков, движимого и недвижимого имущества, которое используется в процессе производства. Часто капиталисты возводят новые фабрики не на свои средства, а на кредиты банков. Чем стабильнее, здоровее, лучше экономика той или иной страны, тем ниже в ней банковский процент и доступнее кредиты. Например, у нас, в Британии, капиталист с хорошей репутацией может получить кредит в банке всего под пять-шесть процентов годовых. Тогда как в столь же развитой, но политически неспокойной Франции кредиты выдаются под десять процентов и выше. В отсталых странах ставка доходит до пятидесяти. Разумеется, чем более доступен и дешев кредит, тем охотнее капиталисты будут инвестировать в беспрерывный рост эффективности своих производств. Именно поэтому я уверен, что Англии в ближайшее столетие в мире не возникнет никаких серьезных экономических конкурентов. Правда, если посмотреть еще дальше в будущее, я предвижу бурный рост наших бывших колоний за океаном, в Америке, которые недавно получили независимость. В Новом Свете теоретически потрясающе удобные условия для добывающей промышленности, а также для масштабных машинных производств.
– Согласен. Я полагаю, что для экономики важно и то, чтобы налоги в стране были низкими?
– Меня больше волнуют ставки ввозных и вывозных пошлин на товары для свободы торговли. Что касается внутренних налогов, то здесь важнее другое условие. Они должны быть справедливыми.
– Что вы имеете в виду?
– Во-первых, налоги должны платить абсолютно все граждане (кроме короля). Во-вторых, ставки налогов должны быть примерно равными в процентах от доходов каждого человека. Далее, они должны быть установлены законодательно и известны заранее. Наконец, в-четвертых, оплата налогов по форме и срокам должна быть удобной для граждан. Добавлю сюда, что для ощущения людьми справедливости налоговой системы их страны важно, чтобы король и правительство как можно меньше тратили их на разную ерунду вроде пышных празднеств, ювелирных украшений для венценосных особ, дорогой одежды, кричаще богатых замков лордов и прочей знати. В идеале весь государственный бюджет должен тратиться только на три цели: военную безопасность, отправление правосудия и содержание необходимых обществу государственных служб.
– А как же поддержка неимущих слоев населения, медицина для бедняков, пенсии, наконец?
– Я полагаю, что то, что вы перечислили, – не забота государства. Его главная задача – обеспечение бесперебойной работы великого рыночного механизма в масштабах всего общества. А рынок, в свою очередь, сам неизбежно приведет сначала к все большему смягчению, а затем и полному искоренению любых насущных социальных проблем.
– Мне кажется, что к концу нашей беседы мы невольно подошли к главной идее вашей книги.
Уже стемнело. Мы нашли скромное, но уютное и чистое заведение, где могли поужинать и переночевать. Меню в харчевне не было. Хозяин на словах перечислил несколько имевшихся у него блюд, которые он мог быстро приготовить. Я попросил жаркое из барашка, мой собеседник выбрал копченого лосося. На двоих мы взяли кувшин слабоалкогольного деревенского эля. Наконец Адам Смит закончил свою мысль:
– Посмотрите вокруг. Везде и всем в нашем обществе управляет невидимая, но поистине великая рука свободного рынка. Возьмем даже это заведение. Я вполне допускаю, что хозяин – от природы милый человек. Но даже если нет, он все равно искренне рад обслужить нас наилучшим образом. Почему? Благодаря волшебному механизму, «невидимой руке рынка». Только представьте себе на минуту, труд скольких людей необходим, чтобы мы с вами сейчас могли приятно, в комфорте поужинать. Строитель построил этот дом, металлург выплавил сталь для кухонной утвари, суконщик выткал эту красивую, мягкую скатерть. Рыбак на лодке, построенной для него плотником, выловил лосося в Атлантике, под сильным напором ветра и дождя рискуя жизнью. Фермер вырастил барашка, возможно взяв для этого ссуду у банкира. Другой фермер целый год ухаживал за полем, на котором колосился ячмень для нашего эля. Торговец едой привез эти продукты в городок, а торговец льдом обеспечил для нас их свежесть и сохранность до этой минуты. Я перечислил далеко не всех участников длинной цепи людей, неустанно трудившихся, чтобы мы с вами могли здесь поесть. А нам – вот волшебство – достаточно вынуть из кармана несколько серебряных монеток, и мы вот так просто, разом облагодетельствуем абсолютно всех в этом длинном ряду работников.
Та же самая «невидимая рука» рынка (если только в ее работу грубо не вмешиваются посторонние силы) обеспечивает постоянный безостановочный рост производства и улучшение технологий. С каждым годом «пирог», находящийся в распоряжении общества, понемногу растет. За десятилетия рост становится большим, за столетия – до неузнаваемости меняет все аспекты жизни. Разумеется, всегда одни люди будут богаче других: так уж устроен наш мир. Но при этом плоды прогресса экономики (даже если относительная степень неравенства остается на одном уровне) благодаря свободному рынку достаются всем слоям общества. Никто с этого общего пира не уйдет голодным.
Ужин после целого дня на свежем воздухе показался мне восхитительным.
На ночь ученый предпочел широкий мягкий диван в гостевой комнате, а я (так как ночью дождь прошел и все небо было в ярких звездах) решил переночевать под открытым небом, на большом стоге сена, под приятным толстым мягким одеялом из овечьей шерсти.
Учение Адама Смита стало во многом началом, отправной точкой для дальнейшего развития всей мировой экономической науки. Многие из высказанных им предположений о том, как работает экономика государства, по сей день считаются в общем правильными.
В то же время знаменитая идея о волшебной, упорядочивающей все и вся невидимой руке свободного рынка в XX веке стала огромным и «кровавым» полем битвы либералов, в основном согласных со Смитом (с некоторыми исключениями), против сторонников левых идей, полностью отвергающих его учение (нерегулируемый рынок, по их мнению, всегда приводит к огромному и порочному социальному неравенству, уничтожает экологию, поэтому государство обязано активно управлять им). Умеренные экономисты «посередине» согласны с тем, что регулирование должно быть, но только до какой степени? Этот вопрос открыт и не вполне ясен даже сегодня.
В широком смысле Адам Смит предложил единственно возможную положительную альтернативу «революционной» теории его видного современника, француза Жан-Жака Руссо (они не были знакомы, но, что любопытно, имели общего близкого друга – философа Юма). Согласно Смиту, избавиться от бедности и несчастий угнетенных людей возможно не «разделением всего поровну», а только через постоянный, неуклонный экономический прогресс всех слоев общества.
Вне зависимости от личных взглядов и предпочтений стоит признать, что в мировой истории до сих пор прагматичная концепция Смита во многом взяла верх над страстными идеями Руссо.
Глава 3
Сияние чистого разума
(Иммануил Кант)
Место: Кёнигсберг, Пруссия (современный Калининград, Российская Федерация)
Время: 1785 год
Последние два десятилетия 1700-х годов в мире были бурной эпохой. В них уместилась Великая Французская революция и последовавшее за ней падение Республики с реставрацией монархии; окончательное обретение независимости США с их первым президентом Джорджем Вашингтоном. Важным событием тех лет в Европе стало усиление влияния и мощи Пруссии, некогда бывшей лишь одной из многих небольших немецких стран. Теперь же, после серии удачных войн ее короля Фридриха II с соседями, Пруссия занимала уже около половины территории современной объединенной Германии и фактически была ее исторической предшественницей.
Первой столицей Пруссии (до всех завоеваний) был небольшой, уютный, с богатой архитектурой город Кёнигсберг, стоявший на берегу живописного залива, соединявшегося с Балтийским морем, восточнее всех других немецких земель. Несмотря на важное административное значение, этот город был провинцией, жизнь в которой текла неспешно. Позже столица Пруссии переместится в ее центр, в Берлин, после чего Кёнигсберг станет еще более тихим провинциальным местом.
В этот раз у меня не было определенной профессии. Я прибыл в Кёнигсберг утром, в осенний день, заранее, чтобы прогуляться по улочкам этого интересного города. Хотя дата моего посещения отстояла от современности всего на два с половиной столетия, в наше время город изменился до неузнаваемости. Сейчас он называется Калининград, принадлежит России и напоминает современные восточноевропейские города. Почти все его исторические здания были уничтожены в ходе Второй мировой войны, когда его старый немецкий центр был стерт с лица земли бомбами, а впоследствии его, по сути, так и не восстановили.
Кёнигсберг конца XVIII века был очень живописен, хотя кому-то его архитектура могла показаться мрачноватой. Практически все здания были построены в едином стиле: ровной кладкой массивных темно-красных кирпичей; многие дома венчали острые шпили. В центре города возвышался массивный широкий замок Кёнигсберг (ныне не существующий) с круглыми серыми башнями по бокам и узкой, высокой красной башней с часами и шпилем посередине. По соседству с замком находился впечатляющий изысканный собор, тоже из красного камня; сразу за ним располагались несколько зданий университета Кёнигсберга, одного из самых старых и уважаемых в Германии той эпохи. Уникальный колорит городу (в то время, по современным меркам, небольшому) придавали виды живописных изрезанных бухт и залива Балтийского моря на горизонте, очень свежий (хоть порывами и сильный) соленый ветер, все время дувший от моря, а также небольшая река. Перед тем как впасть в залив, она разделялась на несколько узких рукавов, протекающих по центру города, через которые горожане переходили по старинным мостам. Всего этих мостов в те времена было семь. Гениальный немецкий математик Эйлер даже доказал знаменитую теорему «о семи мостах Кёнигсберга», гласящую, что невозможно пройти по всем мостам, не пройдя хотя бы по одному из этих мостов дважды. Позже было доказано, что можно пройти по всем мостам однажды, если бы мостов оказалось не семь, а восемь.
Неизвестно, знал ли о теореме Эйлера ученый, с которым мне предстояло встретиться в этот раз. Это был человек энциклопедических знаний, но чистая математика оставалась едва ли не единственной наукой, которой он не занимался (хотя и уважал ее). Он служил заместителем ректора университета. Ему было около шестидесяти, и все годы своей жизни он провел в родном Кёнигсберге практически безвыездно. Эта его странная нелюбовь к путешествиям объяснялась, во-первых, его почти маниакальной приверженностью к неизменному распорядку дня на протяжении всей жизни (каждый день от пробуждения до отхода ко сну у него был расписан по минутам, и это расписание никогда не менялось), а также необычной способностью этого ученого «путешествовать в воображении», на основании тысяч прочитанных им книг. Его знакомые, планировавшие поездки, например, в Рим или в Венецию, бывали поражены, когда Иммануил Кант (так его звали) описывал им каждую улочку этих городов и все их достопримечательности, несмотря на то что сам никогда в них не бывал. Но, пожалуй, главной причиной домоседства профессора Канта был тот простой факт, что законы философии во всем мире – одни и те же. А эти законы интересовали его сильнее, чем что-либо еще на свете, включая путешествия.
Перед тем как прийти на лекцию профессора, я ознакомился с его биографией. Признаться, едва ли в истории человечества был другой мыслитель столь высокого масштаба с такой обычной, скромной, небогатой на события жизнью. Кант родился в семье ремесленника, интеллигентного и поначалу зажиточного, но впоследствии обнищавшего. Кант с юности был вынужден зарабатывать себе на кусок хлеба в прямом смысле слова, жил в самых скромных и стесненных условиях. При этом от природы он был человеком физически слабым, болезненным и тщедушным: родился таким маленьким, что поначалу его сочли мертвым; в детстве переболел всем, чем было можно. Когда он, уже взрослый, шел по улице, сзади его легко можно было принять за ребенка: ростом Кант был лишь чуть выше полутора метров, узенький в плечах, с тонкими руками и ногами, сутулой спиной. Разумеется, ни к какому физическому труду он не был пригоден. В академических науках после окончания университета Кант тоже поначалу звезд не хватал: его первые работы (в области физики и астрономии) были полны неточностей, а потому разгромлены рецензентами. Для чтения публичных лекций в молодости ему не хватало внешней представительности и уверенности в себе. В результате он долго, до сорока лет, не мог пробиться даже на должность штатного преподавателя, о которой мечтал, перебиваясь случайными лекциями и репетиторством.
Тем не менее главная черта личности Канта – последовательность во всем и верность себе, своим принципам – в конце концов принесла впечатляющие плоды. Канту удалось обратить на себя и свой талант внимание руководителей университета и даже высокопоставленных особ прусской элиты того времени: знакомство и общение с ним на светских приемах в Кёнигсберге производили на многих сильное, незабываемое впечатление. Постепенно, год за годом, Кант становился все более серьезным, глубоким ученым (например, его гипотеза о том, что ранняя Вселенная до появления звезд состояла из облаков раскаленного газа и пыли, правильна даже по современным понятиям); одновременно росло и его мастерство как лектора. После сорока лет Канта постепенно признали в научных кругах Пруссии и Европы, ему предоставили высокие должности в университете. Свои скромные сбережения Кант отдавал в оборот другу-банкиру, который удачно их приумножил. К шестидесяти годам до этого вечно бедный ученый впервые приобрел хороший собственный дом: небольшой, всего в несколько комнат, но зато находившийся в самом центре, на главной улице, с окнами с красивым видом на собор и университет.
Обустроившись наконец так, как он мечтал, Кант со всей накопленной страстью набросился на главный интересовавший его всю жизнь предмет – философию, метафизику. Объемный сложный трактат в несколько сотен страниц «Критика чистого разума» был написан Кантом менее чем за месяц, на одном дыхании (позже он объяснял, что сочинял эту книгу в уме всю жизнь и ее «оставалось только записать»). В последующие годы, уже после нашей встречи, Кант издаст еще два обширных трактата («Критика практического разума» и «Критика способности суждения») и ряд небольших, но также оставивших след в истории философии работ. Зрелый период жизни между шестидесяти- и восьмидесятилетием ученого оказался самым продуктивным. Удивительно: если бы Кант по какой-либо причине не дожил до шестидесяти лет, он вряд ли бы вообще стал известен.
Моя задача в этот раз была особенно непростой. Сложность заключалась в том, что больше всего на свете Кант ненавидел разговаривать о философии, особенно своей. Все свои мысли, сложные идеи он доверял только бумаге: в лучшем случае письменно дискутировал по отдельным вопросам своих умозаключений с другими европейскими философами в приватной переписке. Студентам он преподавал целый ряд разных дисциплин, в том числе историю философии, но собственных идей Кант касался на лекциях лишь вскользь.
В повседневной жизни Кант не был затворником и аскетом, как некоторые ошибочно полагают. Имел немало приятелей в городе, всегда обедал в обществе нескольких собеседников из разных сословий. Во время этих посиделок он обычно живо разговаривал, шутил, громко смеялся, иногда рассказывал неприличные анекдоты. Такие обеды и встречи служили для ученого моральной и интеллектуальной разрядкой.
Момент встречи с Кантом мною был выбран не случайно. Я знал, что накануне ученому пришлось уволить его давнего слугу, к которому он был сильно душевно привязан и к тому же всецело зависел от него в плане организации своего быта. Слуга был из отставных военных, дисциплинированный – исполнял все поручения хозяина четко и своевременно. Но были у него и недостатки, которые ему прощались до тех пор, пока Кант не поймал его с поличным при краже денег из кармана его плаща. После отставки слуги Кант дал объявление в местной газете о вакансии, но какое-то время вынужден был управляться со своим бытом сам.
Лекции в университете Кант читал каждый день (кроме воскресенья), в строго определенное время, с семи до одиннадцати часов утра. Сегодня темами были антропология и логика: меня эти предметы (учитывая, как далеко с тех пор наука продвинулась в них) не очень интересовали, поэтому я пришел в аудиторию к концу занятия, застав лишь последние минуты лекции. Я обратил внимание на то, что от робости, присущей Канту в молодости, теперь не осталось и следа. Этот маленький, сухой, но наполненный ощущением своей значимости человек царил в аудитории, преподносил материал ярко, торжественно, а сухие факты и выкладки перемежал остротами и понятными примерами из повседневной жизни. Бросалось в глаза то, что Кант-лектор был явно ярче, живее Канта-писателя. Общеизвестно, что при всей глубине и исторической значимости изложенного в книгах Канта философского материала язык, которым написаны эти труды, – тяжелый, запутанный, местами неясный даже специалистам. Читать оригинальные работы Канта, буквально продираясь через его бесконечно длинные предложения, иногда похожие на долгий бессмысленный набор сложных слов, непросто и профессиональным философам. Для обычных же читателей – это настоящее испытание, если не сказать насилие над их интеллектом и терпением.
Сам Кант не отрицал сложности для восприятия стиля своих главных работ, но объяснял это тем, что если бы он иллюстрировал каждую мысль легко понятным примером или образом, то толщина его книг превысила бы все разумные пределы. Сомнительное объяснение, на мой скромный взгляд.
Сразу по окончании лекции я представился профессору аспирантом, прибывшим из Берлина, племянником известного прусского графа. Я знал, что Кант относился к родовитым особам с некоторым подобострастием. Возможно, со времени его давней страсти к известной, богатой и красивой прусской графине, которая была в Кёнигсберге проездом. Он воспылал к ней, она ответила ему вниманием и уважением, но не более того. В любом случае их брак был невозможен в силу неравенства их положения, особенно тогда, когда Кант был еще молод, беден и не знаменит. Я сказал профессору, что в знак своего уважения готов некоторое время бесплатно помогать ему в быту в обмен на то, что он даст рецензию на мой выпускной философский реферат. После некоторого раздумья он согласился, поручив мне прийти к нему домой завтра, еще до рассвета.
Дверь своего дома Кант на следующее утро оставил незапертой. Проснувшись среди ночи, я поспешил на свою «службу», в тишине и темноте пустых улиц XVIII века не сразу найдя нужный адрес. Я вошел без двадцати пять, зажег в коридоре огонь в старой масляной лампе. Разогрел на огне в очаге медный чайник, вынул из шкафа одежду, по возможности разгладив ее, набил табаком большую трубку, лежавшую на кухонном столе. Разбудил Канта ровно в пять, как было положено. Профессор что-то пробурчал, затем, быстро одевшись, выпил чашку горячего чая, зажег трубку и с видимым удовольствием затянулся ее густым дымом. Так он делал всю жизнь: ничего не ел ни утром, ни вечером; выкуривал одну большую трубку утром и больше не притрагивался к табаку (что, как он признавался, давалось ему нелегко). В полшестого начало светать, профессор сел у окна и углубился в чтение и правку своих рукописей. В знаменитом романе русского писателя Михаила Булгакова есть эпизод, в котором Воланд (воплощение дьявола) рассказывает о своей беседе за завтраком с Кантом. Такого просто не могло быть: Кант никогда в жизни не завтракал и ни с кем по утрам не разговаривал. Без десяти семь он быстро собрал бумаги и ушел в университет (до которого было рукой подать); вернулся в одиннадцать и тут же молча сел писать свои сочинения, не отрываясь от них в течение двух часов. В час дня наступило время обеда – отдыха и единственного за день неспешного, обильного приема пищи. Нередко он приглашал знакомых на обед к себе домой, но сегодня он предпочел их компанию в ресторане на соседней улице. Меня он пригласил присоединиться. Если весь остальной день Кант старался провести как можно полезнее, не теряя напрасно ни минуты, то два часа за обедом он, наоборот, ленился и нарочито никуда не спешил. За столом, кроме нас двоих, было еще человек пять, в том числе одна милая девушка, просто знакомая Канта. Перемен блюд было много, разговор шел о мелочах, не слишком мне интересных. В три ученый поднялся из-за стола, расплатился, поблагодарил хозяина заведения и сотрапезников, затем мы вернулись к нему домой. Немного полежав после обеда, Кант взял в руки тросточку и ровно в 15:30 вышел на свою знаменитую прогулку. Ученый всегда старался идти настолько быстро, насколько мог, и следовал одним маршрутом. За два с половиной часа огибал по сложному кольцу весь город. Понимая, что с его слабым здоровьем физическая активность ему просто необходима, за всю свою жизнь он пропустил эту прогулку лишь дважды: один раз будучи не в силах оторваться от чтения лирического романа Руссо, второй раз (уже после нашей встречи) – когда узнал новость о французской революции и был неприятно потрясен ею.
Как назло, к этому времени небо покрылось тучами, зарядил сильный дождь, и мне все время прогулки и беседы пришлось нести над Кантом большой черный зонт. Мою задачу, правда, облегчал низенький рост профессора: руку с зонтом не надо было держать высоко. Наконец-то во время прогулки мне удалось хоть и не без труда, но все же разговорить его.
– Профессор, простите мою вольность. Мне ваша манера поведения напоминает ту самую «вещь в себе», которую вы часто упоминаете. Вы вроде бы ни от кого ничего не скрываете. Но при этом вас крайне непросто вызвать на откровенность. Вы раскрываетесь по-настоящему только в своих книгах, а в жизни все держите внутри себя. Или я не прав?
Кант лишь раздраженно повел плечами.
– Если бы вы сейчас сдавали мне экзамен, я за такую аналогию вас бы не аттестовал.
– Почему?
– Потому что в данном примере вы сравниваете с вещью в себе (или «ноуменом») меня, человека. В моей же философии все наоборот: ноумены – это неживые предметы и явления мира, которые человек не постигает и никогда не сможет полностью постичь из-за ограничений своей природы.
– И что это за ограничения? Почему вообще важно говорить о них?
– Потому что с этих ограничений начинается суть открытой мною философии.
– Я читал ваши книги. Они довольно трудны. Вы могли бы объяснить их суть проще, доступнее?
Мы приостановились, пропуская конный экипаж, чтобы перейти на другую сторону улицы. По правую руку от нас тянулась длинная боковая стена собора. Дождь еще больше усилился, наша обувь хлюпала, но ученый не обращал на это внимания. Он указал рукой в сторону стены:
– Вы видите это здание?
– Да, разумеется. Это знаменитый Кёнигсбергский собор.
– Откуда вы знаете это? Вы ведь недавно впервые приехали в город и еще почти нигде не были.
– Ну, я же вижу, что это большой собор, а не постоялый двор, частный дом, кузница или что-то еще.
– А что, если это все-таки не собор, а вам только показалось? Некоторые богатые граждане порой строят себе дома, огромные по площади, и украшают их сверху шпилями или даже крестами.
– Профессор, ну бросьте. Это собор. Его фасад с другой стороны выходит на центральную площадь.
– Хорошо. В данном случае вы правы, хотя легко могли ошибиться. Теперь опишите мне этот собор.
– Я не могу. Я не был внутри него. И даже не видел его фасада: только понимаю, куда он выходит.
– Да, не можете. В этом-то все и дело.
Тем временем мы повернули в сторону от собора, перешли через мост и направились вдоль реки. После некоторой паузы Кант продолжил:
– Ознакомившись со всеми великими философскими работами прошлого, от Античности до наших современников, я увидел множество разнообразных течений мысли, предлагаемых картин строения нашего мира. Кто-то утверждает, что мир идеален и им движут идеи, кто-то – что мир материален и во главе угла в нем стоят вещи. Кто-то говорит, что Бог есть, некоторые уверены, что его нет. Среди тех, кто считает, что Он есть, существует много разных описаний сущности Бога.
Я же задал самый простой вопрос: а КТО это все утверждает? Ответ ясен: мы сами, люди. Из этого вытекает второй, самый важный вопрос. А что мы, люди, вообще можем знать о мире?
– Вероятно, только то, что происходит в нашем собственном сознании.
– Да, это так. И я утверждаю следующее. Нет такого понятия, как «объективно существующий мир», независимый от нашего сознания. Все ученые мира выводят открытия из того, что хоть мы, люди, и субъективны, но вокруг нас (и независимо от нас) существует Вселенная, Природа, объективный окружающий мир. Который мы, люди, как часть этого мира, должны постепенно, с помощью все более сложных инструментов и теорий постигать, изучать.
– Но это звучит вполне логично.
– Нет. Это звучит самонадеянно и недостоверно. Я вполне допускаю, что Вселенная существует. Но мы не можем, во-первых, быть в этом полностью уверены. Во-вторых, у нас нет надежды когда-либо постичь суть этой Вселенной. Мир – это всего лишь то, что мы видим и представляем себе как мир. Вселенная выглядит так, как она выглядит для нас, только потому, что это МЫ ее такой видим. На самом деле она другая. Возможно, в ней не три, а тысяча измерений. Может быть все, что угодно.
– Допустим, что это так, что мир – это лишь то, что мы сами можем увидеть. Что из этого следует?
– Наш единственный инструмент познания Вселенной – наш собственный разум. Инструмент этот довольно слабый, ограниченный. Прежде чем его использовать, надо понять, как он работает. В моем трактате «Критика чистого разума» я исследую то, как функционирует человеческий разум, наш мозг. Что он может, что он не может и как с этой огромной проблемой ненадежности нашего восприятия мира вообще человечеству жить и двигаться дальше.
Беседуя, мы дошли почти до берега залива, затем повернули в сторону пригорода Кёнигсберга, с приличными домами и большими ухоженными участками земли.
– Каждый предмет и явление природы, которые окружают нас, это ноумены, вещи-в-себе. Я спросил вас о соборе. Вы опознали его, но не смогли его описать, так как видели лишь одну его стену. Все вещи в природе (как этот собор для вас) открываются людям не во всей своей полноте, а лишь с какой-то одной, определенной точки зрения. Для человеческого восприятия все вещи вокруг нас – это не они сами, а их феномены. Другими словами, отражения этих вещей внутри нашего сознания под неким узким определенным углом и не более того. Даже если вы проявите упорство и исследуете интересующий вас предмет, явление или закон природы не с одной точки зрения, а, скажем, с трех, десяти или даже ста разных точек, то вы, конечно, узнаете о них намного больше. В вашем сознании будет не одно, а сто разных отражений, образов этой вещи. Но это все равно всего лишь сотня отражений внутри вас, но не в коем случае не сам предмет и не весь предмет. В случае с собором вы можете обойти вокруг него хоть тысячу раз, разглядеть с лупой каждый камень. Вы изучите лишь множество отдельных фактов об этом здании, но все равно не обхватите его своим разумом целиком. Птицам, летящим сверху, он предстанет иным. В его фундаменте может быть трещина, и однажды утром, думая, что вы знаете о соборе все, вы обнаружите лишь его руины.
Рассуждения Канта повергли меня в некоторую растерянность. Мир словно рассыпался на части.
– В таком случае получается, что мы бессильны. И точная надежная наука невозможна.