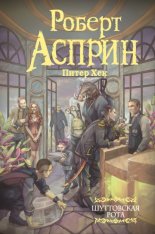Юмористические рассказы Аверченко Аркадий

Он вздохнул.
– А ведь им теперь, поди, холодно, голодно, в камерах каменные полы. Они мне доверяли, думали – свой, а я… Эх, Волк! Глубока твоя вина перед ними, и нет ей черты предела.
– Бом-бом! – ревели колокола. – Покайся, Волк! Бом-бом!
Схватившись за голову, застонал несчастный и побежал к товарищу Кириллу.
– Все скажу! Руки их буду целовать, слезой изойду. Где моя молодость? Где моя честность?
К Кириллу Волк не зашел.
Долго стоял он на улице, раздираемый сомнениями и обуреваемый самыми противоположными чувствами. Ему смертельно хотелось покаяться, никогда так, как теперь, не жаждал он очищения, умиротворения мятущейся души своей, и долго стоял так Волк на распутье:
– Куда идти?
И не знал.
Мимо него быстро прошел человек, лицо которого показалось Волку знакомым. Отложив на минуту раскаяние, Волк подумал:
«Где я видел этого человека? Да, вспомнил! Это Мотя. Я его частенько встречал в полиции!»
В Волке проснулись профессиональные привычки.
«Куда это он идет? Ба! Да ведь это подъезд товарища Кирилла!.. Неужели…»
Волк догнал Мотю и положил ему руку на плечо. Мотя обернулся, сконфузился и растерянно сказал:
– А, Волк! С праздником вас.
Но сейчас же он оправился, и его пронзительные глаза устремились на Волка.
– Вы… тоже сюда?
– Да, – сказал Волк, а про себя подумал: «Не думает ли он на меня донести, червяк поганый! Хорош бы я был перед Кириллом».
Он переступил с ноги на ногу и сказал:
– Видите ли, Мотя… Мне почему-то хочется быть с вами откровенным: я, в сущности, партийный работник, а в полицию хожу так себе… для пользы дела!
– Вот и прекрасно! – обрадовался Мотя. – Тогда и я буду откровенен: ведь я, признаться, проделываю то же самое!
Но в глазах Моти Волк заметил странно блеснувший огонек, который слишком поспешно был потушен опустившимися веками.
«Эге!» – подумал Волк и, рассмеявшись, дружески хлопнул Мотю по плечу.
– К черту уловки и хитрости! Я вижу – вы парень ой-ой какой. Ведь я насчет партийности-то подшутил над вами. Ну, какой я, к черту, партийный работник, когда на днях типографию провалил.
– Ха-ха! – закатился хохотом Мотя. – То-то! Сообразили.
Но смех его показался Волку фальшивым, а глаза опять блеснули и погасли.
«Господи! – подумал, растерявшись, Волк. – Ничего я не разберу. Зачем бы ему являться к Кириллу, если он гласно работает на отделение? С другой стороны… Гм…»
Мотя раздумывал тоже.
Так они долго стояли, в недоумении рассматривая друг друга.
«Пойди-ка, влезь в его душу, – думал растревоженный Волк. – Ну, времечко!»
«Черт его знает, чем он, в сущности, дышит, – досадливо размышлял Мотя. – Ну, времена!»
Постояв так с минуту, оба дружески улыбнулись друг другу, пожали руки и разошлись – Мотя наверх, по лестнице, а Волк на улицу.
Выйдя на воздух, Волк вздохнул и прислушался: колокола перестали звонить.
«Ага! – облегченно подумал Волк. – То-то и оно. А то – каяться!»
Не размышляя больше, зашагал он к полковнику и вызвав его, сообщил, что Мотя очень подозрителен, что он шатается по конспиративным квартирам и что за ним надо наблюсти.
А Мотя в это время сидел в квартире Кирилла и говорил, опасливо озираясь:
– Подозрителен ваш Волк… Шатается к полковнику, и, вообще, не мешало бы за ним наблюсти!..
Подмостки
Я сидел в четвертом ряду кресел и вслушивался в слова, которые произносил на сцене человек с небольшой русой бородой и мягким взглядом добрых, ласковых глаз.
– Зачем такая ненависть? Зачем возмущение? Они тоже, может быть, хорошие люди, но слепые, сами не понимающие, что они делают… Понять их надо, а не ненавидеть!
Другой артист, загримированный суровым, обличающим человеком, нахмурил брови и непреклонно сказал:
– Да, но как тяжело видеть всюду раболепство, тупость и косность! У благородного человека сердце разрывается от этого.
Героиня, полулежа на кушетке, грустно возражала:
– Господа, воздух так чист, и птички так звонко поют… В небе сияет солнце, и тихий ветерок порхает с цветочка на цветочек… Зачем спорить?
Обличающий человек закрыл лицо руками и, сквозь рыдания, простонал:
– Божжже мой! Божжжже мой!.. Как тяжело жить!
Человек, загримированный всепрощающим, тихо положил руки на плечо тому, который говорил «Божже мой!».
– Ирина, – прошептал он, обращаясь к героине, – у этого человека большая душа!
На моих глазах выступили слезы.
Я вообще очень чувствителен и не могу видеть равнодушно, даже если на моих глазах режут человека. Я смахнул слезу и почувствовал, что эти люди своей талантливой игрой делают меня хорошим, чистым человеком. Мне страстно захотелось пойти в антракте в уборную к тому актеру, который всех прощал, и к тому, который страдал, и к грустной героине – и поблагодарить их за те чувства, которые они разбудили в моей душе.
И я пошел к ним в первом же антракте.
Вот каким образом познакомился я с интересным миром деятелей подмосток…
– Можно пройти в уборную Эрастова?
– А вы не сапожник?
– Лично я не могу об этом судить, – нерешительно ответил я. – Хотя некоторые критики находили недостатки в моих рассказах, но не до такой степени, чтобы…
– Пожалуйте!
Я шагнул в дверь и очутился перед человеком, загримированным всепрощающим.
– Ваш поклонник! – отрекомендовался я. – Пришел познакомиться лично.
Он был растроган.
– Очень рад… садитесь!
– Спасибо, – сказал я, оглядывая уборную. – Как интересна жизнь артиста, не правда ли?.. Все вы такие душевные, ласковые, талантливые…
Эрастов снисходительно усмехнулся.
– Ну, уж и талантливые… Далеко не все талантливы!
– Не скромничайте, – возразил я, садясь.
– Конечно… Разве этот старый башмак имеет хоть какую-нибудь искру? Ни малейшей!
– Какой старый башмак? – вздрогнул я.
– Фиалкин-Грохотов! Тот, который так подло играл роль героя.
– Вы находите, что он не справился с ролью? Зачем же тогда режиссер поручил ему эту роль?
Эрастов всплеснул руками.
– Дитя! Вы ничего не знаете? Да ведь режиссер живет с его женой! А сам он пользуется щедротами купчихи Поливаловой, которая – родственница буфетчика Илькина, имеющего на антрепренера векселей на сорок тысяч.
Я был ошеломлен.
– Какой негодяй! И с таким человеком должны играть вы и эта милая, симпатичная Лучезарская!..
– Героиня? Да ей-то что… Она сама живет с суфлером только потому, что тот приходится двоюродным братом рецензенту Кулдыбину. У нее, впрочем, есть муж и дочь лет двенадцати. Но она своими побоями скоро вгонит девчонку в гроб – я в этом уверен. Впрочем, она не прочь продать девчонку комику Зубчаткину только потому, что у того есть некоторые связи в N-ском театре, куда она мечтает пробраться…
– Неужели она такая?
– Да, знаете… Готова с каждым первым попавшимся. Покажите ей десять рублей – побежит. Ей комическая старуха Мяткина-Строева давно уже руки не подает!
– Смотрите-ка! Комическая старуха, а какая благородная брезгливость, – изумился я.
– Она не потому. Просто у Мяткиной-Строевой был любовник на выходах – Клеопатров, которого она содержала, а Лучезарская насплетничала, что он в бутафорской шлем украл, – его и уволили среди сезона. Вы меня извините, сейчас мой выход минут на пять, если хотите – подождите… я вернусь, еще поболтаем. Ужасно, знаете, мне с моими взглядами жить среди этой грязи и сплетен. Я сейчас!
Он ушел. Я остался один.
Дверь скрипнула, и в уборную вошел Фиалкин-Грохотов, весело что-то насвистывая.
– Васьки нет? – спросил он благодушно.
– Нет, – ответил я, вежливо раскланиваясь. – Очень рад с вами познакомиться – вы прекрасно играли!
Лицо его сделалось грустным.
– Я мог бы прекрасно играть, но не здесь. Я мог бы играть, но с этим… Эрастовым! Знаете ли вы, что этот человек в диалоге невозможен? Он перехватывает реплики, не дает досказывать, комкает ваши слова и своими дурацкими гримасами отвлекает внимание публики от говорящего.
– Неужели он такой? – удивился я.
– Он? Это бы еще ничего, если бы он в частной жизни был порядочным человеком. Но ведь его вечные истории с несовершеннолетними гимназистками, эта подозрительно-счастливая игра в карты и бесцеремонность в займах – вот что тяжело и ужасно. Кстати, он у вас еще взаймы не просил?
– Нет. А что?
– Попросит. Больше десяти рублей не одолжайте – все равно не отдаст. Я вам скажу – он да Лучезарская…
В двери послышался стук.
– Можно? – спросила Лучезарская, входя в уборную. – Ах, извините! Очень рада познакомиться!
– Ну что, голуба? – приветливо сказал Фиалкин-Грохотов, смотря на нее. – Что он там?..
– Ужас, что такое! – страдальчески ответила Лучезарская, поднимая руки кверху. – Это такой кошмар… Все время путает слова, переигрывает, то шепчет, как простуженный, то орет. Я с ним совершенно измоталась!
– Бедная вы моя, – ласково и грустно посмотрел на нее Фиалкин-Грохотов. – Каково вам-то.
– Мне-то ничего… У меня сегодня с ним почти нет игры, а вот вы… Я думаю – вам с вашей школой, с игрой, сердцем и нервами, после большой столичной сцены… тяжело? О, как мне все это понятно! Вам сейчас выходить, милый… Идите!
Он вышел, а Лучезарская нахмурила брови и, наклонившись ко мне, озабоченно прошептала:
– Что вам говорил сейчас этот кретин?
– Он? Так кое-что… Светский разговор.
– Это страшный сплетник и лгун… Мы его все боимся как огня. Он способен, например, выйти сейчас и рассказать, что застал вас обшаривающим карманы висящего пиджака Эрастова.
– Неужели? – испугался я.
– Алкоголик и морфинист. Мы очень будем рады, если его засадят в тюрьму.
– Неужели? За что?
– Шантажировал какую-то богатую барыню. Теперь все раскрылось. Я очень буду рада, потому что играть с ним – чистое мучение! Когда он да эта горилла – Эрастов на сцене, то ни в чем не можешь быть уверенным. Все провалят!
– Почему же режиссер дает им такие ответственные роли?
– Очень просто! Эрастов живет с женой режиссера, а тому только этого и надо, потому что ему не мешают тогда наслаждаться счастием с этой распутницей Каширской-Мелиной, которая жила в прошлом году с Зубчаткиным.
Она грустно улыбнулась и вздохнула:
– Вас, вероятно, ужасает наше театральное болото? Меня оно ужасает еще больше, но… что делать! Я слишком люблю сцену!..
В уборную влетел Эрастов и, скрежеща зубами, сказал:
– Душечка, Марья Павловна, посмотрите, что сделала эта скотина с началом второго действия! Что он там натворил!!!
– Я это и раньше говорила, – пожала плечами Лучезарская. – Эта роль – главная в пьесе и поэтому по справедливости должна была принадлежать вам! Впрочем… Вы ведь знаете режиссера!
Следующий акт я опять смотрел.
Лучезарская стояла около окна, вся залитая лунным светом, и говорила, положив голову на плечо Фиалкина-Грохотова:
– Я не могу понять того чувства, которое овладевает мною в вашем присутствии: сердце ширится, растет… Что это такое, Кайсаров?
– Милая… чудная! Я хотел бы, чтобы судорога счастья быть любимым вами сразу захватила мое сердце, и я упал бы к вашим ногам бездыханным с последним словом на устах: люблю!
Около меня кто-то вынул платок, задев меня локтем, и, растроганный, вытер глаза.
– Чего вы толкаетесь, – грубо проворчал я. – Болтают тут руками – сами не знают чего!..
Неизлечимые
Спрос на порнографическую литературу упал.
Публика начинает интересоваться сочинениями по истории и естествознанию.
(Книжн. известия)
Писатель Кукушкин вошел, веселый, радостный, к издателю Залежалову и, усмехнувшись, ткнул его игриво кулаком в бок.
– В чем дело?
– Вещь!
– Которая?
– Ага! Разгорелись глазки? Вот тут у меня лежит в кармане. Если будете паинькой в рассуждении аванса – так и быть, отдам!
Издатель нахмурил брови.
– Повесть?
– Она. Ха-ха! То есть такую машину закрутил, такую, что небо содрогнется! Вот вам наудачу две-три выдержки.
Писатель развернул рукопись.
– «…Темная мрачная шахта поглотила их. При свете лампочки была видна полная волнующаяся грудь Лидии и ее упругие бедра, на которые Гремин смотрел жадным взглядом. Не помня себя, он судорожно прижал ее к груди, и все заверте…»
– Еще что? – сухо спросил издатель.
– Еще я такую штучку вывернул: «Дирижабль плавно взмахнул крыльями и взлетел… На руле сидел Маевич и жадным взором смотрел на Лидию, полная грудь которой волновалась и упругие выпуклые бедра дразнили своей близостью. Не помня себя, Маевич бросил руль, остановил пружину, прижал ее к груди, и все заверте…»
– Еще что? – спросил издатель так сухо, что писатель Кукушкин в ужасе и смятении посмотрел на него и опустил глаза.
– А… еще… вот… Зззаб… бавно! «Линевич и Лидия, стесненные тяжестью водолазных костюмов, жадно смотрели друг на друга сквозь круглые стеклянные окошечки в головных шлемах… Над их головами шмыгали пароходы и броненосцы, но они не чувствовали этого. Сквозь неуклюжую, мешковатую одежду водолаза Линевич угадывал полную волнующуюся грудь Лидии и ее упругие выпуклые бедра. Не помня себя, Линевич взмахнул в воде руками, бросился к Лидии, и все заверте…»
– Не надо, – сказал издатель.
– Что не надо? – вздрогнул писатель Кукушкин.
– Не надо. Идите, идите с богом.
– В-вам… не нравится? У… у меня другие места есть… Внучек увидел бабушку в купальне… А она еще была молодая…
– Ладно, ладно. Знаем! Не помня себя, он бросился к ней, схватил ее в объятия, и все заверте…
– Откуда вы узнали? – ахнул, удивившись, писатель Кукушкин. – Действительно, так и есть у меня.
– Штука нехитрая. Младенец догадается! Теперь это, брат Кукушкин, уже не читается. Ау! Ищи, брат Кукушкин, новых путей.
Писатель Кукушкин с отчаянием в глазах почесал затылок и огляделся:
– А где тут у вас корзина?
– Вот она, – указал издатель.
Писатель Кукушкин бросил свою рукопись в корзину, вытер носовым платком мокрое лицо и лаконично спросил:
– О чем нужно?
– Первее всего теперь читается естествознание и исторические книги. Пиши, брат Кукушкин, что-нибудь там о боярах, о жизни мух разных…
– А аванс дадите?
– Под боярина дам. Под муху дам. А под упругие бедра не дам! И под «все завертелось» не дам!!!
– Давайте под муху, – вздохнул писатель Кукушкин.
Через неделю издатель Залежалов получил две рукописи. Были они такие:
Боярышня Лидия, сидя в своем тереме старинной архитектуры, решила ложиться спать. Сняв с высокой волнующейся груди кокошник, она стала стягивать с красивой полной ноги сарафан, но в это время распахнулась старинная дверь и вошел молодой князь Курбский.
Затуманенным взором, молча смотрел он на высокую волнующуюся грудь девушки и ее упругие выпуклые бедра.
– Ой, ты, гой, еси! – воскликнул он на старинном языке того времени.
– Ой, ты, гой, еси, исполать тебе, добрый молодец! – воскликнула боярышня, падая князю на грудь, и – все заверте…
Небольшая стройная муха с высокой грудью и упругими бедрами ползла по откосу запыленного окна.
Звали ее по-мушиному – Лидия.
Из-за угла вылетела большая черная муха, села против первой и с еле сдерживаемым порывом страсти стала потирать над головой стройными мускулистыми лапками. Высокая волнующаяся грудь Лидии ударила в голову черной мухи чем-то пьянящим… Простерши лапки, она крепко прижала Лидию к своей груди, и все заверте…
Золотой век
По приезде в Петербург я явился к старому другу, репортеру Стремглавову, и сказал ему так:
– Стремглавов! Я хочу быть знаменитым.
Стремглавов кивнул одобрительно головой, побарабанил пальцами по столу, закурил папиросу, закрутил на столе пепельницу, поболтал ногой – он всегда делал несколько дел сразу – и отвечал:
– Нынче многие хотят сделаться знаменитыми.
– Я не «многий», – скромно возразил я. – Василиев, чтоб они были Максимычами и в то же время Кандыбинами, – встретишь, брат, не каждый день. Это очень редкая комбинация!
– Ты давно пишешь? – спросил Стремглавов.
– Что… пишу?
– Ну, вообще – сочиняешь!
– Да я ничего и не сочиняю.
– Ага! Значит – другая специальность. Рубенсом думаешь сделаться?
– У меня нет слуха, – откровенно сознался я.
– На что слуха?
– Чтобы быть этим вот… как ты его там назвал?.. Музыкантом…
– Ну, брат, это ты слишком. Рубенс не музыкант, а художник.
Так как я не интересовался живописью, то не мог упомнить всех русских художников, о чем Стремглавову и заявил, добавив:
– Я умею рисовать метки для белья.
– Не надо. На сцене играл?
– Играл. Но когда я начинал объясняться героине в любви, у меня получался такой тон, будто бы я требую за переноску рояля на водку. Антрепренер и сказал, что лучше уж пусть я на самом деле таскаю на спине рояли. И выгнал меня.
– И ты все-таки хочешь стать знаменитостью?
– Хочу. Не забывай, что я умею рисовать метки!
Стремглавов почесал затылок и сразу же сделал несколько дел: взял спичку, откусил половину, завернул ее в бумажку, бросил в корзину, вынул часы и, засвистав, сказал:
– Хорошо. Придется сделать тебя знаменитостью. Отчасти, знаешь, даже хорошо, что ты мешаешь Рубенса с Робинзоном Крузо и таскаешь на спине рояли – это придает тебе оттенок непосредственности.
Он дружески похлопал меня по плечу и обещал сделать все, что от него зависит.
На другой день я увидел в двух газетах в отделе «Новости» такую странную строку: «Здоровье Кандыбина поправляется».
– Послушай, Стремглавов, – спросил я, приехав к нему, – почему мое здоровье поправляется? Я и не был болен.
– Это так надо, – сказал Стремглавов. – Первое известие, которое сообщается о тебе, должно быть благоприятным… Публика любит, когда кто-нибудь поправляется.
– А она знает – кто такой Кандыбин?
– Нет. Но она теперь уже заинтересовалась твоим здоровьем, и все будут при встречах сообщать друг другу: «А здоровье Кандыбина поправляется».
– А если тот спросит: «Какого Кандыбина?»
– Не спросит. Тот скажет только: «Да? А я думал, что ему хуже».
– Стремглавов! Ведь они сейчас же и забудут обо мне!
– Забудут. А я завтра пущу еще такую заметку: «В здоровье нашего маститого…» Ты чем хочешь быть: писателем? художником?..
– Можно писателем.
– «В здоровье нашего маститого писателя Кандыбина наступило временное ухудшение. Вчера он съел только одну котлетку и два яйца всмятку. Температура 39,7».
– А портрета еще не нужно?
– Рано. Ты меня извини, я должен сейчас ехать давать заметку о котлете.
И он, озабоченный, убежал.
Я с лихорадочным любопытством следил за своей новой жизнью.
Поправлялся я медленно, но верно. Температура падала, количество котлет, нашедших приют в моем желудке, все увеличивалось, а яйца я рисковал уже съесть не только всмятку, но и вкрутую.
Наконец, я не только выздоровел, но даже пустился в авантюры.
«Вчера, – писала одна газета, – на вокзале произошло печальное столкновение, которое может окончиться дуэлью. Известный Кандыбин, возмущенный резким отзывом капитана в отставке о русской литературе, дал последнему пощечину. Противники обменялись карточками».
Этот инцидент вызвал в газетах шум.
Некоторые писали, что я должен отказаться от всякой дуэли, так как в пощечине не было состава оскорбления, и что общество должно беречь русские таланты, находящиеся в расцвете сил.
Одна газета говорила: