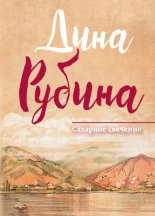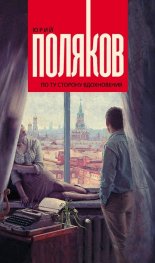Хэда Задорнов Николай

– Прекрасно можем дойти в Россию по их островам, без всякого риска военного столкновения, – сказал Посьет. – Но все мы предпочитаем идти на корабле дружественной нам державы, как потерпевшие кораблекрушение. Никто не посмеет задержать клипер, спасающий претерпевшую команду, так по международному праву. Вы не рискуете и за риск не получите ни цента.
– Возвращайтесь в Китай, – сказал Путятин.
Бобкок сморщил нос, словно заслышал запах паленого или гари на корабле. Бизнес его горел? Он принюхивался! Знакомый тип!
– Вы обязаны плыть. Иначе... иначе... вы, вы...
– Что «вы»?
– Иначе вы – дезертир, адмирал, – с улыбкой сказал шкипер, – если остаетесь здесь на время войны.
Всякие доводы слыхал Путятин на дипломатических и коммерческих переговорах. Шкипер торгового судна, за то, что ему не дают цены, которую он ломит, осмеливается называть дезертиром адмирала императорской службы! Воротит морду и морщится, словно ему дают не деньги, а тычут в нос чем-то смрадным.
Крэйг молчал. Офицер не должен вмешиваться в дела бизнеса.
Алексей положил руку на плечо Бобкока.
– Sorry[55]. Что за слово «дезертир»? А если у петуха оторвать последние перья из хвоста?
– Благодарю вас, – отозвался шкипер. – Sorry! – Его глаза быстро метнулись вправо и влево.
– Я с ним объяснюсь! – сказал по-французски Крэйг. Не удержался, чувствуя нелепость положения.
– Мы все едем с адмиралом на берег, – ответил Шиллинг.
– Какой же негодяй этот американец! – сказал Шиллинг в вельботе.
А матросы загребли веселей. Наконец-то адмирал и офицеры раскусили прощелыгу. Да его сразу видно!
Путятин всю ночь думал, и во сне и просыпаясь. Как же быть? Утром объявил Посьету, что согласен дать Бобкоку пятнадцать тысяч, отказываться нельзя, и не надо придавать значение нахальству и грубости американцев.
– Нам с ними не детей крестить. Дойти до порта, расплатиться – и дай им бог! Японцы никому из них сходить на берег не позволяют, поезжайте к шкиперу сами и скажите про мои условия. Если согласен, то сегодня же начинать подготовку. Японцев же нельзя подводить: об этом особь статья.
– Сколько вы еще можете прибавить к пятнадцати? – спросил Бобкок у Посьета.
– Ни цента, – ответил Посьет.
– Идти сюда из Шанхая, а потом в Де-Кастри! Нет! Где вы еще найдете такой пятимачтовый гигант? Ну, тридцать пять тысяч? – с отчаянием в голосе, как будто его обирают, вскричал Бобкок.
– Адмирал не меняет слова.
– Какая у вас вера? – раскидывая обе руки, спросил шкипер.
– А какая у вас?
Бобкок выставил целую батарею бутылок.
– Крэйг сказал мне, что у шкипера с командой неблагополучно, – доложил Посьет, явившись в Хосенди. – Четверо коноводов требуют с него за плавание в Россию во время войны по тысяче каждому, в противном случае грозят забастовкой всей команды и объявят себя защитниками прав человека. Если же Бобкок поделится с ними, то зажмут всю команду, никому пикнуть не позволят и пойдут куда угодно.
– Каков шкипер, такова и команда, – сказал Путятин.
– Клипер чайный – народ отчаянный, Евфимий Васильевич, – сказал Глухарев, когда Путятин вернулся на стапель. – Японцы рады, что мы не ушли, работают весело. Они американцам пресной воды не дали; не позволили налиться.
– Не берут нас, Евфимий Васильевич? – спросил Мартыньш, догадываясь о неудаче Путятина по его невеселому лицу.
– Не берут.
– Много запросили? – осведомился Аввакумов.
– Сначала пятьдесят тысяч долларов. Я царскую казну берегу. Тут от силы десять тысяч. Я им давал пятнадцать.
– На них нет управы! – заметил Сизов.
Матросы, знакомые с адмиралом, столпились, никто не желал упустить случая и потолковать. «Сам» сегодня покладистый.
Адмирал поговорил и ушел в кузницу.
«Неприятно, что Крэйг оказывается бессильным. Неужели и наши военные моряки когда-нибудь попадут в зависимость к буржуазным дельцам?»
– Что, ребята, не берут нас? – спросил Синичкин, подымаясь на палубу шхуны.
– Просили пятьдесят тысяч, – сказал Глухарев.
– Ах, сволочи! Вот же сволочи!
– Смотри, братцы, пошел! – закричал Строд.
– Пошел, сволочь... С глаз долой! – отозвался Аввакумов.
При небольшом ветре, без всякой помощи буксирных лодок, клипер вышел на одних лиселях.
– Идет красиво, сволочь! – заметил марсовый Сойкин.
Выйдя в море, клипер оделся массой парусов, лег крутой бейдевинд, его реи клонились к волнам. Стало видно, что в море штормит. Клипер шел почти лежа бортом на волне, как яхта. Там помощник шкипера, он же рулевой – здоровенный дядя. В спорах, как известно нашим матросам от китайцев из их команды, рулевой держался в сторонке, а в море – опытная рука, но и он в числе четырех, затребовавших долю со шкипера. Все узнают наши матросы!
Вдруг вся масса парусов стала менять положение, клипер перешел на левый галс и лег на волну левым бортом. Кажется, американцы спешили ценой любых усилия скорей убраться от этой земли, чтобы не глядеть в глаза брошенным ими морякам, потерпевшим кораблекрушение.
Глава 21
ГОРЕЛОЕ МЯСО
«Хотя законы остаются прежними, но теперь, мне кажется, прежних строгостей уже нет, – написал Гошкевич по-китайски. – Как вы думаете об этом?» Зная, что возможно подслушивание, Осип Антонович ведет беседы частью устно, а частью письменно.
Месяц назад Гошкевич познакомился со странным монахом. Имя его Точибан Коосай. Он же – Масуда Кумедзаэмон.
Монах довольно молод, явно умен, кажется любитель сакэ. Говорят, его видели оборванным, но сейчас он одет опрятно, в порядочном, даже дорогом халате из темного шелка.
Гошкевич просил его купить детские учебники по географии Японии.
Точибан вернулся вчера с главного государственного тракта Токайдо, все принес, что смог достать: детские учебники по географии и план Эдо. Карту Токайдо достать еще не удалось. Пытался, но неудачно. Его заподозрили и чуть не уличили. Пришлось поспешно скрыться.
«Исповедование христианской религии до сих пор строго преследуется», – написал на том же листе Масуда. При этом он уловил взгляд Гошкевича и скривил лицо, как больной, явившийся с жалобой к зубному врачу.
«Вспарывание живота почти исчезло и к этому более не принуждаются?» – написал Осип Антонович.
Опять бонза быстро и умело ответил иероглифами: «К приказанию о сеппуку[56] правительство прибегает теперь редко. Все христиане беспощадно наказываются. Очень опасно совершать в Японии христианские богослужения».
Как художник, легко, красивыми движениями набрасывал он черные столбцы иероглифов со щегольскими воздушными завитками окончаний. Любил монах и смысл и стиль письма. При этом лицо его оставалось невыразительным, как доска или лопата, и он все узил глаза, стараясь приглушить их живое выражение.
«Я вам могу рассказать про случаи, которые происходили недавно у меня на глазах».
Точибан отложил кисть и с удовольствием пригубил из чашечки.
– Я очень люблю сакэ, – сказал он, и лицо его смягчилось, глаза заблестели откровенно.
– Это то, что вы хотели рассказать мне прошлый раз? – вслух спросил Гошкевич.
– Да... но я немного... Ира-ира[57]...
«Очень боюсь, что узнают, что я передал вам книги и карты. Очень строго запрещено сообщать что-нибудь иностранцу про Японию. Даже эти карты из детских учебников – большой секрет!» – быстро набросал он и огляделся по сторонам, на дверь, открытую в сад, и на растворенные окна.
В маленьком шинтоистском храме и в саду и этот час никого не было. Он продолжал:
– При мне пытали восемь христиан, которые были пойманы в окрестностях Эдо... Восьмой была женщина...
Лицо монаха стало совсем бесстрастным, а глаза почти закрылись.
– Все это было недавно?
– Да... восемь лет тому назад...
...Значит, у них существуют тайные общества христиан, несмотря на двести с лишним нет гонений. Расскажу адмиралу... Кто мог бы подумать! Видимо, народ видит в христианстве утешение от бесправия...
– Сейчас совершенно невозможно принять христианство тому, кто этого желает, – горячо сказал монах и с сожалением вздохнул.
Глаза его открыты, желтый цвет их казался светлым и живым.
Точибан опять выпил и опять рассказывал. Понемногу он опьянел.
– Есть порядочные люди... но любят сакэ... За сакэ все отдадут... и за женщин... И знаете... и... и есть такие, что убивают...
Губы Точибана задрожали.
– Сегодня занимались, как всегда. Учил меня японскому, а я его русскому, – рассказывал Осип Антонович поздно вечером адмиралу. – Сказал мне имя шогуна, а также имя императора и перечислил и написал мне эры последних царствований, как они считаются по шогунам... Он знает китайских классиков, интересуется всем европейским. Рассказал про пытки христиан, и мне показалось, что он намекает, что и сам бы не прочь принять христианство...
Путятин немало полезных сведений добывал для России в других государствах, опыт у него был.
– Говорит, что принадлежит к древнему и знатному роду. Смолоду его готовили к военной службе, поэтому он хорошо изучил артиллерию, но потом в роду возникла вражда, он пытался помочь претенденту на главенство в клане, тот его очень любил и искал у него поддержки, намереваясь стать лидером, но их постигла неудача. Все это печально кончилось, Коосаю пришлось бежать, потом он стал монахом, уверяет, что всю жизнь пытается изучать западные науки. Сегодня сказал, что когда был артиллеристом, то стрелял из пушки, а потом командовал батареей. Образованней этого японца я не видел, мне даже кажется, что я где-то встречал его прежде. Странное, меняющееся лицо. Хотите видеть его?
– Нет.
– Он любитель сакэ.
– Как бы он ни любил выпить, но головы не теряет, судя по вашим рассказам. Раз он сюда явился, то, значит, не зря. Ему что-то надо. Как вы полагаете?
– Да, мне тоже так показалось.
– Вы дали ему еще денег?
– Да.
– Монах-артиллерист!
Когда-то и у нас в Троицко-Сергиевской лавре в Сергиевом Посаде все монахи были артиллеристами. Благодаря им не раз Россия спасалась от нашествия!
Ночью в Хосенди пришел матрос Синичкин, прибывший на японской лодке с запиской от мичмана Михайлова. С наблюдательного пункта у входа в бухту, в густом тумане, видны огни большого корабля и слышны подаваемые в трубу команды на английском.
– Тревога, господа! – объявил Путятин дежурному офицеру и Пещурову.
Вскоре в Хосенди собрались все офицеры и юнкера.
– Подымайте людей! – приказал Путятин. Вооруженные отряды ушли во тьму.
Путятин всегда ждал нападения вражеских судов. Но, судя по тому, что противник стоит с непотушенными огнями, наше убежище еще не открыто.
Адмирал, помолившись истово, прилег.
...Шли гуськом, без фонарей. Туман в самом деле густой: когда проходили Хосенди, деревья в саду не были видны.
Вошли в лес, знакомой тропой поднялись на гору к старой сосне, в развилинах которой построен рыбацкий домик для наблюдений. Оставили пикет. Дальше небольшими отрядами заняли все скалы и спуски к морю. Цепь секретов рассеяли по всей косе, огибавшей бухту. Сквозь туман в море видны огни. Стоит какое-то судно. Матросы залегли за валунами и деревьями.
– Пусть шлюпка войдет в бухту – подпустим близко, Алексей Николаевич, – говорил унтер-офицер Маслов. – Жаль, зарядов мало.
– Пуля – дура, штык – молодец, – молвил Маточкин.
Светало. Ружья у всех наготове. Зарядов в самом деле мало...
Подул ветер. Туман рассеялся, и у входа в бухту Хэда в трех кабельтовых от косы, прямо напротив затаившихся секретов, стала видна пятимачтовая громадина.
– Чур меня! – воскликнул Зеленой. – Это же «Young America»!
– И смех и горе! – сказал Глухарев.
Хохот разбирал и матросов, и офицеров: «Мы собрались с духом, решились стоять не на жизнь, а на смерть... А оказывается...»
– Ну что за народ, Алексей Николаевич! – весело возмущался Маслов.
– Вернулись, сволочи! – сказал Маточкин.
– Зачем же они вернулись? – размышляли матросы.
– Может, совесть взяла?
– Держи шире, – сказал Глухарев. – У таких совесть!
Бобкок и Крэйг явились как ни в чем не бывало, сняли шляпы и поздоровались приветливо.
– У острова Авама-сима, – сказал Бобкок, – мы встретили французский военный пароход, который полным ходом шел к югу. Поэтому, адмирал, больше нет опасностей. Мы вернулись, чтобы взять вас, адмирал, и всех ваших людей.
– Тридцать тысяч я дать не могу.
– Я согласен уступить. Поймите меня. Вы видите? Опасность миновала. Проезд будет дешевле.
– Моя цена известна.
– Я согласен доставить вас на Камчатку за двадцать тысяч.
Утром следующего дня согласились на восемнадцати тысячах, и договор был подписан в храме Хосенди.
– Крэйг держался в стороне. Но он тут много помог! Обуздал жадность шкипера, – сказал Посьет после ухода американцев. – Удалось ему обломать Бобкока. Французский бриг лишь как повод приплетен. Не в этом главная причина возвращения.
С площадки что-то светило, словно там всходило солнце, и нестерпимым светом жгло глаза. Шхуна, стоящая на стапеле, превращалась в ряд гигантских зеркал, оттуда шли снопы лучей.
– Заканчиваем обшивку шхуны медными листами, – доложил Колокольцов приехавшему на стапель адмиралу.
– Чем же вы пробиваете дыры в листах?
– Дыры сверлим, накладывая лист на лист, чтобы были одинаковые размеры и не рвать меди. Японцы медь очень ценят.
Четверо японцев ставили одновременно два сияющих листа на черную смоляную обшивку корпуса, Сизов ударами кувалды загонял в дыру гвозди.
Путятин пошел дальше. Жаль бросать!
Матросы и японцы оставили дело и обступили адмирала.
– С прибытием, Евфимий Васильевич!
– Спасибо, братцы!
Поговорили о нагелях, из кореньев какого дерева делать их лучше, есть ли уверенность, что набухнут, как они закроются медными шляпками гвоздей.
В сарае на полу шили паруса из бумажной материи.
– Здрав... желаем, ваш...
– Заканчивайте работы, – велел унтер-офицер, – завтра уходим!
Колокольцов повел адмирала на смоловарню, где трудились лишь японцы. Они гнали смолу для двух своих строившихся шхун. Прошли и на стапели, смотрели, как Глухарев и Аввакумов ставили чурбан на тесаную балку, смазанную черепашьим жиром. Японец Торо садился верхом на чурбан и съезжал по балке. Путятин смеялся от души. Черепаший жир не хуже свиного!
Все было хорошо. Давно тут не был Евфимий Васильевич. Соскучился по своим людям, по стуку, шуму. Теперь тут и звон меди, и блеск ее на солнце.
– Они своими силами не смогут докончить, Евфимий Васильевич, – сказал Аввакумов.
– Да, пожалуй, не сладят, – подтвердил Глухарев.
Колокольцов стоял нем как рыба.
«Что у вас, язык отсох? – хотел бы спросить его Евфимий Васильевич. – Что с вами? На него не похоже! Радоваться надо! Это счастье! А он сомлел».
– Надо, Александр Александрович, проявить все ваши способности и все объяснить японцам. Я не могу оставить тут людей... Ни офицеров, ни матросов.
– Японцы обидятся. Их не удастся успокоить.
– Если бы не война – иное дело. Но я не могу оставить... Что бы вы предложили? Кого оставить? Кто согласится, когда все уходят!
– Да, пожалуй, не согласится никто.
– И требовать этого не могу. Вызвать добровольцев можно, если надеешься, что вызовутся... Но и тут я не имею права. Давайте думать, как быть.
Ночью адмирал мерз. На полу слабо грела жаровня. Денщик, спавший за бумажной стеной, проснулся по зову и вошел. Адмирал велел принести угля.
Пока сонный матрос выслушивал и соображал, в других дверях, ведущих в коридорчик и во двор, появилась японка с корзиной. Она заранее нагребла уголь и держала наготове. Матрос сходил в саран и вернулся. Японка, выйдя от адмирала, встретила его в коридорчике, взяла уголь. Она всегда входила к адмиралу, услуживала, помогала Витулу.
Первое время Евфимий Васильевич всех их путал и считал одним лицом – женой священника. Но теперь знал, что это совсем другая женщина, племянница жены бонзы.
В храме тихо. Чуть шумит море за косой. Японка принесла грелку и положила под бок Евфимия Васильевича. У нее умелые руки. Она подоткнула одеяло, потрогала его мерзнущие ноги и быстро спросила по-русски:
– Это – о... хоросё?
А ноги побаливали. С вечера принимал ванну, залезал в кадушку с горячей водой, в бане полегчало. Но в ночи опять стало ломить. И холодно сегодня, как зимой.
Но что это? Что такое? Опять тревога? Евфимий Васильевич приподнялся. Слышно, как кто-то бежит по горе. Слух и зрение у меня еще очень остры! Бежит, как турок. Что же это? Полиция за кем-то гонится? Или померещилось? Кругом словно опять стало тихо. Кажется, неспокойно в эту ночь в деревне...
Чутьем находя в темноте знакомую дорогу, Точибан бежал с горы крупными шагами больших ног, громко шлепая старыми, привязанными подошвами на изношенных веревочках. Он бежал, со страхом оглядываясь, тяжело дышал и, сбежав вниз, сгорбился, стараясь стать меньше и незаметней. С трудом нашел в кромешной тьме глухой полуночи высокие камни и вошел в узкий проход между памятников на могилах, трогая их руками и скользя от одного к другому, как рыба плыл и вынырнул на другом конце кладбища. От дерева к дереву перешел задний двор, проскользнул мимо храма Хонзенди.
В комнатке за столиком Гошкевич и Елкин занимались при свете свеч разбором листьев и цветов, собранных для гербария, перекладывая их бумагой. Гошкевич ставил западные цифры и писал японские названия на особый лист. Елкин записывал японские названия по-русски себе в дневник. Тут же придумывали латинские названия.
Оба не слыхали, как в дом и в их комнату вошел чужой человек. Точибан несколько мгновений безмолвно стоял рядом с ними.
Оба враз вздрогнули и подняли головы. В темноте над собой они увидели широкое бронзовое лицо, освещенное пламенем их свечей. Черный халат бонзы пропадал на темном фоне, казалось, лицо отделено от тела и висит в воздухе, как загадочная маска.
Точибан тихо поклонился.
– Как они умеют выскальзывать и появляться словно из-под земли! – вымолвил Осип Антонович.
– Они еще нарочно стараются представляться нам именно такими, как мы воображаем, – ответил Елкин, стараясь приободриться, но и его подрал мороз по коже.
– Что с вами, Коосай-сан? – спросил Гошкевич, разгибаясь и вставая. – Что-то случилось? – «Догадался явиться, а то судно ушло бы и не смогли поговорить на прощанье».
– Гошкевич-сан... Гошкевич-сан... Спасите меня, – забормотал Точибан. – За мной гонятся... мне грозит смерть... Все открылось. Узнали, что я исполнял ваше поручение. Скорей спрячьте меня!..
Точибан сгорбился и сжался, как под занесенным ножом. Лицо, взмокшее от волнения, выражает мольбу. Он встал на колени.
– Узнали, что на Токайдо я купил карты и передал вам. Сейчас я сбежал из-под ареста. Я попросился в уборную. Вылез через дыру и убежал. Халат на мне очень грязный.
Елкин живо сходил в Хосенди. Пещуров велел поднять матросов дежурного взвода, удвоить караулы, никого во внутренние комнаты храмов и в офицерский дом не пропускать ни под каким видом и прислал унтер-офицера Маслова, чтобы помог спрятать беглеца.
Матрос принес японцу форменную рубаху, американские брюки, кивер и сапоги.
– Иди, Прохоров, к парикмахеру, – сказал матросу Маслов. – Разбуди его и вели, чтобы дал тебе парик-блондин, в котором ты в комедии Фонвизина играл Митрофанушку. И – живо! Да тише воды ниже травы!
– Вы завтра уходите на американском корабле? – спросил японец. – Скройте меня. Возьмите меня с собой в Россию!
Гошкевич взглянул в лицо Точибана. Оно опять «за занавеской». Испуга больше не обнаруживает.
Маслов проводил Прохорова и, вернувшись, сказал, что по деревне ходят люди с фонарями. Кто-то подходил к японской страже у ворот храма Хосенди, что-то там говорил, но сейчас тихо.
Утром у ворот Хосенди, как всегда, видны два буси с копьями. Метеке прохаживается по улице. Стража никогда не препятствовала верующим входить и молиться в храмах, где жили адмирал и офицеры. Но сейчас еще нет никого. Рано. Только какой-то карлик, несмотря на ранний час, прошел через дворик и промелькнул на кладбище.
Адмирал похвалил Гошкевича и обоих офицеров за расторопность и тут же добавил с досадой:
– Придется взять японца с собой.
– Хотите видеть его? – спросил Гошкевич.
– Никакого желания не имею! А где он сейчас?
– В лагере. В парике и в форме.
– Как он себя чувствует?
– Сидит и дрожит, как в ознобе. Еле съел чашку риса. Умоляет, чтобы не выдали его и взяли с собой в Россию.
– Сами вы это, господа, затеяли и сами извольте расхлебывать. Впрочем, такой человек нужен нам и будет полезен.
Эгава Тародзаэмон шел крупным шагом так быстро, что толпе чиновников приходилось рысить. Войдя во двор Хосенди, он сбавил шаг и остановился, поклонившись сбежавшему навстречу со ступенек Пушкину.
– Мы хотим осмотреть помещение храма Хосенди, – сказал дайкан.
Тут же в числе других чиновников начальник местной полиции Танака-сан, переводчики Сьоза и Татноскэ. Комендантский обход и тревога по всем правилам.
– Пожалуйста, сделайте одолжение. Всегда рады...
– Со мной два строительных инженера, прибывших в Эдо, – сидя с Пушкиным на стульях, объяснял Эгава, пока его люди осматривали комнаты.
– У нас всюду суета и беспорядок, поэтому просим извинения, что не можем принять как следует.
– Говорят, что в бараках, где живут матросы, износились крыши и могут потечь. А при начале постройки новых шхун нам негде расселить большую партию новых японских рабочих. В деревне все дома крестьян уже переполнены.
– Почему же негде? Мы собираемся и уходим. Завтра надеемся закончить погрузку. Останутся четыре казармы и подсобные помещения.
– Да, но бараки очень плохи.
– Крыши довольно исправны. Мы следим за этим.
– Да, это так. Но начинается сезон дождей, крыши окажутся плохи. Стены пока еще выдерживают. На днях ожидаются такие сильные дожди. И землетрясение. Поэтому в ближайшее время необходимо осмотреть все помещения, чтобы сегодня вечером отправить в Эдо отчет о том, какой ремонт зданий потребуется до начала сезона дождей.
Чиновники после осмотра храмов нагрянули в лагерь. Они не столько осматривали крыши и стены, как вглядывались в лица людей.
Матросы толпой переходили следом за чиновниками из барака в барак. Сбитые с толку, чиновники снова возвращались в уже осмотренные помещения. Матросы, как бы проявляя любопытство, ходили за ними, все время пряча в толпе Точибана, на которого надет белокурый парик из пакли и матросская форма. Японцы уже всюду побывали, и всюду их встречали одни и те же лица.
– Вы, Уэкава-сама? – удивился Пушкин, увидя тут же представителя бакуфу.
– Это проверка, – пояснил таинственно Уэкава, – есть подозрение, не прячется ли где-то беглец... Конечно, это вас не касается... Совершенно.
– Спасибо большое. Да вы проверили деревню? А кто сбежал и откуда?
– В деревне осмотрены все до одного дома. И мы не знаем, на кого думать.
После обыска в лагере Пушкин явился к адмиралу.
– Японца не нашли, – доложил он, – все благополучно обошлось.
– Но какой скандал может быть! Вы уж держитесь стойко. Надо как-то постараться перевести его на корабль.
– Матросы сколачивают ящики для своего имущества и оружия. Иван Терентьевич говорит, что японец ростом мал и его можно уместить в такой ящик и внести на корабль, только придется ему немного скорчиться, да и ящик можно сбить подлинней.
– Разве нельзя в парике провести его в строю?
– Нет, уже известно людям, что японцы будут нас считать. Если один окажется лишним, то мы с ними до скончания века не разделаемся.
– Хорошо. Пусть сделают ящик побольше, чтобы его не изуродовать.
– Слишком большой нельзя, заметно станет, что ящик большой, и нетрудно догадаться, что в нем человек.
– Сделайте несколько таких ящиков... Для отвода глаз. Идите, Христом-богом, и сами разберитесь с Иван Терентьевичем. Унтера вам лучше моего дадут совет.
– Главное, не вздумайте делать руль по-своему, – объяснял на другое утро на стапеле Глухарев артельному плотнику Уэда Таракити. – Нельзя рубить дыру. Понял?
– Понял, – отвечал Таракити.
– Эй, Иосида... Сюда переводчика.
– Его нет, – отозвался голос снизу.
– Да ты понял?
– Я и так понял, – сказал Таракити.