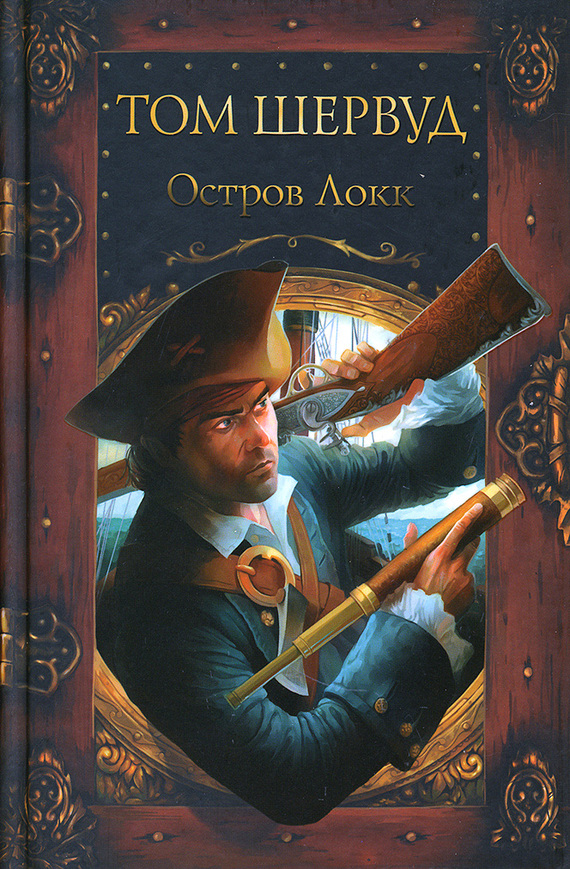Последний койот Коннелли Майкл

— Да, здесь вкусно готовят. Вы позволите сказать вам одну вещь, Босх?
— Выкладывайте.
— Я пошутила насчет копов из Лос-Анджелеса. Но мне и прежде приходилось знавать копов, и… должна вам заметить, что вы от них отличаетесь. Не знаю точно, чем именно. Такое ощущение, что в вас, несмотря на долгие годы службы, осталось еще много индивидуальности, так сказать, самости… Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю?
— Понимаю, — кивнул Босх. — Вернее, думаю, что понимаю.
Они рассмеялись, а потом она неожиданно наклонилась к нему и быстро поцеловала в губы. Это было приятно, и Босх расплылся в улыбке. После ее поцелуя на губах остался легкий привкус чеснока.
— Хорошо, что вы уже успели загореть. А иначе наверняка бы сейчас покраснели…
— Не покраснел бы. Я это в том смысле, что понемногу к вам привыкаю…
— Хотите поехать ко мне домой, Босх?
Он заколебался. Но не потому, что не знал ответа на этот вопрос. Просто хотел предоставить ей шанс соскочить с крючка, если она произнесла эти слова под воздействием момента. Прошло несколько секунд. Она хранила молчание, он улыбнулся ей и кивнул:
— Да, хочу.
Они вышли из заведения, сели в машины и выехали на шоссе. Босх, пристраиваясь в хвост «фольксвагену» Джасмин, размышлял о серьезности ее намерений, опасаясь, что она может передумать. Ответ он получил на мосту Скайуэй. Когда он подъехал к будке смотрителя и протянул в окошко доллар, тот покачал головой и сказал:
— Не требуется. За вас заплатила леди в «фольксвагене».
— Правда?
— Правда. Вы ее знаете?
— Пока нет.
— Думаю, еще узнаете. Желаю удачи.
— Спасибо.
24
Теперь Босх просто не имел права потерять Джасмин в потоке машин. Чем дольше он ехал, тем сильнее становились предощущение праздника и испытываемое им нетерпение. Он был поражен прямотой этой женщины и спрашивал себя, как и во что трансформируется это качество, когда они будут заниматься любовью.
Следуя за «фольксвагеном» Джасмин, Босх проехал на север от Тампы и свернул в квартал, называвшийся Гайд-парк. Расположенные там дома в викторианском стиле выходили окнами на залив и имели крытые подъезды с колоннами и каменными ступенями. Джасмин жила над гаражом, находившимся на заднем дворе серого с зеленой отделкой викторианского дома.
Когда они поднялись по лестнице на второй этаж и Джасмин вставила ключ в замочную скважину, Босх нахмурился. Она открыла дверь, посмотрела на него и спросила:
— Что-то не так?
— Все так. Просто мне следовало бы заскочить в аптеку.
— Не беспокойся. У меня есть все, что нужно. Подождешь здесь минутку? Мне нужно кое-что убрать.
Он пристально взглянул на нее:
— Мне наплевать, если у тебя не убрано…
— Я не поняла…
— О'кей. Делай, что хотела, и не торопись.
Он ждал минуты три, потом она открыла дверь и впустила его. Если она и в самом деле что-то убирала, то делала это в темноте. Единственный лучик света в ее квартире пробивался с кухни. Она взяла его за руку и потянула за собой в темный коридор, уходящий в глубь дома. Когда они вошли в спальню, она включила лампу, осветившую спартанскую обстановку комнаты, в центре которой стояла кованая кровать с пологом. Рядом с ней помещался ночной столик из неполированного дерева. У стены располагалось такое же бюро, а рядом с ним — антикварная ножная швейная машинка фирмы «Зингер», верхнюю деку которой украшала синяя ваза с мертвыми, засохшими цветами. Стены были голыми, но в одном месте Босх увидел торчавший из белой штукатурки гвоздь. Джасмин заметила мимолетный взгляд, брошенный Босхом на засохшие цветы, быстро подошла к швейной машинке, взяла вазу и направилась к двери.
— Надо выбросить это сено. Я забыла сделать это перед отъездом.
Пока она отсутствовала, Босх осмотрел участок стены с гвоздем. В этом месте на побелке проступали едва заметные очертания прямоугольника, и Босх решил, что раньше здесь висела какая-то картина. Джасмин оставила его за порогом квартиры не для того, чтобы прибраться. Иначе она избавилась бы и от засохших цветов. Она хотела снять и спрятать от него эту картину.
Вернувшись в комнату, Джаз водрузила опустевшую вазу на швейную машинку.
— Пиво будешь? У меня, кстати, есть еще и вино.
Босх подошел к ней и всмотрелся в ее лицо. Эта странная женщина, окутанная некой тайной, все больше его интриговала.
— Спасибо. Что-то не хочется.
Не сказав больше ни слова, они заключили друг друга в объятия. Целуя Джасмин, он ощущал исходивший от нее легкий запах табака, чеснока и пива, но ему было на это наплевать. Он знал, что она чувствует то же самое. Прервав поцелуй, он ткнулся носом ей в шею, вдыхая аромат жасминовых духов.
Потом они двинулись к постели, снимая с себя одежду в перерывах между объятиями и жаркими поцелуями. У Джаз было красивое загорелое тело с белыми полосками от купальника. Босх поцеловал ее небольшие, хорошо очерченные груди и опустился вместе с ней на постель. Она попросила его не торопиться, перекатилась на бок и достала из ящика ночного столика запаянные в фольгу презервативы.
— Это то, что называется предусмотрительностью? — спросил он.
Они расхохотались, и последнее остававшееся еще между ними напряжение исчезло.
— А вот мы сейчас это выясним, — ответила она.
Обычно Босху требовалось время, чтобы вступить в сексуальную близость с женщиной. Ему было необходимо узнать партнершу, проникнуться к ней нежными чувствами и соединить их с сексуальным желанием. Но иногда бывало, что все это волшебным образом уже присутствовало в зарождающихся отношениях, и это оказался как раз такой случай. Босху чудилось, что он давно уже знает Джаз и она всегда ему нравилась, просто не хватало смелости сказать ей об этом раньше. И не важно, сколько времени продлится их близость — час или несколько минут. Он знал, что будет прекрасно. Когда он лежал на ней, всматриваясь в ее широко раскрытые глаза, Джаз сжимала его плечи с такой силой, словно стремилась удержать не только его, но и саму свою жизнь. Их тела двигались в унисон, а потом замерли, словно повинуясь единой команде. Босх уткнулся лицом в ложбинку между ее шеей и плечом, переводя дух и с шумом втягивая в себя воздух. Ему было так хорошо, что хотелось смеяться, но он сдержался. Подумав, что смеха она не поймет, он отважился лишь приглушенно откашляться.
— Все нормально? — тихо спросила она.
— В жизни не чувствовал себя лучше.
Гарри медленно заскользил по ее телу, целуя груди и живот. Потом незаметно для нее снял презерватив и уселся на постели между ног Джасмин, раздумывая, как от него избавиться.
Спустив ноги на пол, он поднялся с постели и направился к боковой двери в надежде попасть в ванную, но это оказался встроенный шкаф. За соседней дверью он нашел то, что искал. Спустив кондом в унитаз, он рассеянно подумал, что эта штуковина, возможно, через некоторое время всплывет в заливе Тампа-Бей.
Когда он вернулся в спальню, Джасмин сидела на постели, обернув бедра простыней. Босх поднял с пола свой пиджак, вынул из кармана сигареты, прикурил две и передал одну женщине. Потом склонился над ней и поцеловал в грудь. Джаз рассмеялась. Ее смех звучал так заразительно, что Босх не мог удержаться от улыбки.
— Мне нравится, что ты пришел ко мне неподготовленным.
— «Неподготовленным»? Что ты хочешь этим сказать?
— Только то, что ты намеревался сходить в аптеку. Это кое-что говорит о тебе как о человеке.
— Что же именно?
— Если бы ты приехал сюда из Лос-Анджелеса с презервативами в бумажнике, это было бы слишком… ну, не знаю, как сказать… преднамеренно, что ли… Тогда ты был бы ничем не лучше любого здешнего сердцееда, и все, что с нами произошло, лишилось бы элемента неожиданности, спонтанности… Я рада, что ты не такой, Гарри Босх. Именно это я и хотела сказать.
Босх кивал, пытаясь понять причудливый ход ее мысли и невольно думая, как расценить тот факт, что сама она оказалась «подготовленной». Потом он решил оставить эту тему и прикурил очередную сигарету.
— Где ты так повредил руку?
Джасмин заметила отметины у него на пальцах. Босх, вылетая из Лос-Анджелеса, снял бинты. Ожоги начали подживать и превратились в два ярко-красных рубца.
— Заснул с сигаретой в руке.
У него было такое чувство, что ей он может рассказать о себе все.
— Господи! Это же очень опасно.
— Да уж, хорошего мало. Постараюсь впредь не допускать ничего подобного.
— Хочешь остаться у меня на ночь?
Босх потянулся к ней и поцеловал в шею.
— Да, — прошептал он.
Джаз дотронулась до старого шрама у него на плече. Женщины, с которыми он спал, всегда это делали. Шрам, честно говоря, был довольно уродливый, и он не знал, почему представительницам прекрасного пола так хочется его потрогать.
— В тебя стреляли?
— Да.
— Это еще опаснее.
Босх пожал плечами. Эта история относилась к области преданий, и он редко о ней вспоминал.
— Ты не такой, как другие копы, которых я знала. Тебе удалось сохранить свою человечность. Интересно, каким образом?
Он снова пожал плечами, дескать, не имею представления.
— Тебе хорошо, Босх?
Он затушил окурок в пепельнице.
— Мне хорошо. А почему ты спрашиваешь?
— Не знаю… Помнишь, о чем пел бард Марвин Гай до того, как его убил собственный отец? О возможности духовного исцеления через секс. Утверждал, что секс полезен для души… что-то вроде этого… Как ни странно, я в это верю. А ты?
— Возможно.
— Твоя душа, Босх, нуждается в исцелении.
— Может, в таком случае ляжем в постель?
Она легла и натянула на себя простыню. Босх прошелся по комнате, выключая свет. Когда он нырнул в темноте к ней под простыню, она повернулась к нему спиной и попросила обнять ее. Он обхватил ее руками и прижал к себе. Ему нравился исходивший от нее запах.
— Почему люди называют тебя Джаз?
— Не знаю. Так уж повелось. Этакое обязательное приложение к моему имени. А почему ты спросил?
— Так просто. Запах твоего тела прекрасно сочетается с обоими именами — и Джаз, и Джасмин. От тебя пахнет музыкой и цветами.
— А как, интересно, пахнет джаз?
— Он пахнет темнотой и табачным дымом.
Они надолго замолчали, и Босх даже подумал, что Джасмин заснула. А ему не спалось. Он лежал с открытыми глазами, вглядываясь в темное пространство комнаты. Неожиданно Джасмин заговорила снова:
— Скажи, Босх, что самое плохое ты сделал для себя в своей жизни?
— Что ты имеешь в виду?
— Ты знаешь, что я имею в виду. Итак, что было самым худшим? От чего ты не можешь заснуть, если вспоминаешь об этом?
Прежде чем ответить, он немного подумал над ее словами.
— Трудно сказать… — Он выдавил из себя короткий смешок. — Я в своей жизни много чего плохого сделал. Вероятно, и по отношению к себе тоже. Я часто думаю об этом ночами…
— О чем же ты думаешь? Расскажи хотя бы об одном своем прегрешении… Мне ты можешь довериться.
Он знал об этом. Знал, что может открыть ей почти все свои тайны, и она не будет судить его слишком строго.
— Когда я был ребенком — а будучи сиротой, я воспитывался большей частью в казенных учреждениях, — старший мальчик отобрал у меня новые ботинки. Мягкие мокасины. Не то чтобы они слишком уж ему нравились… По-моему, они ему даже по размеру не подходили. Но он все равно их у меня отобрал. Так сказать, по праву сильного. Потому что мог это сделать. Он был в нашем приюте заправилой и позволял себе все, что угодно. А я никак тогда на это не отреагировал, по крайней мере, внешне. Но обида еще долго меня жгла.
— Но ты же не сделал ничего дурного! Я не это имела в виду…
— Да, тогда не сделал. Я рассказал тебе об этом, чтобы ты лучше поняла остальное. Потом, когда я вырос и сам стал в приюте большой шишкой, то совершил аналогичный дурной поступок. Отобрал у младшего новые ботинки. Мальчишка был маленький, и его ботинки мне на нос не налезали. Тем не менее, я их забрал. Уже и не помню, что с ними потом сделал… Выбросил, наверное. Но я взял их, поскольку знал, что могу это сделать и мне ничего не будет. До сих пор, вспоминая об этом, я чувствую себя не лучшим образом.
Джасмин стиснула его руку, и он воспринял это как знак сочувствия, хотя она не сказала ни слова.
— Думаю, есть все-таки одна вещь, о которой я сожалею больше всего. Я отпустил одну женщину… позволил ей уйти…
— Ты хочешь сказать, что отпустил преступницу?
— Нет, я хочу сказать, что отпустил любовницу. Мы не были женаты, и, когда она решила от меня уйти, я не стал… хм… короче говоря, я пальцем не пошевелил, чтобы ее удержать. Не боролся за нее. И теперь мне кажется, что, попытайся я ее отговорить, мне, возможно, удалось бы это сделать… Впрочем, я могу и ошибаться…
— Она сказала, почему от тебя уходит?
— Нет. Но похоже, она слишком хорошо меня узнала. Я ее ни в чем не виню. Я трудный человек. И думаю, что жить со мной очень непросто. Ведь бльшую часть своей жизни я провел в одиночестве.
В комнате снова повисло молчание. Но Босх знал, что Джасмин обязательно что-нибудь скажет или задаст вопрос, и ждал, когда она заговорит. Но когда она заговорила, он не сразу понял, о ком она ведет речь — о нем или о себе.
— Есть кошки, которые шипят и бросаются на всех подряд — даже на тех, кто их любит. Говорят, это происходит потому, что с ними плохо обращались, когда они были котятами.
— Никогда об этом не слышал.
— А вот я слышала, и верю в это…
Он провел рукой по ее телу и коснулся груди.
— И в чем же смысл этой байки? — спросил он. — Не с тобой ли в детстве или юности плохо обращались?
— Как знать…
— Скажи лучше, что плохого ты сделала себе, Джасмин? Похоже, тебе просто не терпится об этом рассказать.
Он знал, что Джасмин ждет от него этого вопроса. Возможно, именно для этого и затеяла игру в откровения.
— Ты не стал удерживать человека, в которого по идее должен был вцепиться обеими руками. Я же, напротив, старалась удержать того, от которого мне следовало держаться подальше. Всегда знала, что к хорошему это не приведет, но продолжала за него цепляться. Словно стояла на железнодорожных путях и смотрела на несущийся поезд — надо бы бежать, да заворожил ослепительный свет.
Он обнял ее за плечи, поцеловал в шею и прошептал:
— Но ты все-таки убежала, верно? Вот что важно. Все остальное не считается.
— Да, я убежала, — печально проговорила она. — Выбралась из всего этого…
Она нашла под простыней его руку, лежавшую у не на груди, и накрыла ее ладонью.
— Спокойной ночи, Гарри.
Он лежал, пока не услышал ее ровное дыхание, и лишь после этого закрыл глаза. На сей раз видения его не мучили, и он медленно погрузился в тепло и темноту.
25
Утром Босх проснулся первым. Он принял душ и воспользовался зубной щеткой Джасмин, не посчитав нужным поставить ее об этом в известность. Потом оделся и спустился к машине, где лежала его дорожная сумка. Сменив белье и надев свежую рубашку, он отправился на кухню, чтобы сварить кофе, но обнаружил лишь упаковку с чайными пакетиками.
Распрощавшись с мыслью о кофе, он отправился на экскурсию по жилищу Джасмин. Старые сосновые половицы поскрипывали под ногами. Гостиная оказалась просторнее спальни и была так же скудно обставлена — софа под белым покрывалом, кофейный столик и старая кассетная стереосистема. Ни телевизора, ни CD-плейера. На стенах тоже ничего не было, но гвозди и прямоугольные пятна свидетельствовали, что здесь висели картины. Два гвоздя, судя по блестящим шляпкам, были вколочены совсем недавно.
Из гостиной сквозь высокие французские двери можно было пройти на застекленную веранду, где стояли мебель из ротанга и несколько растений в кадках, включая карликовое апельсиновое деревце со множеством плодов. Подойдя к окну, Босх окинул взглядом окрестности и увидел к югу от долины залив Тампа. Утреннее солнце освещало ландшафт ослепительным белым светом.
Вернувшись в гостиную, Босх открыл еще одну дверь, которая, судя по доносившемуся из-за нее запаху масляных красок и скипидара, вела в мастерскую. Секунду поколебавшись, он вошел в помещение.
Из окна открывалась панорама залива. Полюбовавшись великолепным видом, он понял, почему Джасмин выбрала под студию именно эту комнату. В центре на испачканном красками куске брезента помещался мольберт. Но стула рядом не было — Джасмин работала стоя. И никаких источников электрического света. Значит, она писала только при естественном освещении.
Босх подошел к мольберту и посмотрел на натянутый на подрамнике холст. Он был девственно-чистым. Джасмин к нему еще не прикасалась. Вдоль стены шел длинный рабочий верстак с разбросанными в беспорядке тубами с масляными красками. Там же находились палитра и несколько пустых жестянок из-под кофе, из которых торчали кисти. В конце верстака располагались раковина и водопроводный кран.
Под верстаком стояли натянутые на подрамники холсты. Все они были повернуты лицевой стороной к стене и на первый взгляд отличались такой же девственной чистотой, как и тот, что помещался на мольберте в центре комнаты. Но Босх, помня о торчавших гвоздях, решил устроить в мастерской небольшую ревизию и извлек из-под верстака несколько холстов. При этом он испытал странное чувство, будто расследует дело, связанное с некоей мистической тайной.
Три портрета, выполненные в темных тонах, не были подписаны, но явно принадлежали кисти Джасмин. Босх заметил, что все они сделаны в той же характерной манере, что и портрет, висевший в спальне ее отца. На первой картине была изображена обнаженная женщина, ее лицо скрывала густая тень. У Босха появилось ощущение, будто женщину на картине засасывает сгустившаяся вокруг нее тьма. Хотя лица было почти не видно, Босх сразу понял, что это Джасмин.
Вторая картина словно продолжала первую. Все та же окутанная тьмой обнаженная женщина на этот раз смотрела на зрителя. Босх отметил, что на этом портрете груди у Джасмин гораздо больше, нежели в реальности, и задался вопросом, является ли это идейным замыслом художника или воплощает неосознанное стремление приукрасить действительность. Несмотря на выписанные на заднем плане яркие красные огни, как бы подсвечивавшие силуэт женщины, картина из-за этого кроваво-красного фона производила еще более мрачное впечатление, чем первая. Босх плохо разбирался в живописи, однако понял, что это входило в намерения автора.
Третья картина не имела отношения к первым двум портретам, хотя на холсте снова была запечатлена нагая Джасмин. Полотно являло, по сути, интерпретацию знаменитой работы норвежского художника Эдварда Мунка «Крик», которая всегда привлекала внимание Босха, хотя он видел ее только на репродукциях. У Мунка испуганный человек стоит на некоем вымышленном мосту, чьи очертания, казалось, навеяли кошмарные сны. Здесь же фигура смертельно испуганного человека на переднем плане воплощала образ Джасмин. Только она поместила свою героиню в другое место — на реально существующий мост Скайуэй, находившийся неподалеку от Тампы. Босх узнал его выкрашенные желтой краской вертикальные опоры.
— Что ты здесь делаешь?
Он вздрогнул, словно его кольнули ножом в спину, и повернулся. В дверях студии стояла Джасмин в шелковом купальном халате, который обеими руками стягивала на груди. Глаза у нее припухли со сна. Видно, она только что поднялась с постели.
— Рассматриваю твои работы. Надеюсь, это не запрещено?
— Эта дверь была заперта.
— Неправда, она была открыта.
Она взялась за ручку и несколько раз повернула ее, словно пытаясь опровергнуть слова Босха.
— Дверь не была заперта, Джаз. Поверь мне. Тем не менее, извини. Я не знал, что сюда нельзя заходить.
— Будь любезен, поставь эти картины на место. Хорошо?
— О'кей. Но почему ты сняла их со стен?
— Я этого не делала.
— Интересно, тот, кто их снял, сделал это из-за наготы? Или из-за идеи, которая в них заключена?
— Прошу, не спрашивай меня об этом. Просто поставь их на место — и дело с концом.
Она вышла из комнаты. Босх вернул картины под верстак живописной стороной к стене и, выйдя из студии, отправился на поиски Джасмин. Он нашел ее на кухне. Она наливала воду в чайник из крана над раковиной и стояла к нему спиной. Гарри подошел к ней и положил руку на плечо. Она вздрогнула, словно ее ударило током.
— Прости меня, Джаз. Я всего-навсего любопытный пронырливый коп.
— Все нормально, Гарри.
— Ты не сердишься на меня?
— Не сержусь… Чаю хочешь?
Джасмин наполнила чайник, но не повернулась и не поставила его на плиту.
— Не хочу чаю. Но готов где-нибудь с тобой позавтракать.
— Когда у тебя самолет? Ты, кажется, говорил, что собираешься вылететь утром.
— Я могу остаться еще на день и вылететь завтра утром — если ты, конечно, не возражаешь. То есть если ты хочешь, чтобы я у тебя остался. Мне, во всяком случае, очень этого хотелось бы.
Она повернулась и посмотрела на него.
— Я тоже хочу, чтобы ты остался.
Они обнялись и поцеловались, но она сразу высвободилась из его объятий.
— Так нечестно. Ты уже почистил зубы, а у меня дыхание как у монстра.
— Но я воспользовался твоей зубной щеткой, и это нас уравнивает.
— Прекрасно! Теперь мне придется покупать новую…
— Совершенно верно.
Они улыбнулись друг другу, и она обняла его за шею. Инцидент в студии, казалось, был забыт.
— Позвони в авиакомпанию, а я пока переоденусь. Я знаю, куда мы сегодня поедем.
Она хотела было уйти, но Босх удержал ее. Возможно, не стоило этого делать, но одно обстоятельство не давало ему покоя.
— Хочу задать тебе один вопрос.
— Задавай…
— Почему картины в студии не подписаны?
— Думаю, они еще не готовы для этого.
— Но та, что висела в комнате твоего отца, подписана.
— Она предназначалась отцу в подарок. Потому я ее и подписала. Все остальные принадлежат мне.
— Та женщина на мосту… прыгнет в бездну?
Она ответила не сразу.
— Трудно сказать. Когда я долго на нее смотрю, мне кажется, что прыгнет. Во всяком случае, мысль об этом у нее есть. Но кто знает?
— Этого не случится, Джаз.
— Почему?
— Не случится — и все.
— Я… пойду собираться…
Она высвободилась из его рук и вышла из кухни.
Босх направился к телефону, висевшему на стене рядом с холодильником, и набрал номер авиакомпании. Договариваясь со служащей о переносе вылета на утро понедельника, Босх спросил, может ли отправиться в Лос-Анджелес не прямым рейсом, а с посадкой в Лас-Вегасе. Служащая сказала, что в этом случае задержка составит три часа четырнадцать минут и ему придется доплатить пятьдесят долларов. Босх согласился. Хотя компания уже содрала с него семьсот баксов, он не стал спорить и продиктовал номер своей кредитной карточки.
Он подумал о Лас-Вегасе, как только снял трубку. Клод Эно умер, но осталась его жена, которой пересылались его пенсионные чеки. Если ему, Босху, улыбнется удача, он получит информацию, стоившую много больше жалких пятидесяти долларов.
— Ты готов? — крикнула из гостиной Джасмин.
Босх вышел из кухни и увидел ее в джинсовых шортах и коротком топе, поверх которого она набросила белую рубашку, стянув ее узлом на талии. На носу Джаз красовались черные очки.
Она отвезла его в кафе, где им принесли блины с медом, овсянку, яйца всмятку и смазанные маслом тосты. Босх не ел овсянку со времен военно-тренировочного лагеря в Беннинге, но завтрак ему понравился. Они почти не разговаривали о событиях минувшей ночи и о картинах не упоминали. Словно разговоры на эти темы следовало вести лишь в темноте спальни.
Когда они поели, Джасмин сама оплатила счет, а Босх оставил на столе чаевые. День они провели в странствиях, раскатывая по дорогам в «фольксвагене» Джасмин с опущенным верхом. Она показала ему окрестности Тампы, начиная с Ибор-Сити и кончая Сент-Питерсбергом. За это время они сожгли полный бак бензина и выкурили две пачки сигарет. Когда день начал клониться к вечеру, они заехали в местечко под названием Индианс-Рокс-Бич, чтобы полюбоваться закатом над просторами залива.
— Я бывала во многих местах, — сказала Джасмин, — но лучше здешнего предвечернего света ничего не видела.
— А ты была когда-нибудь в Калифорнии? — спросил Босх.
— Пока не приходилось.
— Там закат иногда напоминает вулканическую лаву, изливающуюся на город.
— Должно быть, это очень красиво…
— Не то слово. Глядя на такое, о многом забываешь… Это, кстати сказать, одно из достоинств Лос-Анджелеса. Город во многом довольно мерзкий, но у него есть и прекрасные качества.
— Я тебя понимаю.
— Меня мучает один вопрос…
— Ты опять за свое? Ну, спрашивай.
— Если ты, как я понимаю, никому своих работ не показываешь, то чем же зарабатываешь себе на жизнь?
Интересное дело — Босх думал об этом весь день, но лишь когда тот пошел на убыль, отважился полюбопытствовать.
— Кое-что мне оставил отец. Он и раньше давал мне деньги. Немного, правда, но мне хватало. Зато я могу работать над картинами сколько нужно и не идти на компромиссы. Возможно, в один прекрасный день я их и выставлю. Когда мне не будет за них стыдно. Это по крайней мере честно.
За расплывчатым ответом скрывалось стойкое нежелание этой женщины демонстрировать миру свои работы, а по существу — самое себя. Но Босх решил больше не затрагивать эту тему. Однако теперь настала очередь Джасмин.
— Ты настолько коп, что без расспросов и дня прожить не можешь?
— Если я не на службе, то задаю вопросы только тем людям, которые мне небезразличны.
Она быстро чмокнула его в щеку и вернулась к машине.
Заехав к ней домой, чтобы переодеться, они отправились обедать в лучший ресторан Тампы с довольно внушительным списком вин. Интерьер ресторана был выдержан в стиле рококо, характерной чертой которого, по мнению дизайнера, являлись массивная, темного дерева, мебель с позолотой, тяжелые бархатные шторы, классические статуи и картины с античными сюжетами.
Босх подумал, что Джасмин должна была привезти его именно в такой ресторан. Когда они сели за столик, Джаз заметила, что, хотя здесь большой выбор мясных блюд, ресторан принадлежит вегетарианцу.
— А я-то думал, что такое бывает только в Калифорнии.
Она улыбнулась и некоторое время хранила молчание, что позволило Босху вернуться мыслями к его делу. За весь день он ни разу о нем не вспомнил и теперь испытывал чувство вины. Ему казалось, будто он отодвинул мать в сторону, чтобы она не мешала ему предаваться радостям бытия. Чуткая Джасмин быстро поняла, что он в очередной раз за что-то себя корит и терзается сомнениями.
— Можешь остаться еще на день? — сочувственно спросила она.
— Не могу. Должен лететь. Но я вернусь. Как только мне представится такая возможность.
Босх расплатился за обед кредитной картой, которая почти исчерпала свои возможности, и вслед за Джасмин направился к выходу. Сев в «фольксваген», они вернулись в ее квартиру и, подгоняемые предстоящей разлукой, сразу легли в постель и занялись любовью.
Интимное общение с Джасмин доставляло Босху огромное удовольствие. Ему хотелось, чтобы их близость никогда не кончалась. Он и прежде влюблялся в женщин с первого взгляда, но никогда еще чувство к почти незнакомой женщине не было столь сильным и всепоглощающим. Босх подозревал, что в немалой степени этому способствовала окутывавшая ее тайна. Это был тот самый крючок, на который она неосознанно его подцепила. Джаз казалась Босху чрезвычайно загадочной, и хотя они достигли, казалось бы, всех мыслимых пределов сближения, в ней оставалось еще много непознанного, необъяснимого.