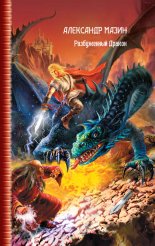Дроздовцы в огне

Наши люди были дурно одеты, терпели от ранних холодов. Уже ходили метели с мокрым снегом. Был самый конец октября 1919 года.
В оцепении прошло три дня. Мы точно ждали чего-то в Комаричах. Как будто мы ждали, куда шатнет темную Россию с ее ветрами и гулкими вьюгами. Движение исторического маятника, если так можно сказать, в те дни еще колебалось. Маятник колебался, туда и сюда, то к нам, то к ним. В конце октября 1919 года он ушел от нас, качнулся против.
В холодный тихий день — бывают такие первые дни русской зимы, когда серый туман стоит и не тронется и серое небо и серая земля кажутся опустошенными, замершими навсегда, — мы узнали, что Севск снова отбит красными, что они сильно наступают на Дмитриев.
Курск был оставлен. На курском направлении, правее нас, разгорались упорные бои. Только что сформированный генералом Манштейном 3-й Дроздовский полк занял на правом фланге дивизии фронт в соседстве с корниловцами. В первом же бою полк был разгромлен. Молодым дроздовцам не дали оглядеться в огне. Залитые кровью лохмотья полка пришлось свести в шесть рот.
Красные наступали громадными силами. 3-й Дроздовский полк и самурцы отходили под их напором. В день отхода красные повели на Комаричи сильную атаку. В памяти о том дне у меня гул студеного ветра навсегда смешался с гулом боя. Контратакой 1-й полк задержал красных, а ночью мы отступили.
В ту же ночь ударили морозы. Все побелело. Наш отход начался.
ДМИТРИЕВ-ЛЬГОВ
Красные наступают. Оставлен Севск. 2-й и 3-й Дроздовские полки и самурцы под напором отходят. Мне с 1-м полком приказано отходить от Комаричей на Дмитриев. На марше прискакал ездовой нашей полковой кухни. Он едва ушел из Дмитриева. Там красные.
Верстах в двух от города, на железнодорожном переезде, в сторожке мельтешил огонь. Мы вошли обогреться. Старик стрелочник, помнивший меня по первым Дмитриевским боям, сказал, что рано утром в городе были 2-й Дроздовский полк и самурцы, оттуда доносился гул боя, а кто там теперь — неизвестно.
От мороза звенела земля. Впервые никто не садился в седло: шли пешие, чтобы согреться. На рассвете 29 октября 2-й батальон подошел к городской окраине. Все было мертво и печально под сумеречным снегом. Дмитриев раскинут по холмам, между ними глубокий овраг. Над оврагом курился туман. Никого.
Головной батальон наступал цепями, впереди 7-я и 8-я роты поручиков Усикова и Моисеева. Первые строения; все пусто. Цепи тянутся вдоль заборов, маячат тенями в холодном тумане. Площадь, на ней темнеют походные кухни, у топок возятся кашевары — обычная тыловая картина. Может быть, наши, может быть, нет.
Но вот у кухни засуетились, глухо застучал пулемет — на площади красные. Город проснулся от боя. Красные нас прозевали, но отбиваются с упорством. Оба командира головных рот, поручик Моисеев и поручик Усиков, убиты. К вокзалу, где ведет атаку 4-я рота, тронулся 1-й батальон полковника Петерса. Пушки красных открыто стоят на большаке к Севску и бьют картечью по нашим цепям.
У меня захватило дыхание, когда я увидел, как цепи 4-й роты по мокрому снегу и грязи вышли на большак, прямо на пушки. Я видел, как смело картечью фельдфебеля роты, как капитан Иванов заскакал впереди цепи, размахивая сабелькой, как рота поднялась во весь рост, с глухим «ура» побежала под картечь. Пушки взяты. Конь под капитаном Ивановым изодран картечью. К вокзалу подошел весь полк.
Красные отдышались, подтянули резервы и перешли в сильную контратаку. А наша артиллерия уже расстреливает последние снаряды. Единственная гаубица 7-й батареи, выпустив последнюю гранату, под напором красных спустилась в овраг, разделяющий город. Красные наседают. В овраге столпились обозы. У нас ни одного снаряда.
Обмерзший, дымящийся разведчик подскакал ко мне с донесением: у вокзала на путях брошена санитарная летучка с ранеными и вагоны, набитые патронами и снарядами, — целый огнесклад.
Случай — слепая судьба боев — спас все. Рота 2-го батальона кинулась к вагонам, стала там живой цепью, передавая снаряды из рук в руки. Мы вывезли из огня санитарную летучку. Раненые, голодные и измученные, с примерзшими бинтами, плакали и целовали руки наших стрелков.
Гаубица загремела снова. Гаубичный огонь великолепен и поразителен: вихри взрывов, громадные столбы земли, доски, камни, выбитые куски стен, а главное, адский грохот. Наша артиллерия, «накормленная» снарядами, на рысях под огнем проскочила овраг и открыла пальбу.
Цепи 1-го и 3-го батальонов перешли в контратаку. Красные замялись, потом стали откатываться. Мы выбили их из Дмитриева. Уже в третий раз занимали мы город. На постой размещались по старым квартирам. Отряхивая с шинели снег, я позвонил у дверей того дома, где уже не раз стоял штаб 1-го полка. На улицах еще ходил горьковатый дым боя, смешанный с туманом. За городом стучал пулемет. Мне долго не отворяли. Наконец позвенел ключ в замке, и я услышал знакомый и милый женский голос;
— Вот видишь, я говорила… Не может быть, чтобы первый Дроздовский полк, если он в городе, прошел мимо, не освободил нас…
Мы связались справа со 2-м Дроздовским полком, но слева с частями 5-го кавалерийского корпуса связи не налаживалось. На третий день прибыл поезд с командиром Добровольческого корпуса генералом Кутеповым и начальником Дроздовской дивизии генералом Витковским.
А на четвертый, подтянув свежие силы, красные снова перешли от Севска в наступление. Это были беспрерывные атаки на 1-й полк, занимавший холмы вокруг города. Атаки разрозненные; они кидались на нас день за днем, на правый, на левый фланг, в лоб. Мы всегда успевали подтянуть полковые резервы и отбиться. Красные, наконец догадавшись, в чем слабость их ударов, поднялись с трех сторон одновременно, а их обходная колонна успела отрезать у нас в тылу железную дорогу.
Тяжелый бой. Весь день огонь, все более жестокий. Позже мы узнали, что тогда на нас наступало четырнадцать красных полков.
Подскакал ординарец — железнодорожный мост в тылу занят красными. У меня в резерве офицерская рота, 7-й гаубичный взвод и две молодые, необстрелянные роты из нового 4-го батальона. Я повел их на мост. Там кишат густые цепи красных; за мостом дымятся броневые башни серого бронепоезда. Это наш "Дроздовец".
Я приказал телефонистам включить провода в телеграф, ловить бронепоезд.
— Алло, алло, — услышал я в аппарат. — Здесь бронепоезд «Дроздовец». Кто говорит?
— Полковник Туркул. Командира бронепоезда к телефону.
— Я у телефона, господин полковник.
— Немедленно пускайте поезд на мост.
— Разрешите доложить: мост занят, красные возятся у рельсов. Путь, наверное, разобран.
— Нет, еще не разобран. Красные только что вышли на полотно. Ход вперед.
— Господин полковник…
— Полный ход вперед!
— Слушаю, господин полковник.
Как из потустороннего мира доносится спокойный голос капитана Рипке. Он такой же холодный храбрец, каким был Туцевич. Невысокий, неслышный в походке и движениях, с очень маленькими руками, светлые волосы острижены бобриком, пенсне, всегда сдержанный, не выбранится, не прикрикнет, а все замирает при виде его, и команда действительно предана до смерти своему маленькому капитану.
Железнодорожный мост загремел: «Дроздовец» полным ходом врезался в толпу большевиков, давя, разбрасывая с рельсов, расстреливая в упор пулеметами. Гаубичная открыла по ним ураганный огонь. Мои молодые роты поднялись в атаку. Все с моста сметено. «Дроздовец», грохоча, выкидывая черный дым, вкатил на вокзал: низ серой брони в пятнах крови. На броневой площадке в английской шинели стоит капитан Рипке. Он узнал меня на перроне. Поезд стал замедлять ход.
— Вперед, без остановки! — крикнул я, махнув рукой. — Вперед!
Капитан Рипке отдал честь. Бронепоезд прогремел мимо. От большака на Севск под давлением красных тогда отходила наша третья рота. Гаубицы, ставшие у вокзала, беглым огнем обстреливали красных. Воздухом выстрелов на вокзале вышибало со звоном целые оконницы. 3-я рота отходила все торопливее. Бронепоезд, Петерс и я с резервами тронулись к ним на выручку. Внезапно там что-то случилось.
Третья рота затопталась на месте. До нас донесло взрывы «ура». Солдаты 3-й роты вдруг круто повернули обратно, бегут в контратаку. Я приказал идти в атаку конному дивизиону и архангелогородцам. Конная атака окончательно сбила красных. Порывисто дыша, горячо переговариваясь, как всегда в первые мгновения после боя, 3-я рота уже строилась у вокзала. Шел редкий снег.
— В чем дело? — подскакал я к командиру. — Почему вы, не дождавшись резервов, вдруг повернули в контратаку?
Мимо нас пронесли раненого капитана Извольского, бледного, закинутого шинелью, уже побелевшей от снега.
— А вот и виновник, — весело сказал командир.
Третья рота была солдатской, ребята крепко любили старшего офицера роты штабс-капитана Извольского. Прикрывая отступление, Извольский был ранен в ногу, упал; солдаты подняли его, понесли. Под сильным огнем все были переранены. Рота быстро отходила. Один из солдат, бывший красноармеец, задетый в ногу, опираясь на винтовку, доскакал до отступающей цепи.
— Братцы, — крикнул он. — Стой, назад! Капитан Изволь ский ранен, остановись, братцы!
Тогда по всей роте поднялся крик:
— Стой, капитан Извольский оставлен, назад, назад…
И без команд, и без резервов, под сильным огнем вся рота круто повернула назад и пошла во весь рост в контратаку выручать своего черноволосого капитана. «Дрозды» вынесли его из огня.
До ночи мы передохнули, но ночью красные стали наступать от Севска. Полк начал стягиваться к вокзалу. Мы получили приказ отходить из города. Дмитриев оставлен. Мы взорвали за собой мосты. К рассвету на первое ноября наш головной батальон втянулся в глухое сельцо Рагозное. С другой стороны туда втянулись красные.
И мы и они шли колоннами. В голове: у нас — взвод 7-й гаубичной, у них — полевая батарея. Обе колонны вошли в узкую деревенскую улицу. Командир гаубичного взвода полковник Камлач успел раньше красных сняться с передков. Первым же выстрелом он угодил в красную батарею. Батальон кинулся в атаку. Нам досталась батарея, пулеметы, сотни три пленных. У нас только один раненый.
На ночлеге мы получили донесение, что справа отходит 2-й полк. Я послал сильный разъезд проверить донесение. Разъезд вернулся, один разведчик ранен. Они привели двух пленных: казаки Червонной дивизии. Верно, 2-й полк отошел; мы одни. Червонная дивизия с советским стрелковым полком прорвали днем фронт 2-го и 3-го Дроздовских полков и теперь идут в наш тыл на Льгов.
Полк поднят. Мы тронулись на Льгов. Ночью закрутила пурга. Мы шли со сторожевыми охранениями. Метется серая тьма, точно все чудовища и сам Вий вокруг бедного Хомы. Английские шинеленки обледенели, в коросте инея. Ни у кого ни башлыков, ни фуфаек. Люди обматывали головы полотенцами или запасными рубахами. На подводах под вьюгой коченели раненые и больные.
В два часа ночи в голове колонны застучали выстрелы. Смолкли. Во тьме наши разъезды натолкнулись на разъезды генерала Барбовича. Хорошо, что вовремя узнали друг друга. Генерал Барбович разведал, что Дмитриев, где, по его сведениям, должен быть мой 1-й полк, занят красными, и выслал разведку искать нас.
Нас это тронуло и ободрило. Скоро в едва белеющей степи мы заметили шевелящийся черный квадрат. Этот дышащий квадрат была вся кавалерийская дивизия Барбовича, стоявшая на стуже в открытом поле.
Люди так радовались встрече, точно стало теплее: обледеневшие полотенца стали разматывать с голов. При фонаре, прикрытом сбоку шинелью, мы с генералом Барбовичем рассматривали карту. Мы были верстах в восьми от Льгова. Вся кавалерия спешилась. Она тронулась за нами в потемки, ведя в поводу пофыркивающих коней. Иначе в седлах могли бы отморозить ноги.
Под самым Льговом, верстах в четырех, в деревушке, я дал отдых и на рассвете поднял полк. Во Льгове мертвая тишина, пустота, как недавно в Дмитриеве. Наша цепь потянулась окраинами. На улице ходит пар. Мы увидели в тумане толпу солдат, ведущих коней на водопой, и снова не знали, кто там, свои или враги. Именно тогда к штабу полка вернулся дозор с пленным: это был красный казак. Льгов занят Червонной дивизией.
Первый батальон пошел выбивать ее из кварталов, где мы уже проходили; я с остальным полком двинулся к большому мосту через Сейм. К утру 4 ноября весь Льгов и вокзал были в наших руках. Нам досталось много верховых, вконец измученных лошадей.
Я помню убитых большевиков на мосту через Сейм: все были в красных чекменях, кажется, венгерцы. Мост мы взорвали. Полк встал правее вокзала. Кавалерия Барбовича пошла в село за Льговом. Мне удалось восстановить связь со штабом дивизии, но ни с правым, ни с левым флангом связи я не добился. Мы разместили раненых и больных в железнодорожной больнице: у нас уже ходил сыпняк.
Я выставил сторожевое охранение, а полк, отогревшийся в натопленных залах льговского вокзала, дружно завалился спать. Вечером я проверял охранение верхом на моей Гальке. На маленькой речонке под нами провалился лед, и я ушел было в воду, но Галька, оскорбленная случившимся, сама порывисто вынеслась из пролома на берег.
По дороге в штаб полка на мне обледенело все, кроме воды в сапогах. Вестовой все с меня стащил — я остался в чем мать родила, но в комнатах, где разместился штаб, кажется, в железнодорожной канцелярии, было жарко натоплено. Я накинул летнюю офицерскую шинельку тонкого серого сукна, верно служившую мне домашним халатом, такую легкую, что она сквозила на свет, и сел пить чай.
Этажами ниже разместились офицерские роты, команда пеших разведчиков и пулеметчики. Где-то в самом низу обширного казенного здания была кухня. Мой Данило понес туда сушить мои одеяния. Очень мирно и, надо сказать, до седьмого пота напившись чаю, я лег. Во всех этажах все уже храпело или тихонько высвистывало во сне. Я засыпаю мгновенно, а сплю очень крепко. И сначала мне показалось, что это сон: резкая стрельба, крики, взрывы «ура». Я очнулся, сел в темноте на койке — стрельба.
Где электрический фонарик, гимнастерка, шинель? На табурете ни гимнастерки, ни шинели, ни сапог, ни даже штанов. Перекаты частой стрельбы, крики, смутный звон, как на пожаре. Нас захватили сонных, врасплох. Я сунул ноги в кавказские чувяки, стоптанные домашние туфли, надел на ночную рубаху летнюю шинель — фуражку и револьвер Данило оставил мне на гвозде — и вышел в соседнюю комнату к оперативному адъютанту подполковнику Елецкому.
Туда как раз вбежал какой-то офицер. Электрический фонарик осветил его бледное лицо.
— Чего вы спите! — крикнул он. — Красные в городе. Больница с ранеными захвачена…
— Тише, не нагоняйте панику! — крикнул Елецкий.
В это мгновение зазвенели, посыпались под пулями стекла. Мы побежали вниз. По лестнице, гремя амуницией, сбегали строиться офицерская рота, разведчики, пулеметчики, Я вышел к строю. По всему Льгову в темноте залпами перекатывалась беспорядочная стрельба, неслось «ура». Телефонная связь мгновенно и со всеми оборвалась — как отрезало, — когда связь нужна просто до крайности.
Загремела артиллерия. Мы громим гранатами тьму. Взрывами сотрясает воздух. Гранаты падают у самого штаба полка. Вдруг я услышал сильный голос командира 1-го батальона полковника Петерса:
— Сволочи, черти, кто спер мой бинокль?
— На кой черт вам бинокль? — окликнул я Петерса. — Где ваш батальон?
Из тьмы солдаты подбегали к нам поодиночке, кучками. Ночью красные незаметно перешли Сейм и кинулись на 1-й батальон, безмятежно спавший по обывательским домам.
Мы быстро связались со 2-м и 3-м батальонами; я приказал им стягиваться к вокзалу, а сам с офицерской ротой, разведчиками и пулеметчиками пошел выбивать оттуда красных.
Полная луна выплыла из-за туч. Мне припоминается дым мороза, бегущие косые столбы серебряного дыма, и как крепко звенел снег, и наши огромные тени. Мгновениями мне все снова казалось невероятным сном: косой дым, луна, грохот пальбы и торопящееся, сильное дыхание людей за мной.
На ходу моя ночная рубаха под шинелью стала как из тонкого льда и слегка звенела. Я промерз, и мне приходилось закидывать полы шинели и растирать грудь и ноги комьями снега. Должен признаться, что я при полной луне шел перед строем в одной ночной рубахе и летней шинели.
У вокзала, на залитом луной перроне, шевелилась темная солдатская толпа. Я приказал готовиться к атаке, выкатить вперед пулеметы. Мы стали подходить молча.
— Какого полка? — встретили нас обычными тревожными окликами с перрона.
Командир офицерской роты полковник Трусов ясно и спокойно сказал в морозной тишине:
— Здесь первый офицерский стрелковый генерала Дроздовского полк.
Выблеснули выстрелы, нас встретили залпами, бранью. Я приказал: "Огонь!" Мы бросились с криками «ура» на вокзал и смяли красных, захватили толпу пленных. К вокзалу, крепко хрустя по снегу, подошли 2-й и 3-й батальоны, артиллерия, люди первого батальона. Я повел их в атаку.
Еще до рассвета Льгов был очищен от красных; в глухом городке снова стало тихо, и низкий пар, как толпы привидений, поволокся по пустым улицам.
Только на вокзал притащил наконец, запыхавшись, обомлевший Данило ворох моих доспехов. В темноте он повсюду кидался под огнем, отыскивая меня, и теперь дрожащими руками начал меня облачать. На вокзале я узнал, что бинокль, за каким-то чертом понадобившийся Петерсу в самую темную ночь, никем не был «сперт», а так и висел на том гвозде, куда его повесил полковник.
— Полковник Петерс.
— Я, господин полковник.
— Теперь вы знаете, где ваш первый батальон?
— Так точно, господин полковник.
Первый батальон строился у вокзала. Началась ночная перекличка. Мы считали потери. И удивительно: в нечаянном ночном бою мы потеряли не больше десяти человек ранеными и убитыми, да пропал один ездовой с патронной двуколкой. Красным не удалось развернуться во Льгове вовсю.
В больницу, где было до двух сотен наших, красные ворвались со стрельбой и криками:
— Даешь золотопогонников!
Они искали офицеров. Несколько десятков их лежало в палатах, все другие раненые были дроздовскими стрелками из пленных красноармейцев. Ни один из них в ту отчаянную ночь не выдал офицеров. Они прикрывали одеялами и шинелями тех из них, у кого было "больно кадетское" лицо; они заслоняли собой раненых и с дружной бранью кричали большевикам, что в больнице золотопогонников нет, что там лежат одни пленные красноармейцы. Туда мы подоспели вовремя. В больнице не было ни одного замученного, ни одного расстрелянного.
Верные дроздовские стрелки. Многие из них остались в России. Может быть, дойдет до них наш привет и поклон: мы все помним льговскую ночь.
Отход втягивал нас, как в громадную воронку. Утром я получил приказание взорвать виадуки под Льговом и отходить. Мы снялись под тягостный гул взрывов. На станции, уже верстах в четырех от Льгова, ко мне подбежал телеграфист.
— Господин полковник, вас просят к телефону из Льгова.
Странно. Льгов оставлен, кто может просить меня к телефону?
Подхожу к аппарату.
— Кто у телефона?
Голос точно из потустороннего мира:
— Говорит бронепоезд "Генерал Дроздовский".
— Но откуда вы говорите?
— Со Льгова. Со мной еще три бронепоезда.
От Льгова есть железнодорожная ветка на Брянск и на Курск. На Курской ветке сбились наши бронепоезда. Им не удалось прорваться на Курск-Харьков, и они выскочили на Льгов.
Я и теперь не понимаю и никогда не пойму, как наш штаб, не проверив, что не все наши бронепоезда проскочили, мог отдать приказание взрывать льговские виадуки. Без них бронепоездам не двинуться. Все четыре попадут в руки красным.
С батальоном и со всеми подводами, какие только у нас были, я спешно двинулся обратно. Командир тяжелого бронепоезда "Генерал Дроздовский", в английской шинели, почерневший от машинного масла, встретил меня на железнодорожных путях. На его бронепоезде мы подались на ветку к застрявшим бронепоездам. Там была наша «Москва», там был наш мощный "Иоанн Калита". Ничего нельзя сделать — не вывезти никак. Не спасти, когда виадуки, развороченные взрывами, превращены в груду камней и щебня. Бронепоезда приходится бросить.
Мы посовещались на рельсах и решили взорвать все четыре. Погрузили на подводы снаряды, замки орудий, пулеметы, патроны и на рассвете быстро ушли. За нами загремели тяжелые взрывы — мы сами взрывали наших броневых защитников.
На другое утро подкатил шедший за нами бронепоезд «Дроздовец». Я помню, как капитан Рипке, совершенно бледный и, как мне показалось, спокойный, молча сидел в углу на вокзале. И мне все казалось, что ему нестерпимо холодно.
Через день капитан Рипке застрелился, не выдержал потери бронепоездов. Вспоминаю, как у его желтоватой руки, свесившейся со скамьи, сидел на корточках пулеметчик его бронепоезда, мальчик, вероятно из гимназистов или кадет. Он сидел скорчившись, зажав худыми руками лицо, и его мальчишеские плечи тряслись от рыданий.
Часа в три ночи я вернулся в штаб. В избе, разметавшись, спят вповалку восемь моих генштабистов на сумках, на вещевых мешках, на полу, на лавках, под шинелями. Из-за шаткого стола поднялся мой адъютант капитан Ковалевский и молча поклонился. Я прошел в свой угол. Не могу заснуть. Ковалевский при свече что-то пишет. Я невольно стал наблюдать за ним: меня удивила та же бледность, тот же ледяной покой, какой я видел у капитана Рипке.
Сбросив бурку, я подошел к столу: наган, пачка писем, одно адресовано мне. Я убрал наган, взял письмо. Капитан Ковалевский поднялся. Мы стоим и смотрим над свечой друг на друга.
— Господин полковник, — шепчет Ковалевский. — Вы не имеете права читать моих писем.
— Что с вами, Адриан Семенович? — шепчу я. — Ваших я не читаю, а это на мое имя.
Распечатал конверт: "Не могу перенести наших неудач. Кончаю с собой".
Я с силой взял его за руки. Мы говорили шепотом, чтобы не потревожить сна усталых людей вокруг нас. Я повел его в мой угол, изо всей силы сжимал ему руки: не смеешь стреляться, такая смерть — слабость; и просил его жить. И этот коренастый, сильный человек, в шрамах, несколько раз тяжело раненный, фанатик белого дела и Дроздовского полка, внезапно припал к моему плечу, как тот мальчик у руки Рипке, и глухо зарыдал, сам зажимая себе рот руками, чтобы никого не разбудить.
Тогда ночью, когда мы с ним шептались, Ковалевский согласился жить. Адриан Семенович застрелился уже после всего, в 1926 году, в Америке; там он очень хорошо, в довольстве жил у своей сестры. Такая смерть, видно, была ему написана на роду. В его последней записке было всего пять слов: "Без России жить не могу". Ему было не более тридцати лет.
МАРШ НА СЛАВЯНСКУЮ
Отход.
Курск, Севск, Дмитриев, Льгов — оставлено все. Взрываем за собой мосты, водокачки, бронепоезда. За нами гул взрывов. Связь со штабом дивизии прервана. На железнодорожных путях часто встречаются вереницы теплушек. Их заносит снегом. Дроздовец Рышков рассказывает в дневнике о таком замерзшем эшелоне на станции Псел: "Жарко, когда раскалена докрасна железная печка; холодно, едва она погасла. Голый по пояс офицер свесился с нар.
— Стреляйте в меня! — кричит он. — Стреляйте мне в голову!
Поручик или пьян, или сошел с ума.
— Не хочу жить. Стреляйте! Они всех моих перебили, отца… Всю жизнь опустошили… Стреляйте!
Поручика успокаивают, да и сам он очнулся, просит извинения:
— Нервы износились. До крайности.
Воет пурга. Теплушку трясет. Часовые ныряют в снегу; заносит и часовых и эшелон". Так в дневнике Рышкова — это отчаяние.
Отход — это отчаяние.
Хорошо одеты, тепло обуты советские Лебединский или Сумской полки, их первая или вторая латышские бригады. У нас подбитые ветром английские шинеленки, изношенные сапоги, обледеневшее тряпье вокруг голов.
Отход — отчаяние.
Болота, болотные речки. Грязь оттепелей, проклятые дикие метели. Глубокий снег, сугробы по грудь. Ветер то в спину, то в лицо. Едва войдешь в деревню на ночлег, уже подъем или ночной бой, без сна: красные в деревне.
Отходим по мерзлой пахоте без дорог, в лютую стужу, в потемках. Падают кони. Там, где прошли перед нами войска, холмами чернеет конская падаль, заносимая снегом. Все стало угрюмым — люди, небо, земля. Точно из железа. Выедено кругом все, вымерло. Мы идем голодные, теряем за собой замерзших мертвецов.
Шинели смерзаются от воды, когда надо вброд переходить речки, и один из наших баклажек, мальчик-стрелок Кондратьев, мог бы рассказать о том, как переходили они вброд речку в льдинах, как вышли на берег, а рук и не разогнуть: так смерзлись рукава шинелей.
Наш 1-й Дроздовский шел в арьергарде. В Люботине, уже под Харьковом, мы натолкнулись на большевиков, выбили их, получили приказ отходить на станцию Мерефу. Под Мерефой застигла оттепель. Все потекло, стало черным — туманы, небо, земля. Дороги превратились в вязкую трясину, грязь — по брюхо коням. Застревают, захлебываются грязью патронные двуколки.
Полк вымотался. Люди ложились на дороге. Пулеметы тащили на полковых кухнях, снаряды волокли в санях.
И среди наших колонн на мужицких розвальнях покачивался и в стужу и в оттепель оцинкованный гроб капитана Иванова. 4-я рота отходила со своим мертвецом командиром.
Под Мерефой я не исполнил боевого приказа: остановил на марше измученный полк. Мы заночевали в каком-то дачном поселке верстах в пятнадцати от Харькова. Харьков был занят красными.
Мои разведчики где-то разведали кур и гусей, в кооперативе поселка нашлись галеты, макароны. После пиршественного стола с чудесным супом из курятины и гусятины — такого вкусного супа мне не доводилось больше есть — все, кроме охранения, полегли вповалку у огней.
Удивительные люди солдаты. Истинные дети: поели досыта, выспались крепко и спокойно в тепле, и наутро точно переродились. Все забыто. Громкий говор, смех, дружный пар стоит над полком.
С веселой бодростью вошли в Мерефу удалые «дрозды». А в Мерефе сбились в темноте дивизия Барбовича, 2-й Дроздовский и Самурский полки. Наконец-то мы с ними встретились. Все к нам до тонкости предупредительны, рады нам даже чрезмерно. Наперебой приглашают на обеды, на завтраки, на чарочку. Чарочка всюду. Что-то неладное: уж больно за нами ухаживают.
В штабе кавалерийской дивизии генерал Барбович поведал мне о грустных причинах ухаживания. Собственно говоря, все мы в Мерефе отрезаны красными. Ими занята единственная переправа, пробиться по ней не удалось, и теперь у всех одна надежда на славный 1-й Дроздовский полк, что он не подкачает, пробьет дорогу.
Тут-то мы и зачванились. Я шучу, разумеется: мы не зачванились, а только я попросил, когда так, пусть же мой славный 1-й полк пригреют в самое тепло, накормят до отвала и дадут на славу отдохнуть.
Нас кормили кухни всех полков, бывших в Мерефе. То-то был обед, то-то был отдых богатырский. А после отдыха, со 2-м батальоном в голове, я выступил против советской пехотной и латышской конной бригад, перехвативших нам мост у села Ракитного.
Первый полк не подкачал. Удалой атакой после упорного боя мы сбили противника, очистили мост. Уже потянулись через мост пехота и конница. Первый полк побатальонно стоял впереди моста, прикрывая отступление. Я приказал отходить. Тронулось все, подался и я со своим арьергардом — офицерской ротой, командой разведчиков и пулеметной командой.
Вдруг красные поднялись в сильную контратаку. На нас понеслась конница. Если бы мы отходили без остановки, конница — это были латыши — непременно смяла бы нас. Остановка необходима. Полковник Петерс прыгает с коня, я тоже. Мы отбегаем к офицерской роте, на которую мчатся всадники, и с колена начинаем бить по ним из винтовок, мы оба хорошие стрелки. Арьергард остановился за нами, открыт сильный огонь. Красная конница с моста отхлынула.
Я поднялся, чтобы вернуться в строй. Вдруг меня ударило с такой силой под грудь, что я опрокинулся на спину. Дыхание захватило; рука в крови, на гимнастерке кровь, я ранен, я все понимаю, а сказать ничего не могу.
— Командир ранен, командир убит…
"Не убит, нет" — а сказать не могу: перехватило дыхание.
Я стрелял с колена, пуля пробила правую руку, расщепила приклад винтовки, разбила бинокль и ударила под ложечку, соскользнув с кармана гимнастерки, где у меня был серебряный образок. Он меня спас — не то прямо в сердце.
Боль отпустила, могу передохнуть, пытаюсь встать. — Нет, господа, я еще не убит.
Какая прозрачная ясность ощущения всей жизни и смерти в такие мгновения. Я не могу этого передать, но в такие моменты между жизнью и смертью нет больше черты.
Кто-то торопливо рвет зубами бинт, с меня сдирают рубаху, мокрую от крови, перевязывают руку. Образок на груди, благословение бабки на поход, разбит пулей. Мне вынули пулю из-под кожи. Живот намазали дочерна йодом. Точно негр, с обинтованной рукой, я снова сел в седло.
Тогда-то на мгновение мне показалось, что с нами все кончено: по мосту бежал обратно к нам без строя весь 1-й Дроздовский полк, с тяжелым топотом, толпами, с гулким смутным криком.
Мост, стало быть, окружен с обеих сторон, и вот сбиты Дроздовцы, загнаны обратно на мост, бегут. Я дал шпоры навстречу бегущим, а ко мне уже скачет впереди «дроздов» командир 3-го батальона полковник Тихменев.
— В чем дело? — кричу я. — Остановитесь, почему драп, почему полк бежит?
— Вовсе не драп! — кричит, смеется Тихменев. — Полк идет вам на выручку.
С моста, быстро рассказал Тихменев, к полку добежали раненые, и в цепях закипел тревожный крик:
— Командир оставлен на мосту, командир ранен, убит, ранен…
Тогда все, одним порывом, без команд, без строя бросились обратно на мост, ко мне.
Тихменев смеется, смеюсь и я, но на глазах у меня и у него непрошеные слезы.
— Скачите к ним, остановите, скажите, что я жив, жив…
Дети мои. Тогда на мосту я хорошо понял, почему старые командиры называют солдат братцами, ребятами, детьми. Ну что же, признаюсь, что я смеялся и плакал на мосту, когда пустил к полку галопом мою Гальку.
Во всю молодую грудь все радостно орут «ура», все держат мне на караул, без команды, без строя, кто где остановился. Галька закидывает уши, приседает от вопля трех тысяч ярых молодых глоток, а у меня живот черный, как у негра, и сбились бинты.
Изо всей силы я сжимаю зубы, чтобы по-мальчишески не разреветься перед всем полком. Ничто и никто и никогда в жизни не даст мне такого полного утешения, такой радости духа, как та, которую я испытал на мосту у Ракитного, когда имел честь командовать доблестным 1-м Дроздовским полком…
А отход был все путанее, все отчаяннее. Исчезли куда-то интендантские склады. Из тыла до нас доходили слухи, что там все бежит, спекулирует, пьянствует, что царюет там одна сволочь и шкурники, человеческая падаль развала.
В те тяжелые дни я сжал полк. Отборных бойцов отправил в Горловку, а других свел в один сводный батальон. Признаюсь, я думал, что люди сводного батальона, особенно из красноармейцев, отстанут от нас при отходе. Но капитан Янчев привел в Горловку весь батальон, да еще с пленными. Я свидетельствую, что и в дни отхода и тылового развала перебежчиков у нас не было. Тогда еще все чувствовали свою честную правду и силу, свою плотную и широкую дроздовскую грудь.
В Горловке был получен приказ оставить Каменноугольный район. Эшелонами и походным порядком, подбирая на пути отставших и одиночек, мы пошли на армянское село Мокрый Чалтырь. Там сосредоточилась вся Дроздовская дивизия. Это было в самом конце декабря 1919 года.
В Мокром Чалтыре стоял английский танковый отряд. Ко мне, в штаб полка, пришли с визитом англичане: лейтенант Портэр и майор Кокс. Потом я отправился к ним. Все англичане оказались прекрасными товарищами. Мы их пригласили к нам встречать сочельник. В здание школы, где были накрыты к рождественскому ужину столы, пришли довольно парадные и слегка чопорные англичане и наши офицеры, тоже подтянутые и с холодком.
Так было до первой звезды. А потом и холодок и все церемонии улетучились. Мы дружно заговорили друг с другом, хотя среди нас и не было особенных мастеров английского языка. Зато надо сказать прямо, что выпито было вдоволь. Англичане удивительно внимательно отдавали честь всем нашим настойкам и наливкам. Скоро за столами стали брататься; и целовались, и клялись в вечной дружбе. Тогда мы хорошо понимали друг друга, не правда ли, лейтенант Портэр, не правда ли, майор Кокс?
Я только подливал, сам не пил, и вскоре незаметно вышел из-за стола. В эшелоне штаба полка, на Гниловской, меня ждали к рождественской звезде моя мать и моя жена, приехавшие тогда ко мне. С капитаном Елецким и ординарцем я поскакал на дорогое свидание.
Темная ночь, звезды в тумане. Вскоре перед нами смутно засветились огни. Огни Ростова. Мы ошиблись дорогой и поскакали к ростовскому вокзалу. Давно я не видел города и теперь не узнал его. Вокзальные залы, коридоры, багажные отделения были превращены в огромный лазарет. Люди лежали вповалку. На каждом шагу надо было обходить кого-нибудь, прикрытого шинелью, переступать через чьи-то ноги, руки. Вокзал стал мрачным лазаретом. Это был сыпняк.
Мы вышли, сели на коней. Темные улицы забиты вереницами подвод, около которых стоят понурые люди. Ждут, когда их двинут куда-то. Тяжелое чувство было у меня в ту рождественскую ночь в Ростове.
Далеко за полночь мы прискакали в Гниловскую, а когда посветало, от Мокрого Чалтыря загрохотали пушки. Мы поскакали обратно. Наступал пасмурный день. Полк уже был выстроен на площади, ждал меня в строю. Тут же суетились англичане, щелкая «кодаками». Красные обстреливали шрапнелью. На самом рассвете они пошли в наступление и прорвали фронт 3-го Дроздовского полка; конница Буденного смяла и тяжело порубила офицерскую роту. Английские танки с английскими командами пошли на выручку и застряли в красных цепях.
Я приказал полку развернуться для атаки. Под звуки старого егерского марша удалые роты 1-го полка, четко печатая шаг, с оркестром двинулись в огонь. Англичане рукоплескали. Наша атака выручила 3-й полк и освободила все английские танки, застрявшие на пашне. С того дня мы с англичанами стали, можно сказать, неразливанными друзьями. Тогда мы все одинаково хорошо знали, что деремся за правду, честь и свободу человека против красного раба, не правда ли, лейтенант Портэр, не правда ли, майор Кокс?
А отход все катился. Лавиной. Ростов заняли красные. 27 декабря Дроздовская дивизия с обозами и артиллерией переправилась по льду Дона и стала в большом селе Койсуг под Батайском. Я помню Койсуг потому, что потерял там моего боевого товарища, ординарца Ивана Андреевича Акатьева, рослого красавца-солдата, ушедшего с нами в Дроздовский поход из самой Румынии. Красные зарубили Ивана Андреевича в степи.
Корниловская дивизия сменила нас в Койсуге; мы стали фронтом на берегу Дона от Азова до Кулешовки. Только здесь, как я уже рассказывал, 4-я солдатская рота рассталась с гробом своего командира, капитана Иванова.
Гудела проклятая пурга. Милость Божья и милосердие человеческое отошли от России. Россия ожесточилась. Взволчилась — как сказал мне один старик крестьянин.
В Азове в канун дня моего ангела мы получили приказ снова перейти Дон и налететь на станицу Елизаветинскую, где полковник Петерс, о чем я тоже рассказывал, один захватил в метели две красные пулеметные команды. Потом в станице Гниловской мы сменили Корниловскую дивизию, а корниловцы повели наступление на Ростов. Ростов заняли ненадолго и опять ушли. Там все было разбито и глухо. Как будто обмер обреченный город. Последнее мое воспоминание о Ростове: сыпняк, серая вша, заколоченные пустые магазины, разбитое кафе "Ампир".
Первый Добровольческий корпус отходил к Новороссийску. Моему 1-му полку приказано было идти в арьергарде. Такой была его боевая судьба — или авангард, или арьергард. Больше чем на переход оторвался полк от отступающей армии. Когда я выходил из станицы Поповичевской, меня нагнали передовые части конной армии Буденного.
Мы отбили атаку и в два часа ночи тронулись скорым маршем из станицы. Оттепель размыла дороги в отчаянную трясину. Под мокрым снегом мы остановились передохнуть в станице Старостеблиевской. Еще до рассвета, в потемках, вернулись разъезды.
— За нами идет вся конная армия Буденного, — доложили они. — Красные обходят станицу справа, их конница движется на станицу Славянскую.
Конница Буденного, тысячи всадников, перерезает нам дорогу. Выхода для нас нет. Тогда я принимаю решение: тоже отходить на станицу Славянскую, вместе с конницей Буденного. В глубоком молчании полк поднят в ружье. Все бледны, сосредоточенны; лишние подводы оставлены. Посреди полка выстроился полковой оркестр. Плавно зазвенел егерский марш; он слышен всему полку; все сняли фуражки, закрестились.
Полк двинулся на Славянскую по большаку, у самой железной дороги. Вдалеке справа, чернея и колыхаясь в мокром поле, туда же идет конница Буденного.
Дроздовские солдаты, вспомним и в самой горечи изгнания наш марш на Славянскую!
Из тумана, с поля, наехал околоток, больные и раненые, — подвод двести. Околоток заблудился. Обрадовались и раненые и мы: хорошо, что не наехали на буденовцев. Но эти двести подвод в отчаянной грязище ужасно отяготили марш.
Так мы шли часа три. Собственно говоря, мы уже были у красных в руках. Конница Буденного как будто решила, что большаком у железной дороги идет тоже советская часть. Часа три нас не трогали. Мы следили за черными полчищами Буденного, видными простым глазом. Часов в девять утра от конных косяков оторвались разъезды. Галоп к нам. Стали на всем скаку, машут шапками:
— Товарищи, какого полка, товарищи…
Я приказал молчать. Мы идем в молчании. "Товарищи, товарищи", а подскакать ближе — страшно. Повертелись, унеслись. Уже настал день, неожиданно ясный и свежий, с морозцем. Зазвенела под батальоном окрепшая дорога. Идти стало легче. По краю поля, направо, курясь столбами пара, смутно блистая, маячат конные полчища Буденного.
Вот оторвался эскадрон, другой. Мы видим, как всадники развертываются в длинную лаву. Лава несется, слышны крики:
— Какого полка? Что за часть? Почему молчите, товарищи?
Мы идем в молчании. Лавы остановились, открыли огонь. Тогда мы ответили. Залпами. Лавы ускакали. Загремела красная артиллерия. Конная армия Буденного громит нас всеми своими пушками, мы ответили всеми нашими. От грохота как будто закачалась земля. Конные атаки. Одна за другой. Катятся волнами. Мы отбиваемся, не останавливая марша; отбиваемся, идем перекатами, уступами: один батальон отбивает атаку, другой отходит, останавливается, а батальон, отбившийся от него, отходит к голове полка.
От залпов наша колонна зияет одной громадной молнией, и сквозь грохот пальбы все доносится реющий звон егерского марша. Славянская уже видна, и конница Буденного обскакала нас. Станица перед Славянской занята красными; нас встретили оттуда пушечные залпы, крики «ура». Другой дороги нет. Мы двинулись на станицу яростной лобовой атакой, пробились, смели красных, загнали в болото, захватили пушки, пленных.
Но, как темные валы, летят новые лавы. Снаряды кончаются. Вал за валом бьется о нас конница Буденного. Снарядов нет. Когда конница смоет нас, маузер к виску, конец…
И вдруг на железной дороге от Новороссийска показались дымы паровозов. Ближе, ближе, и у нас все заорало в жадном восторге:
— Бронепоезда! Бронепоезда!
Это были наши бронепоезда. Генерал Кутепов, не получая от нас донесений и слыша за собой сильный бой, приказал всем бронепоездам, которые остались на ветке от Тихорецкой на Новороссийск, немедленно идти на помощь Дроздовцам. Бронепоездов прикатило, я думаю, не менее пятнадцати. Из всех своих дальнобойных и тяжелых орудий они открыли по коннице страшный огонь. Оглушенные грохотом, мы орали в восторге.
Огонь бронепоездов разметал конницу. 1-й Дроздовский полк был спасен. Наши умирающие, те, кто уже хватал мерзлую землю руками, для кого все дальше звенел егерский марш, смотрели, смотрели на проходящие колонны, а глаза их смыкались.
Так сомкнутся и наши глаза. Отойдут и от нас колонны живых, но память о нас еще оживет в русских колоннах, и о белых солдатах еще и песню споют, еще и расскажут преданье.
Выше голову, «дрозды»! Вспомним наш марш на Славянскую!
КОНЕЦ НОВОРОССИЙСКА
Фронт рухнул. Мы катимся к Новороссийску. Екатеринодар занят красными. Особый офицерский отряд ворвался туда только для того, чтобы освободить гробы Дроздовского и Туцевича, погребенных в соборе. Гробы их освобождены, идут с нами к Новороссийску.
В станице Славянской, где полк заночевал после боя с конницей Буденного, я получил от генерала Кутепова приказание прибыть в Новороссийск, навести порядок при погрузке войск.
Безветренная прозрачная ночь. Конец марта 1920 года. Новороссийский мол. Мы грузимся на «Екатеринодар». Офицерская рота для порядка выкатила пулеметы. Грузятся офицеры и добровольцы. Час ночи. Почти безмолвно шевелится черная стена людей, стоящих в затылок. У мола тысячи брошенных коней; они подходят к соленой воде, вытягивают шеи, губы дрожат: кони хотят пить.
Я тоже бросил на молу мою гнедую Гальку, белые чулочки на ногах. Думал ее пристрелить, вложил ей в мягкое ухо маузер — и не мог. Я поцеловал ее в прозвездину на лбу и, признаться ли, перекрестил на прощанье. В темноте едва белели Галькины чулочки.
На молу люди стоят молча, слышно только скашливанье. Какая странная, невыносимая тишина; все похоже на огромные похороны. Издали прозрачно доносится каждый звук. Вот в темноте отбивает ногу какая-то часть, все ближе. Какой ровный шаг. Слышу команду:
— Батальон, смирно!
Ко мне из темноты подходит унтер-офицер, пожилой солдат нашего запасного батальона.
— Господин полковник, вверенный вам батальон прибыл на погрузку.
В запасном батальоне у нас были одни солдаты из пленных красноармейцев. Мы были уверены, что наши красноармейцы останутся в городе, не придут. А они, крепко печатая шаг, все привалили в ту прозрачную ночь к нам на мол. Должен сказать, что мне стало стыдно, как я мог подумать о них, что они не придут. В темноте молча дышал солдатский батальон.