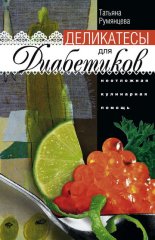Загадочная история Бенджамина Баттона
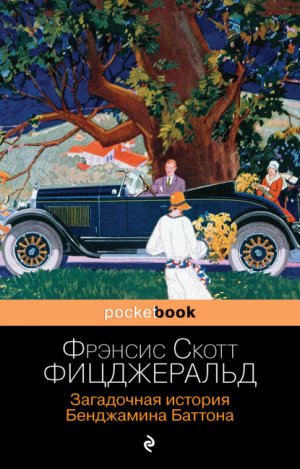
Отправляясь домой в двуколке почти на рассвете, когда послышалось жужжание первых пчел и луна еще мерцала в холодном росяном блеске, Бенджамин вполуха слушал, как его отец разглагольствовал о торговле.
– Как думаешь, что для нас важнее всего помимо гвоздей и молотков? – спросил его Баттон-старший.
– Любовь, – рассеянно отвечал ему сын.
– Угольники? – переспросил его отец. – Кажется, с ними я уже разобрался.
Бенджамин смотрел на него пустыми глазами, а небо на востоке вдруг озарилось светом, и среди проносившихся мимо деревьев показалось солнце.
VI
Когда полгода спустя стало известно о помолвке мисс Хильдегарды Монкриф и Бенджамина Баттона (я говорю, что о ней стало известно потому, что генерал Монкриф заявил, что скорее бросится на собственную саблю, чем объявит о ней лично), лихорадочное возбуждение балтиморской общественности достигло предела. Полузабытая история рождения Бенджамина была вновь извлечена на свет, носилась в воздухе, обрастая невероятными, скандальными подробностями. Говорили, что на самом деле он приходится Роджеру Баттону отцом; что Бенджамин – его брат, просидевший в тюрьме сорок лет, что он – замаскированный Джон Уилкс Бут, и в довершение всего – что на голове у него растут маленькие конические рожки.
Воскресные приложения к нью-йоркским журналам обыграли эти слухи, публикуя шаржи, где Бенджамин Баттон изображался то с рыбьим, то со змеиным туловищем, то с телом, отлитым из чистой меди. Среди газетчиков он был известен как «человек-загадка из Мэриленда». И, как всегда, правде предпочитали верить лишь немногие.
Но все, как один, были согласны с генералом Монкрифом касательно «преступного» намерения его дочери отдаться в руки мужчины, которому, вне всяческих сомнений, было пятьдесят лет. Тщетной была публикация в «Балтимор Блейз», заказанная Роджером Баттоном, где крупно было напечатано свидетельство о рождении его сына – этому никто не верил. Достаточно было просто взглянуть на Бенджамина.
Те же, кого эта история касалась напрямую, не сомневались ни секунды. О женихе Хильдегарды плели столько небылиц, что та отказывалась верить даже правде. Генерал Монкриф безуспешно твердил о том, что мужчины в пятьдесят лет (или те, кому на вид лет пятьдесят) часто внезапно умирают, напрасно он сетовал на то, что торговля скобяными товарами не приносит стабильного дохода, – Хильдегарде был нужен зрелый мужчина, и она вышла замуж.
VII
По меньшей мере в одном друзья Хильдегарды Монкриф ошибались. Торговля скобяными товарами приносила небывалые доходы. За пятнадцать лет, прошедших со свадьбы Бенджамина в 1880-м до дня, когда его отец отошел от дел, в 1895-м, состояние семейства умножилось вдвое, и большей частью то была заслуга молодого Баттона.
Стоит ли говорить, что тогда балтиморцы приняли его и жену с распростертыми объятиями. Даже старый генерал Монкриф примирился с зятем, стоило тому оплатить издание его «Истории Гражданской войны» в двадцати томах, которую отвергли девять крупных издательств.
За пятнадцать лет Бенджамин разительно изменился. Кровь кипела в его жилах, каждое утро он встречал с радостью, пружинисто шагая по шумным, солнечным улицам, чтобы без устали принимать поставки своих гвоздей и молотков. В 1890-м он стал знаменитым благодаря своей находчивости в делах: он предложил считать все гвозди, которыми были сбиты ящики с грузом гвоздей, собственностью экспортера. Предложение это было узаконено и одобрено председателем Верховного суда Фоссилом, и отныне компания по оптовой торговле скобяными товарами «Роджер Баттон и партнеры» ежегодно экономила больше шести сотен гвоздей.
Кроме того, Бенджамин постепенно стал находить удовольствие в радостях жизни. Энтузиазм его все рос, и он стал первым гражданином Балтимора, купившим автомобиль и научившимся его водить. Встретив его на улицах города, сверстники завидовали его здоровью и жизнерадостности.
«Он будто молодеет с каждым годом», – говорили они. И если папаша Баттон, которому было уже шестьдесят пять, не признавал своего сына, когда тот родился, то теперь всячески заискивал перед ним.
Теперь же стоит упомянуть об одном малоприятном факте, чтобы как можно скорее забыть о нем: единственным источником волнений для Бенджамина Баттона стала его супруга, к которой он совершенно охладел.
Хильдегарде тогда было тридцать пять лет, и у них был четырнадцатилетний сын, Роско. Когда они только поженились, Бенджамин был от нее без ума. Но годы шли, и ее волосы цвета меда утратили волнующий блеск, превратившись в каштановые, голубая глазурь ее глаз стала дешевой эмалью, и, что было хуже всего, она совершенно одомашнилась, утратив былую страсть, став бледной тенью самой себя, потеряв вкус к жизни. Раньше она не могла затащить Бенджамина на танцы и званые ужины, а теперь все было наоборот. Она все еще выходила с ним в свет, но без особой охоты, пожираемая той вечной косностью, что, лишь раз найдя приют в нашей жизни, уже не покидает нас до самого конца.
Недовольство Бенджамина росло. В 1898 году, едва разразилась испано-американская война, его дом настолько ему опостылел, что он решил пойти на фронт добровольцем. С его связями ему удалось получить патент на капитанский чин, и военное дело давалось ему с таким успехом, что он быстро дослужился сперва до майора, а затем и до подполковника и участвовал в знаменитом штурме высоты Сан-Хуан. Он был легко ранен и награжден медалью.
Тяготы и волнения кавалерийской жизни так завладели им, что он не хотел увольняться, хоть того и требовали дела его компании. Подав в отставку, он вернулся домой. На станции его встречали с оркестром и провожали до самого дома.
VIII
Хильдегарда ждала его на пороге, размахивая шелковым флагом, и поцеловав ее, он ощутил, как дрогнуло его сердце – три года не прошли для нее даром. Минуло ее сорокалетие, и в волосах супруги он заметил первые проблески седины. Зрелище это повергло его в уныние.
Наверху, у себя в комнате, его ждало такое знакомое зеркало – он подошел ближе, взволнованно изучая свое отражение, на миг сравнив его с довоенной фотографией в униформе.
– Боже правый! – вскричал он. Время шло вспять, сомнений не было – в зеркале перед ним был мужчина лет тридцати. Но это зрелище вовсе не радовало его – он становился все моложе. До сих пор он надеялся, что, когда его телесный возраст совпадет с хронологическим, невероятный процесс, омрачивший его рождение, завершится. Он задрожал. Какой немыслимый, беспощадный рок тяготел над ним!
Он спустился вниз, где его ждала расстроенная Хильдегарда, и все гадал, не догадалась ли она, что с ним происходит? В попытке разрядить напряжение, возникшее меж ними, он осторожно коснулся этой темы за ужином.
– Знаешь, – заметил он как бы между прочим, – все твердят, что я выгляжу еще моложе прежнего.
Фыркнув, Хильдегарда смерила его презрительным взглядом.
– Разве этим стоит хвалиться?
– Я вовсе не хвалюсь, – неловко парировал он.
Она засопела.
– Еще чего! – заворчала она, и, чуть помедлив, добавила: – Полагаю, тебе хватит мужества прекратить это?
– Но как? – с вызовом ответил он.
– Не собираюсь с тобой спорить, – отрезала она. – Но в жизни можно принимать верные решения или ошибочные. Раз уж ты решил, что должен отличаться от всех остальных, не стану тебе мешать, но знай, что так поступать нельзя.
– Но Хильдегарда, я ничего не могу с этим поделать!
– Нет, можешь. Просто ты упрямый. Думаешь, что можешь быть не таким, как все. Ты всегда так думал и всегда останешься таким. Но подумай, во что превратится мир, если все вдруг захотят того же, что и ты?
Бенджамин промолчал – ее доводы ничего не стоили, и продолжать разговор было бессмысленно. С тех пор пропасть меж ними только росла. Он не мог понять, как вообще когда-то мог поддаться ее чарам.
Они отдалились друг от друга еще больше, когда новый век начал набирать обороты – жажда развлечений в нем лишь усиливалась. Он был гостем каждой балтиморской вечеринки, танцуя с замужними красавицами, вовсю болтал с еще неопытными, но уже популярными светскими девицами, наслаждаясь их обществом, а его немолодая жена, как дурное знамение, была в кругу сопровождающих их пожилых дам и надменно следила за ним то с недовольством, то с торжественно-загадочным презрением.
«Глядите! Как жаль, что такой молодой красавец женат на этой сорокапятилетней женщине! Должно быть, он лет на двадцать моложе ее!» – слышались голоса сочувствующих горожан, забывших (людям свойственно забывать), что четверть века назад предметом их сплетен была та же самая несообразная пара.
В собственном доме Бенджамин чувствовал себя все более несчастным, компенсируя это все новыми увлечениями. Он стал играть в гольф, добившись значительных успехов. Занялся танцами: в 1906-м ему не было равных в бостонском степе, в 1908-м его признали мастером матчиша, а в 1909-м он танцевал касл-уок так, что от зависти лопалась вся городская молодежь.
Его хобби, конечно же, мешали ему управлять компанией, но он работал в торговле скобяными изделиями уже двадцать пять лет и полагал, что вскоре сможет передать бразды правления в руки сына Роско, недавно окончившего Гарвард.
Их с сыном теперь часто путали. Это нравилось Бенджамину – он уже забыл, какой страх овладел им по возвращении с испано-американской войны, и принимал то, как он выглядит, с наивной радостью. В его бочке меда, впрочем, была своя ложка дегтя – он терпеть не мог выходить в свет с женой. Хильдегарде было уже почти пятьдесят, и рядом с ней он ощущал нелепость всего происходящего.
IX
Однажды, в сентябре 1910-го, спустя несколько лет после того, как управление компанией по оптовой торговле скобяными товарами «Роджер Баттон и партнеры» перешло к юному Роско Баттону, молодой человек лет примерно двадцати поступил на первый курс Гарвардского университета в Кембридже. Он не стал делать никаких опрометчивых заявлений, скрывая свой истинный возраст или упоминая тот факт, что десять лет тому назад его сын стал выпускником того же самого учебного заведения.
После зачисления почти сразу его назначили на должность старосты, отчасти потому, что он был чуть старше остальных первокурсников, средний возраст которых составлял восемнадцать лет.
Но ключ к его успеху лежал в великолепном футбольном матче с Йельским колледжем, где он играл так безжалостно, решительно и с такой холодной яростью, что на его счету к концу матча было семь тачдаунов и четырнадцать мячей в воротах соперника, а также один игрок Йеля, которого унесли с поля в бессознательном состоянии. Тогда вся слава досталась ему одному.
Странным было то, что к третьему курсу он едва сумел войти в состав команды. Тренеры говорили, что он похудел и как будто бы стал ниже ростом. Тачдаунов он уже не делал, и в команде его оставили лишь потому, что одно его присутствие должно было посеять ужас и смятение среди игроков йельской команды.
На старших курсах в команду его не взяли. Он так похудел и стал таким маленьким, что однажды какие-то второкурсники приняли его за новенького, отчего он испытал невероятное унижение. Он стал чем-то вроде местного феномена – старшекурсник, которому едва можно было дать шестнадцать, и теперь его одноклассники казались ему все более приземленными. Учеба давалась ему тяжело – он чувствовал, что уже не справляется со сложными науками. Его ушей достигли разговоры других учеников о знаменитой подготовительной школе Сент-Мидас, и после выпуска он вознамерился поступить туда, где он сможет спокойно учиться среди своих сверстников.
Выпустившись из Гарварда в 1914-м, он отправился в родной Балтимор с дипломом за пазухой. Хильдегарда переехала в Италию, и Бенджамин стал жить с Роско, своим сыном. Хоть тот и встретил его довольно тепло, сердечности в нем не чувствовалось, и у Бенджамина, мечтательно слонявшегося по дому, не раз возникало ощущение того, что он попросту мешает ему жить. Роско уже женился, и ему не нужны были никакие скандальные сплетни о его семье.
Бенджамин уже не пользовался популярностью у юных дебютанток и студенток и в основном сидел без дела, общаясь лишь с тремя-четырьмя пятнадцатилетними соседскими мальчишками. Его вновь посетила мысль об учебе в школе Сент-Мидас.
– Послушай, – обратился он как-то раз к Роско, – помнишь, я говорил о том, что хочу пойти в подготовительную школу?
– Ну так иди, – отозвался сын. Он был не в восторге от отцовской затеи и не хотел продолжать разговор.
– Одному мне не справиться, – жалобно продолжал Бенджамин. – Проводишь меня туда?
– У меня времени нет, – огрызнулся Роско. Сощурившись, он исподлобья взглянул на отца.
– И кстати, – добавил он, – лучше бы тебе завязывать со всем этим. Хватит уже. Ты должен… должен…
Он покраснел, силясь подобрать слова.
– Ты должен стареть, как все остальные, эти твои шутки уже чересчур далеко зашли! Это совсем не смешно. Возьми себя в руки!
Бенджамин смотрел на него глазами, полными слез.
– И еще, – продолжал Роско, – когда к нам будут приходить гости, я не хочу, чтобы ты называл меня по имени. Обращайся ко мне «дядя», ясно? Глупо, когда пятнадцатилетний мальчишка зовет меня «Роско». А вообще, теперь будешь звать меня «дядей» все время, быстрее привыкнешь.
Он вновь окинул отца неодобрительным взглядом, а затем отвернулся.
X
Разговор был окончен, и Бенджамин понуро поплелся наверх, где вновь уставился в зеркало. Он не касался бритвы уже три месяца, но на лице его не было ничего, кроме белесого пуха, не стоившего внимания. Когда он вернулся домой из Гарварда, Роско предложил ему носить очки и фальшивые бакенбарды, и ему показалось на миг, что фарс времен его детства повторяется вновь. Но от бакенбардов у него чесалось лицо, и он стыдился носить их. Доведенный до слез, он пожаловался Роско, и тот нехотя отступился.
Бенджамин открыл книгу рассказов «Бойскауты Бимини-Бэй» и принялся за чтение. Но он постоянно думал о войне. В прошлом месяце Америка присоединилась к союзным войскам, и ему снова хотелось пойти на фронт, но призыв начинался с шестнадцати лет, а он выглядел моложе. На самом деле, если бы даже ему было пятьдесят семь – таков был его настоящий возраст, – ему бы отказали.
В дверь постучали: явился дворецкий, а в руках у него было письмо с большой печатью в углу, адресованное господину Бенджамину Баттону. Он с нетерпением вскрыл его и прочел: офицеры запаса, участвовавшие в испано-американской войне, призывались на службу с повышением в звании, и его ждала должность бригадного генерала, а также приказ немедленно явиться на призывной пункт.
Взволнованный Бенджамин подскочил от радости. Его мечта сбылась! Он натянул кепи, и десять минут спустя уже был в магазине одежды на Чарлз-стрит, неровным дискантом потребовав у клерка, чтобы тот снял с него мерки для военной формы.
– Что, сынок, в солдата поиграть захотел? – лениво спросил тот.
Бенджамин покраснел.
– Вот еще! Мало ли чего я хочу, – гневно отрезал он. – Я – Баттон, живу на Маунт-Вернон, и кому, как не вам, знать, что я еще как гожусь для военного дела.
– Ну, если не ты, – с сомнением оглядел его клерк, – то папаша твой точно годится. Будь по-твоему.
Он снял с Бенджамина мерки, и неделю спустя его униформа была готова. Непросто было получить генеральские знаки различия – продавец настаивал, что значок Юношеской Ассоциации Христиан куда красивее и с ним намного веселее играть.