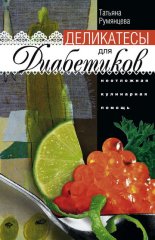Важенка. Портрет самозванки

– Анечка, спасибо, – церемонно, без особой теплоты благодарит Лара: то ли не проснулась еще, то ли про Левушку подстучал кто.
За завтраком все только и хвалят Аньку. Она же разливается соловьем, как стояла в очереди, кто что сказал, две тетки подрались уже на кассе, праздник, все бесноватые, в обратной электричке к ней один подсел. От кипящего чайника побелели стекла, и нет для них нахмуренного неба.
А после завтрака окна отпотели, и слабый луч солнца мазнул по Лариным волосам с гречишным медовым отливом.
– О, солнышко, – говорит Лара и смотрит на Важенку многозначительно.
Нечего, мол, грустить. Лара садится на кухонный табурет, домашнее платье улетает вверх по бедрам, открывая кусочек белья. Красиво переплетает гладкие ноги чуть навесу, только потом всю конструкцию на пол, на правый носочек, блестящими коленками в потолок. Выгибается, забирает волосы высоко в хвост, голова недолго в треугольниках согнутых рук, покачивает ею – прочно ли? Щелкает косметичкой, беличья кисточка танцует по сияющей коже, персиковая пыль в солнечном воздухе. Пока она подводит глаза, рисуя яркие черные стрелки, Важенка не дышит, помогает ей животом. Легкие бисерные серьги долой, тянется за массивными, почти до плеч, в виде скрипичных ключей. Чуть мотнула головой, проверяя их тяжесть, ключи закачались, зазвенели. Важенка длинно выдыхает: пава, Лара, ты пава! Лара, польщенная, плавно машет: скажешь тоже! От серебряных ключей зайчики по стенам.
Важенке грустно: вот накрасится и улетит теперь с Левушкой. Ему и дела нет, что праздник и все женатые по домам оладьи жарят. Левушке плевать на жену, он давно уже выбрал Лару, они почти не скрываются. Хоть бы Тату к обеду прибило – ее поклонник чтит Восьмое марта и семью: оладьи уже не успеет, а вот к ужину будьте добры.
– Не грусти, – Лара кисточкой проводит Важенке по носу. – Сейчас Тата приедет, посидите.
Лара упорхнула, и Важенка добровольно сдается Аньке в винегретное рабство. Раб Спица уже режет кубиками свеклу и ворчит: что за винегрет без горошка.
– Я вот лично его не очень, – Анька с мокрыми руками убегает открывать – в дверь трезвонят без остановки.
Это не Тата, а соседка Коржикова на костылях и с кучей тряпок от знакомой фарцы. Шмотки аккуратно разложили на Татиной кровати. Коржикова бубнит: футболка 25, пуссер 30, шапка-петушок, сами видите, фирма – за 25 отдам…
Ее парень Дыкин месяц назад порвал с ней из-за измены. Измена случилась так. Дыкин, его товарищ и Коржикова ночью пошли за водкой к таксистам, по пути завернули к бакам, выбросить мешок с мусором. Вернее, Дыкин пошел выкидывать, а Коржикова с товарищем остались ждать у гаражей. Вернувшись, Дыкин застал товарища с расстегнутой ширинкой, а Коржикову перед ним на коленях.
– Ой, умру сейчас, – Анька, всякий раз вспоминая историю, запрокидывала голову от смеха, крутила пятками велосипед. – Коржик, ты что, дура? От гаража до помойки минуты две ходу. Четыре – туда-сюда.
– Выпила я, – мрачно курит Коржикова. – Я вообще забылась, где, с кем, думала, что это Дыкин. Бывает, чё.
Дыкин дружка избил, Коржикову бросил. Она запила, каждый день названивала ему на работу, умоляла вернуться, угрожала покончить с собой. В один из вечеров прыгнула с балкона третьего этажа, но осталась жива. Только ноги переломала. В объяснительной не то докторам, не то ментам писала так: “Я вышла на балкон посмотреть, не едет ли Дыкин. Дыкин не ехал, и я спрыгнула”.
Важенка и Тата без конца цитировали друг другу эти слова, потому сейчас, увидев Коржикову с костылями, Важенка усмехнулась.
Тата вернулась только к вечеру, когда все уже напились. Коржикова, от которой не удалось отделаться, пьяно плакала за столом о Дыкине, о том, что на месткоме неделю назад ей отказали в постоянной прописке, а ведь три года на этих козлов, день в день, почему, почему – за аморалку! И что сейчас ходит к ней один, дружок дыкинский, Серый, но все не то, все не то. Костыли темнели в углу.
– Не, а как ты с этим Серым, ну, это самое, в койке-то? – Анька кивает Коржиковой на несвежую повязку.
– У меня чё, гипс в трусах, что ли?
Анька откидывается на табуретке, дрыгает ногами от смеха. Она и Спица разошлись от водки: подсмеиваются над Коржиковой, перекрикивая друг друга, поучают ее. Анька, щедрая душа, сбегала к себе в комнату и вернулась с флакончиком “Быть может” – на, только не реви! Коржикова полезла обниматься, благодарно завыла уже в голос.
Тата смотрит на них с ужасом, курит нервно на углу стола. Тата, иди сюда, чего ты там села, семь лет замуж не выйдешь!
– Что случилось? – тихо спросила у нее Важенка, когда та пересела ближе.
Тата сначала ей, а через три рюмки уже всем рассказала, что с кавалером они расстались. Вот что с ней не так, спрашивается: стоит влюбиться, как пожалуйста, извольте губу закатать. Как будто он раньше не знал, что женат, до перепиха. Слово это не ее, водкой принесло, поэтому Тата произносит его через запинку. Анька с Коржиковой ахают, головами крутят – такая красотка, и на тебе, туда же, совсем мужики того. Спица задумчиво разглядывает Тату.
– Вот, – говорит Тата и вытаскивает из сумки французские духи. – Типа, откупился. Держи, дорогая, и вали на все четыре…
Анька и Коржикова даже задохнулись от Татиной наглости: вот же, все есть, чего горевать-то – не парень, золото. Важенка им вторит, делано восхищается, ей нравится, что Спица от зависти прикусила губу. Полузакрыв глаза, глупо нюхают воздух вокруг затянутой “в слюду” коробки. Вы еще лизните, зло говорит Спица. Важенка широко улыбается.
Ввалился новый ухажер Коржиковой. Он даже не пьян, а как-то безумен совсем, качается, огромный.
– Психический, – тихо определила на кухне Спица, которая открывала ему. – Мне кажется, он одеколончику где-то хватил.
Коржикова разбиралась с ним в прихожей. Он куда-то волок ее, она упиралась, мат-перемат. Анька два раза, не вставая, толкала ногой дверь из кухни и предлагала им отправиться к себе отношения выяснять, но никакой реакции. Внезапно раздался глухой удар, что-то полетело, зазвенело, заголосила Коржикова. Все четверо вскочили, но на пороге кухни уже вращал белыми глазами Серый. За его спиной на полу в коридоре барахталась в своих костылях бедная Коржикова.
– Ты охренел, что ли, дебил несчастный, – завопила было Анька, но “дебил” быстрым движением захватил со стола нож, выставил его вперед.
Обычный такой столовый нож, с деревянной ручкой, лезвие в зазубринах и сколах, а вот на кончике гнутый – что-то ковыряли им.
– А ну быстро все в комнату, – заорал он, вставая боком, чтобы освободить проход. – Туда, я сказал. И ты давай туда же, шалашовка херова.
Коржикова, воя, ползла по полу к костылю, который отлетел к входной двери. Анька кинулась к ней на помощь.
Серого трясло, и нож ходуном в его лапищах. Почему-то Важенка все время думала о том, что на кончике он загнут. Еще ей хотелось добежать до своей кровати, там подушка, схватить ее, закрыться, если что. Бледные, вмиг протрезвевшие, в комнате они построились почему-то по росту, потом Тата перебежала к Важенке. Нашла ее ладонь внизу, сжала. Важенка ответила ей, и нет ничего сейчас, кроме этой руки.
– А ну, суки, вниз, на пол, – Серый свободной рукой пытался расстегнуть штаны. – У меня для вас кое-что есть…
Никто даже не шевельнулся, чтобы на пол. Как будто ждали еще одного, следующего страшного шага, чтобы подчиниться. А трясущийся нож не убеждал, они уже его видели, из-за него и стояли тут в унизительный рядок. К тому же он не мог расстегнуть брюки, и, считай, ход назад отыграли.
В дверях стукнул ключ, но Серый его не слышал – лицо его прыгало, слюна закипала в уголках рта. А через секунду Лара уже весело кричала что-то с порога, снимая сапоги.
– Убери нож, идиот, – Спица повернулась и шагнула к себе в комнату.
Анька попятилась за ней. Важенка тянула Тату за руку к своей кровати, а у Коржиковой прямо истерика:
– Лариса, беги за ментами! Сюда не ходи.
Но Лара, оживленная с улицы, с сияющим, мокрым от снега (дождя?) лицом, уже протискивается между косяком и плечом Серого. Задев краем глаза поникший нож, больше туда не смотрит. Говорит повелительно-ласково:
– Так, это что еще? Вас ни на минуту не оставить. Дети малые. Пойдем-ка со мной на кухню, друг ситный, скажу чего. Пойдем-пойдем, выпьем, я коньяк армянский привезла.
Лара берет Серого под руку, тянет на кухню.
Глава 2
Абитура
Ближний загородный поселок с широкими регулярными улочками раскинулся в прохладной тени нагретых сосен, в июльском послеобеденном часе. Каких-нибудь четыре пополудни, когда мамочки-дачницы, позевывая, уже накрывают на веранде полдник, сонно отгоняя муху. Ломают печенье в щербатую дачную тарелочку, чтобы потом, когда их возлюбленные чада проснутся, залить его молоком. Тщательно моют голубику, купленную на платформе у бабушек, в эмалевой миске под рукомойником в летней кухне. Разболтанный стук носика. Солнечный луч, с трудом продравшийся сквозь темные игольчатые кроны, сквозь мутноватый барбарис и дюшес витражей, ложится неяркими цветными пятнами на пачку печенья, руки, тарелочку на затертой клеенке, припахивающей холодной жирной тряпкой.
Тата с Важенкой идут с залива. У Важенки в руках газетный кулечек тоже с ягодами, немного намокший от сока у самого дна.
– Ты злая, что уснула, да? – спрашивает Тата. – Но ничего, целый вечер у тебя еще. Ночью тоже. Сколько тебе осталось?
В полдень она уговорила Важенку пойти на пляж, когда зубрить стало совсем невмоготу. На заливе тоже можно учиться и загорать заодно.
На берегу было солнечно и бурно, ветер трепал страницы учебника, никак не сосредоточиться. Они ушли в траншею рядом с пляжем. Сын хозяйки, у которой они снимали жилье, рассказал, что траншеи эти проложили в войну для подхода к пушкам. А еще в Ольгино зимой 42-го базировался целый бронепоезд, выкрашенный для маскировки в белый цвет, чтобы не допустить прорыва финских лыжников со стороны залива.
В траншее, заросшей серебристой жесткой осокой, ни ветерка и здорово припекает. Важенка в обнимку с “Физикой” вскоре задремала.
Тата сразу сбежала на пляж. Бродила по щиколотку в воде. Пинала прозрачную мелкую скуку залива, радуясь возможности позагорать в эти безумные дни вступительных. Солнце поджигало брызги. Оглядывала себя поминутно, подгоняя лучи не лениться с загаром. Пять минут, пятнадцать, спи-спи. Надо повернуться лицом. Девочка в белой панаме копала мокрый песок. Тата уселась рядом вязать для нее плотики из сухого тростника, который приносило сюда из Петергофа.
На этот раз Важенка совсем отчаянно боялась провалиться. Там какое-то угнетение со стороны семьи. Ну как семьи. У Важенки только мама. Тата усвоила еще в школе, что никаких вопросов о родителях детям из таких семей не задают. Из неполных или неблагополучных.
Важенка о доме не молчала. Иногда рассказывала какие-то веселые или трогательные вещи, из которых было понятно, что и она скучает, думает о своих. Молчала она о чем-то главном. О какой-то драме, горестном опыте, о чувстве или его отсутствии.
Тата тоже ни за что бы не вернулась домой. Дело даже не в тяжелой зимней спячке, в которую так надолго погружался родной город, не в замедленном ходе событий, не в укладе. Бабушка бесконечно вяжет пятку под Штирлица, брат расшатывает зуб за обедом, сколько же у него зубов. Мама с отцом обсуждают сослуживцев, мама начинает “а наша-то сегодня”, имея в виду кого-то из бухгалтерии. Держит долгую паузу. Тогда слышно, как швыркает горячим супом отец. Дело в другом. Сбегая оттуда, Тата верила, что больше не вернется. Что поступки, которые успела там насовершать, спишутся с ее счета, сгорят в топке стыда. Так огромен он был.