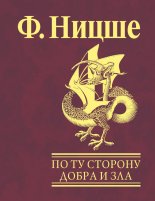Воронья дорога Бэнкс Иэн

Iain Banks
THE CROW ROAD
© Iain Banks, 1992
© Перевод. Г. Корчагин, 2018
© Примечания. А. Гузман, 2018
© Издание на русском языке AST Publishers, 2019
* * *
Снова посвящается Энн,и еще спасибоДжеймсу Хейлу, Мик Читэм,Энди Уотсону и СтивуХаттону
Глава 1
В этот день взорвалась моя бабушка.
Я сидел в крематории, внимал похрапыванию дяди Хеймиша под баховскую Мессу си минор и размышлял о том, что других причин для моего приезда в Галланах, кроме чьей-нибудь смерти, похоже, нет и быть не может.
Я посмотрел на отца: в гулкой стылой часовне он сидел через два ряда, в первом ряду кресел. Большая его голова с седеющей каштановой шевелюрой тяжело нависала над твидовым пиджаком; на рукаве чернела повязка – дань трагизму случившегося. Уши неторопливо и ритмично шевелились – очень похоже двигались при ходьбе плечи у Джона Уэйна. Мой отец скрежетал зубами. Может, сердился на бабушку: для своих похорон она заказала религиозную музыку. Но вряд ли она это сделала ему назло. Скорее всего, ей просто нравилась месса, и бабушка не подозревала, что клерикальная сущность сего произведения так противна ее старшему сыну.
Слева от отца сидел Джеймс, мой младший брат. Впервые за несколько лет я видел его без плеера; ему было явно не по себе, и он теребил свою единственную серьгу. Справа от отца восседала мать, худая и стройная. Она аккуратно заполняла собой черное пальто и служила постаментом такого же цвета шляпе в форме летающей тарелки. Вот НЛО резко накренился: мать что-то шепнула отцу. От этого движения во мне проснулась скорбь утраты. Должно быть, здорово сегодня чешутся родинки у безвременно ушедшей от нас бабушки, если она уже вернулась на этот свет в другом воплощении.
– Прентис! – Тетя Антонайна, которая сидела между мной и художественно храпящим дядей Хеймишем, потеребила меня за рукав и показала на мою ногу. Ее шепот и жест заставили меня глянуть вниз.
Нынче утром в доме тети и дяди, в холодной комнате с высоким потолком я облачился в черное. Скрипели половицы, изо рта шел пар. Мансардное оконце обледенело изнутри, и вид на Галланах застило кристаллическим узором. Я натянул черные трусы, специально из Глазго привезенные, белую рубашку (свежачок от «Маркса и Спаркса»; прохладный хрусткий хлопок еще хранил упаковочные складки) и черные «пятьсот первые». Сидя на кровати, я дрожал и пялился на две пары носков: черные и белые. Собирался надеть черные, но тут только сообразил, что какая, на хрен, разница, ведь поверх носков будут «мартенсы» – девять дырочек, две одинаковые пряжки на берце.
Когда я был здесь на предыдущих похоронах (они же – первые похороны в моей жизни), мне такой прикид казался вполне адекватным. Но сейчас в меня, повзрослевшего и образумившегося, вселились сомнения: а не буду ли я в «пятьсот первых», «мартенсах» и черной байкерской куртке выглядеть белой вороной? Я вынул из сумки белые кроссы «найк», на пробу сунул в один ногу, другую сунул в ботинок, но шнуровать поленился. Стоя перед косо висящим зеркалом в полный рост, я дрожал и выдыхал белые клубы, а половицы скрипели, и из кухни пер запах жареного бекона и подгоревших гренок.
Пусть будут кроссовки, решил я.
И вот теперь в крематории я смотрел на них, и не нравились они мне. Задрипанные-заляпанные. На строгом черном граните пола часовни смотрелись, мягко говоря, не в тему.
Опаньки! Один носок черный, другой – белый! Я заерзал на сиденье, потянул штанины книзу, чтобы прикрыть свой позор.
– Мудила хренов! – прошептал я. – Ой!.. Пардон, тетя Тоуни.
Тетушка Антонайна – шар подкрашенных розовым волос над черным пеньком воротника, точно сахарная вата на катафалке, – похлопала меня по кожаной куртке.
– Пустяки, дружок, – вздохнула она. – Уверена, старушка Марго не обиделась бы.
– Это точно, – кивнул я.
Снова мой взгляд опустился на кроссовки. И только сейчас я заметил на носке правого отчетливый след протектора. Я закинул левый «найк» на правый и без особой надежды на успех потер черный «селедочный скелетик». И вспомнил, как полгода назад вывозил старушку Марго из дома и катил мимо надворных строений и дальше, по дорожке под кронами деревьев, к озеру и морю.
* * *
– Прентис, что там у вас с Кеннетом?
Двор был вымощен булыжником, инвалидное кресло кренилось и подпрыгивало.
– Мы поссорились, бабуля, – ответил я.
– Это я и сама вижу, чай, не дура.
Она оглянулась на меня. В серых глазах, как всегда, горел огонек бодрости. Волосы у нее тоже сделались серыми и здорово поредели. Между ветвями дубов проглянуло солнце, и я под седыми прядями увидел бледную кожу.
– Да, бабуля, знаю: вы умная.
– Ну и?.. – Она показала клюкой на постройки. – А давай-ка проверим, там ли еще тачка. – Бабушка Марго снова оглянулась на меня, и покатил я кресло заданным курсом, к зеленым двустворчатым воротам одного из гаражей.
– Ну и?.. – повторила бабушка.
– Бабуля, тут дело принципа, – вздохнул я.
Мы остановились у ворот гаража, и она клюкой отодвинула засов и надавила на створку, да так, что слегка прогнулась планка. А затем, вонзив клюку в образовавшийся проем, налегла на нее и заставила двинуться вторую створку, стержень шпингалета которой проскрежетал по выточенной в бетоне канавке. Я чуть откатил кресло назад, позволяя створке распахнуться. В падающих через проем солнечных лучах кружились пылинки, а дальше было темно. Мне едва удалось различить чехол из тонкого зеленого брезента, криво натянутый на некий предмет высотой мне по пояс. Бабушка Марго приподняла клюкой край чехла, а потом ухватилась за него и – откуда только силы взялись? – сдернула одним махом. Чехол упал с передка машины, и я вкатил кресло с бабушкой в гараж.
– Дело принципа? – Она наклонилась вперед, присматриваясь к длинному темному капоту автомобиля, и снова потянула чехол, открыв уже и лобовое стекло. С колесных дисков были сняты покрышки и камеры, машина стояла на деревянных брусках. – Что еще за принцип? Не бывать в доме твоего отца? В твоем родном доме?
– Бабуля, давайте лучше я.
Сдернув брезент, я откинул его на багажник, и теперь стало видно, что заднее стекло отсутствует.
В снопе лучей прибавилось кружащейся пыли, и этот пыльный свет превратил бабушку Марго в силуэт сидящего человека; ее редкая до прозрачности шевелюра светилась подобием нимба. Бабушка глубоко вздохнула. Я посмотрел на машину. Длинная, очень красивая, старомодная в лучшем смысле этого слова. Зеленая краска скрывалась под слоем пыли. Крыша над зияющим проемом заднего окна – в царапинах и вмятинах, как и оголенная часть крышки багажника.
– Бедолага, – прошептал я, сочувственно качая головой.
Бабушка Марго выпрямила спину:
– Ты про меня или про нее?
– Бабуля…
Я запнулся, смекнув, что она меня видит очень хорошо, потому что солнце светит ей в спину. А я лицезрел лишь темный силуэт – разность между светом и мраком.
– Да ладно. – Она успокоилась и ткнула в колпак колеса палкой. – Так что там за глупые принципы?
Я отвернулся, провел пальцами по хромированной стальной полоске на задней дверце.
– Ну… папа на меня разозлился: я ему сказал, что верую… Ну, в Бога, типа того. – Я пожал плечами, не осмеливаясь взглянуть на бабушку. – Он теперь со мной не… Точнее, я теперь с ним не… Мы друг с другом не разговариваем, и я не бываю в доме.
Бабушка Марго поцокала языком:
– Вот так, да?
Я все-таки глянул на нее и кивнул:
– Так, бабуля.
– А как же отцовские деньги? Как же твое содержание?
– Ну…
Я замолчал: не знал, что и сказать.
– Прентис, на что же ты живешь?
– Да все у меня отлично, – солгал я. – Стипендии хватает. – Это я снова соврал. – К тому же мне дали грант. – Опять врака. – Да еще в баре подрабатываю.
Четвертая ложь кряду! В бар мне устроиться не удалось, и я продал свою «сиесту». Это такой «фордик» – невеличка, леноватый при разгоне с места. Покупатели намекали, что он убитый, а я спорил: фигня, тачка гаражная, просто гараж прохудился. Впрочем, тех денег давно след простыл.
Бабушка Марго долго вздыхала и качала головой. И укоризненно бормотала: «Ох уж эти мне принципы».
Она сама поехала вперед, но кресло тут же забуксовало на брезенте.
– Ты мне не поможешь?
Я подошел сзади, перекатил кресло через скомканный брезент. Бабушка открыла заднюю дверцу и заглянула в темный салон. Пахнуло тронутой плесенью кожей – мне этот запах напомнил детство, пору, когда в мире еще жило волшебство.
– Когда я в последний раз сексом занималась, это было здесь, на заднем сиденье, – мечтательно проговорила бабушка и оглянулась на меня. – Прентис, не надо так смущаться.
– А я и не…
– Все в порядке, это было с твоим дедом. – Худенькой рукой она похлопала по крылу машины и с улыбкой тихо добавила: – После танцев. – Бабушка снова посмотрела на меня, на морщинистом породистом лице – веселье, глаза блестят. – Прентис, да ты покраснел!
– Извините, бабуля, – ответил я. – Просто… ну… когда тебе не очень много лет и кто-то…
– Проехали! – Она захлопнула дверцу, и новая орда пылинок устроила себе дискотеку. – Прентис, все мы когда-то были молоды, и счастливы те из нас, кому удалось состариться.
Она покатилась назад, колесо наехало на носок моей новой кроссовки. Я приподнял кресло и помог бабушке закончить маневр, а потом повез ее к двери. Там и оставил, а сам вернулся к машине, чтобы накинуть чехол.
– Между прочим, кое-кто из нас бывает молод дважды, – прозвучало из ворот. – Когда ты в маразме, без зубов, не держишь мочу и лепечешь, как младенец…
Она задумчиво умолкла.
– Бабуля, я вас умоляю!..
– Прентис, да не будь ты таким нежным. Стареть – это же просто здорово. Что на уме, то и на языке, и все тебе прощается. Конечно, родителей мучить – тоже удовольствие неслабое, но я от тебя ожидала большего.
– Ну извините, бабуля.
Я закрыл ворота гаража, стряхнул пыль с ладоней и снова занял свое место позади кресла. На кроссовке маслянисто чернел отпечаток колеса. Я покатил бабушку к дорожке, а вороны на ближайших деревьях подняли грай.
– «Лагонда».
– Что, бабушка?
– Машина. Это «лагонда-рапид-салун».
– Да. – Я улыбнулся сочувственно, пользуясь тем, что она этого не видит. – Да, знаю.
Мы выехали со двора и с хрустом покатили по гравийной тропинке к искрящимся водам озера. Бабушка Марго мурлыкала какой-то мотивчик; судя по голосу, она была довольна. Может, вспоминала тот перепихон на заднем сиденье «лагонды»? Я-то хорошо помню аналогичный случай из своей жизни – это было на таком же растрескавшемся, скрипящем, душистом чехле. Между прочим, первый мой половой акт – и было это через несколько лет после бабушкиного финального полноценного полового акта.
Такое в нашем роду случается.
* * *
– Леди и джентльмены, уважаемые родственники покойной! С одной стороны, как вы все, несомненно, понимаете, я не переживаю душевного подъема, стоя перед вами в столь тяжелую минуту, но, с другой стороны, я горжусь и почитаю за честь, что именно ко мне обратились с просьбой выступить с речью на похоронах моего дорогого клиента, горячо любимой Марго Макхоун…
Это бабушка упросила нашего семейного адвоката Лоуренса Л. Блока выступить на ее проводах в мир иной с традиционным спичем. Он худой, как карандаш, и тупой, каким только карандаш и бывает; он долговяз и, несмотря на солидный возраст, все еще броско черноволос. Мистер Блок у нас превеликий модник, вот и сейчас он разодет в пух и прах: темно-серый двубортный костюм и невыразимая фиолетовая жилетка, дизайнер которой вдохновлялся, должно быть, изысканиями Мандельброта (впрочем, если не судить строго, узор можно было счесть пейслийским). В мелком жилетном кармашке притоплены золотые карманные часы с маленькую сковородку величиной, от них тянется цепь – на такой только сухогрузы буксировать.
Мистер Блок всегда напоминал мне цаплю. Почему – сам не знаю. Может, дело в какой-то хищной неподвижности, а может, в ауре – ауре человека, знающего, что время на его стороне. Отчего-то мне казалось, что в похоронно-кладбищенской обстановке он себя чувствует до странности комфортно.
Я сидел и слушал адвоката и вскорости задумался: а) почему бабушка Марго выбрала Блока для выступления на ее панихиде, б) пришлет ли он нам счет за эту услугу и в) кого еще из родственников покойной посетили такие же мысли.
– …Долгая история рода Макхоун в городе Галланах, рода, принадлежностью к коему она так гордилась и для коего… для коего так много пользы принесла на протяжении своей долгой жизни, отдаваясь этому занятию со всей присущей ей целеустремленностью. Мне посчастливилось знать и Марго, и ее последнего мужа Мэтью и оказывать им услуги, а с Мэтью мы были знакомы еще с двадцатых годов, когда вместе учились в школе и были друзьями. Я прекрасно помню…
* * *
– Бабуля! Ну и ну!
– Что?
Бабушка глубоко втянула дым «данхилла», взмахом кисти закрыла медную зажигалку «зиппо» и возвратила ее в кармашек кардигана.
– Бабуля, вы курите!
Бабушка кашлянула и пустила в меня струю дыма, закрыла его сизой ширмой свои пепельные глаза.
– Ну да, курю. – Она поднесла к глазам сигарету, присмотрелась к ней, затем сделала еще затяжку. – Мне всегда хотелось курить, – объяснила она и перевела взгляд на холмы и деревья на том берегу озера.
По прибрежной тропинке вдоль Пойнтхауса я прикатил ее к древним пирамидам из камней. Сел на траву. Вода была подернута рябью от ветерка. На распахнутых крыльях парили чайки, а вдали изредка тревожили воздух легковушки и грузовики, с ленивым утробным рыком выскакивая из чрева горы на шоссе между деревьями или исчезая в туннеле.
– Хильда курила, – тихо произнесла бабушка, не глядя на меня. – Это моя старшая сестра. Она курила. И мне всегда хотелось.
Я сгреб пригоршню камешков с тропинки – бросать их в волны, что лизали скалу в метре под нами, почти у верхней приливной кромки.
– Только твой дед мне не позволял, – вздохнула бабушка.
– Бабуля, но вам же вредно, – запротестовал я.
– Знаю, – подтвердила она с широкой улыбкой. – Может, потому, когда умер дед, и не стала курить: врачи сказали, что это уже вредно. – Она рассмеялась. – Но мне теперь семьдесят два, и плевать я хотела.
Я утопил еще несколько камешков.
– Но ведь для нас, молодежи, это не слишком хороший пример.
– Прентис, уж не пытаешься ли ты мне внушить, что нынешняя молодежь ждет примера от стариков?
– Ну… – состроил я гримасу.
– Если это так, то вы – первое поколение от сотворения мира, которое так поступает. – Она затянулась табачным дымом; на ее лице читалась откровенная насмешка. – Лучше делайте все то, чего старики не делали. Ведь все равно так получится, нравится вам это или не нравится.
Она кивнула своим мыслям, погасила докуренную до фильтра сигарету о ступицу колеса и щелчком отправила «бычок» в воду. Я неодобрительно хмыкнул.
– Люди редко поступают сознательно, Прентис, чаще они просто реагируют, – продолжала она будничным тоном. – Так было и в твоем случае. Отец хотел из тебя сделать убежденного атеистика, а ты возьми да ударься в религию. И вот результат… – Я будто услышал, как она пожала плечами. – Семьи с годами расшатываются. И тогда кто-то должен… привести все в порядок. – Она похлопала меня по плечу. Я повернулся. Волосы ее были очень белы на густо-зеленом фоне летних аргайлширских холмов и ярчайшей небесной синевы. – Прентис, у тебя есть какие-нибудь чувства к семье?
– Какие еще чувства, бабуля?
– Она для тебя что-то значит? Видишь ли, у каждого поколения есть свой шкворень. Кто-то, вокруг кого вращаются остальные, ты меня понимаешь?
– В какой-то степени, – ответил я уклончиво.
– Таким шкворнем был старый Хью, потом твой отец, потом – я, а дальше пошла эта катавасия с Кеннетом, Рори и Хеймишем – каждый считал себя шкворнем, да только…
– Папа точно мнит себя патриархом.
– Да, и у Кеннета, возможно, больше оснований притязать на верховенство в семье, хотя, мне кажется, Рори все-таки умнее. Твой дядя Хеймиш… – Она нахмурилась. – Этот паренек малость отклонился от прямого пути.
«Этому пареньку» было под пятьдесят, и он уже стал дедом. Не кто иной, как дядя Хеймиш, придумал «Ньютонову религию». И пытался затянуть меня, когда мы с отцом поссорились.
– Интересно, а где сейчас дядя Рори? – попробовал я отвлечь бабушку от бесперспективной и даже опасной темы, для чего и предложил нашу родовую игру. Все мы мастаки распускать слухи о дяде Рори, сочинять истории о его приключениях и выдвигать версии его местонахождения.
В прошлом многообещающий юноша, он не оправдал надежд родни, сделавшись профессиональным бродягой и фокусником-любителем. Надо заметить, лучше всего ему удался фокус с исчезновением. С его собственным исчезновением.
– Да кто ж знает? – вздохнула бабушка. – Может, умер. С тех пор как пропал, ни единой весточки от него.
– Ну, умер – это вряд ли, – отрицательно покачал я головой.
– Э, Прентис, да я слышу в твоем голосе уверенность! Что такое ты знаешь, чего не знаем мы?
– Я просто чувствую, – пожал я плечами и швырнул в воду целую пригоршню гравия.
– И твой отец думает, что Рори вернется, – задумчиво произнесла Марго. – Всегда о нем так говорит, как будто он где-то рядом.
– Дядя вернется, – кивнул я и улегся на траву, подложив руки под голову.
– Не знаю, не знаю, – сказала бабушка Марго. – По мне, так вполне может статься, что его уже нет на свете.
– Почему?
По небу была разлита густая сияющая синева.
– Ты мне не поверишь.
– Что? – Я снова сел, повернулся к ней лицом.
Бабушка Марго задрала рукав и обнажила белое в крапинах правое предплечье.
– Родинки, Прентис. Они мне много всякого рассказывают.
Я рассмеялся. Она даже не улыбнулась.
– Извините, бабуля, не понял.
Бабушка длинным бледным пальцем постучала себя по запястью, по большой коричневой родинке. Глаза сощурились. Она наклонилась ко мне и снова постучала по родинке.
– Ни шиша, Прентис.
– Ни шиша? – переспросил я, не зная, можно ли еще разок рассмеяться.
– За восемь лет – ни единого намека, ни малейшего ощущения. – Она говорила глухо, почти хрипло, а на лице – ухмылочка.
– Бабуля, сдаюсь: вы о чем толкуете?
– Да о родинках своих, Прентис. – Она изогнула бровь, со вздохом откинулась на спинку инвалидного кресла. – Благодаря родинкам я всегда в курсе того, что в моей семье делается. Когда обо мне заходит разговор, родинки зудят. И когда… что-нибудь особенное с кем-то происходит, они тоже чешутся. – Она нахмурилась. – Не всегда так бывает, но как правило. – И сурово глянула на меня. Ткнула в мою сторону клюкой. – Отцу ни слова! Он меня в дурдом упечет.
– Что вы, бабуля! Конечно, не расскажу. Да он бы и не упек…
– Откуда такая уверенность? – снова сузились ее глаза.
Я оперся на колесо инвалидного кресла.
– Так я правильно понял? Когда кто-нибудь из нас заговаривает о вас, чешутся родинки?
Она хмуро кивнула:
– Иногда чуть-чуть зудят, а подчас даже до боли. И чесаться они могут по-разному.
– А эта родинка отвечает за дядю Рори? – кивнул я скептически на большое пятнышко на правом бабушкином запястье.
– Верно. – Бабушка постучала клюкой по подножке инвалидного кресла, а затем подняла руку и впилась в коричневое пятнышко на коже обвиняющим взглядом. – Уже восемь лет – ни шиша!
Я посмотрел на спящего коричневого оракула с нервозным уважением, которое боролось во мне с воинствующим недоверием.
– Ну и ну, – сказал наконец я.
* * *
– …Пережили ее дочь Ильза и сыновья Кеннет, Хеймиш и Родерик.
Милейший адвокат Блок кивнул на моего отца и на дядю.
Отец все скрежетал зубами, дядя Хеймиш перестал похрапывать и даже тихонько вздрогнул при звуке своего имени. Он открыл глаза, огляделся – как мне показалось, обалдело – и снова расслабился. Через секунду клюнул носом, задремывая.
Упоминая дядю Рори, мистер Блок окинул взором заполнивший часовню люд, как будто ожидал, что дядя Рори сей же момент эффектно возникнет пред ним и пред своими родичами.
– А также, несомненно, разделяет с семьей ее скорбь муж Фионы – младшей дочери усопшей. – Тут мистер Блок обрел сугубую серьезность и даже ухватился за лацканы пиджака, торжественно кивая на дядю Фергюса. – Мистер Эрвилл, – добавил адвокат, завершая кивок, который, по мне, сошел бы и за поклон, и одновременно прочищая горло.
Коленопреклонение содеяно, должная ссылка на былую драму прозвучала, и большинство людей, обративших взоры на дядю Фергюса, отвернулись.
А моя голова осталась в прежней позиции. Дядя Фергюс – довольно интересный типаж, и к тому же он (о чем наверняка осведомлен хищный мистер Блок), пожалуй, самый богатый и уж точно самый влиятельный человек в Галланахе. Но смотрел я не на него. Рядом с квадратным толстошеим Эрвиллом из рода Эрвиллов (траурно-великолепным в семейно-похоронном прикиде из шотландки, сочетавшей густо-фиолетовый, темно-зеленый и просто черный цвета) не сидела ни одна из его двух дочерей. Где же вы, Дайана и Хелен, длинноногие гении самой холено-лощено взлелеянной красоты, какую только можно купить за деньги? Но зато была его племянница – сногсшибательная, замечательная, золотоволосая, персиковоликая, бриллиантовоглазая Верити из дома Эрвиллов. Короче, девочка из тех, на ком отдыхает глаз.
Но моим зенкам было не до отдыха: они с волчьим аппетитом пожирали эту изящно-угловатую половозрелую фигурку, упакованную в черное и сидящую, слава богу, с той стороны от дяди, которая была ближе ко мне. Верити пришла в белой стеганой лыжной куртке, но в стылом крематории почему-то сняла ее, оставшись в черной юбке, черной блузке, черных… (колготках? чулках? господи, какое же это удовольствие – просто воображать себе, что кроется под ними!) и черных туфлях. В свете, что лился с потолка через прозрачные панели, было видно, как трепещет гладкая ткань блузки: черный шелк, спадавший с девичьей груди тенистыми складками, натурально дрожал! Я почувствовал, как распирает мою грудь, как расширяются глаза; спохватившись, что так пялиться неприлично, я уже собрался отвести взгляд, как вдруг точеная головка с коротко стриженными светлыми волосами, с подбритыми висками повернулась и наклонилась: спокойное лицо обратилось ко мне, и я увидел глаза, притененные густыми, потрясающе черными бровями. Они медленно моргнули. Верити смотрела на меня.
Губы чуть растянулись в улыбочке, а взгляд бриллиантовых глаз сделался пронзительным – она заметила бедного Прентиса! Потом взгляд двинулся дальше, сфокусировался уже на ком-то другом и вернулся в исходную позицию. Я тоже отвернулся – чувства были напрочь расстреляны этим прицельным взглядом, шея одеревенела. Верити Уокер ела мое сердце. Поглощала мою душу.
* * *
– А папина родинка?
– Вот. – Бабушка Марго постучала пальцем по своему левому плечу и рассмеялась. Мы продвигались между берегом и деревьями. – И зудит, между прочим, довольно часто.
– А моя? – осведомился я, бредя за инвалидным креслом. Байкерскую шкурку я снял, и теперь она лежала на бабушкиных коленях. Бабушка оглянулась на меня, выражение ее лица мне понять не удалось.
– Здесь. – Она хлопнула себя по животу и отвернулась. – Что, Прентис, скажешь, я не шкворень?
– Ха! – постарался я ответить как можно беспечнее. – Пожалуй, вы правы. А как насчет дяди Хеймиша? Где он?
– На колене, – постучала она по гипсу на ноге.
– Кстати, как нога, бабуля?
– Отлично, – проворчала она. – Через неделю снимут гипс. Скорей бы…
Колеса инвалидного кресла шуршали по травянистым обочинам дорожки. Я вспомнил, что хотел кое о чем спросить.
– Бабуля, а что вы хотели сделать с тем деревом?
– Да только ветку отпилить.
– Зачем?
– Белки сделали из нее трамплин для прыжков на птичью кормушку, вот я и решила положить этому конец.
Она клюкой сбила с тропинки в воду мятую коробку из-под йогурта.
– Сами? Может, стоило кого-нибудь попросить?
– Прентис, ты переоцениваешь мою недееспособность. Не кинься на меня та ворона, все было бы в порядке. Дрянь неблагодарная!
– А, значит, птица виновата?
Я представил себе, как лупоглазая черная птица пикирует на бабушку и сбрасывает ее с лестницы. Может, ворона смотрела «Омен»?
– Кто ж еще? – Бабушка Марго извернулась в кресле, подняв и клюку, и голос: – Несколько лет назад я бы одними синяками отделалась. Будь она проклята, хрупкость бедренных костей. Столько из-за нее в старости проблем, особенно у женщин. – Она коротко кивнула. – Так что считай себя счастливчиком.
– Как скажете, – улыбнулся я.
– Чертовы птицы, – пробормотала она, разглядывая шеренгу ясеней на краю поля с такой лютой ненавистью, что я уже был готов услышать протестующий вороний грай. – Ладно, – пожала она плечами. – Поехали-ка домой, мне пора.
– Как скажете, – повторил я и развернул кресло.
Бабушка Марго закурила новую сигарету.
– Ветка, между прочим, никуда не делась.
– Я о ней позабочусь.
– Ай да молодец!
Где-то в вышине подал голос жаворонок. Я катил бабушку по тропинке у воды. Вывез ее на шоссе, а затем – на гравиевую подъездную дорожку. И наконец мы пересекли залитый солнцем двор перед высоким домом с засиженным воронами фронтоном.
В тот же день я спилил злополучную ветку и поехал в Галланах, в гости к дяде Хеймишу – чаевничать. Отец подкатил, когда я с лестницы пилил живой дуб и отмахивался от слепней. Он, выйдя из «ауди», постоял и посмотрел на меня, потом скрылся в доме, а я все пилил.
* * *
Мой прапрапрадед Стюарт Макхоун был похоронен в особом гробу – отлитом из черного стекла умельцами, которые работали под его началом, когда он был управляющим фабрикой «Галланахское стекло» (теперь эту должность занимал дядя Хеймиш). Бабушке Марго достался вполне традиционный – деревянный – «ящик». Он уехал в стену, когда месса Баха вышла на последнее хоровое крещендо. Облицованная деревом дверь скользнула по желобам на свое место, загородила нишу, в которой скрылся гроб, а затем перед ней опустился небольшой пурпурный занавес.
Под присмотром надзирателей-похоронщиков мы все выстроились для безусловно важного и ответственного ритуала покидания часовни. Первыми вышли мои отец и мать.
– Тоуни, я же говорил, мы не там сели, – услышал я за спиной шепот дяди Хеймиша.
Тетя Тоуни лишь цыкнула: «Ш-ш-ш!»
Снаружи стоял тихий пасмурный день, было прохладно и сыровато. Тянуло дымком: где-то поблизости жгли палую листву. Глазам открывалась обсаженная березами дорога, что вела от крематория к городу и океану. Вдали, в дымке, северная оконечность острова Джура казалась темным пастельным пятном, лепешкой на серой глади моря. Я оглянулся: повсюду запаркованные машины, между ними люди в темном стоят группками, толкуют о своем. В неподвижном воздухе белели выдыхаемые ими клубы. Дядя Хеймиш разговаривал с адвокатом Блоком, тетя Антонайна – с моей матерью, отец – с Эрвиллами. Фигурка отпадной Верити почти целиком пряталась за моим отцом, лишь выступал край снежно-белой лыжной куртки из-за твидового пальто моего старика. Я хотел было сместиться, чтобы видеть Верити лучше, но передумал: вдруг кто-нибудь заметит сей маневр. Хорошо хоть, что она приехала без «эскорта» – такой мыслью ободрил я себя. Вот уже два года я боготворил Верити. Боготворил издали, потому что раньше ее всегда сопровождала преотвратнейшая тварь по имени Родни Ричи. Его родителям принадлежала в Эдинбурге фирма «Доставка грузов “Ричи” – сервис надежный и цены в рамках приличий». Мой отец как-то побывал у них в гостях и под впечатлением этой встречи придумал термин «ричевое излишество». С недавних пор в семействе Эрвиллов муссировался слух, будто Верити взялась за ум и готова дать «Доставке» отставку. По крайней мере, на этот раз предмет моего обожания явился сюда без дегенерата Родни на буксире – что обнадеживало.
Я подумал, не подойти ли к Верити. Ну, может, потом, когда в замок вернемся. Еще я склонялся к мысли насчет поговорить с Джеймсом, но братишка опирался на стену крематория, явно пребывая не в духе: томился скукой и, похоже, замерз в кем-то одолженном пальто, в шапке с опущенными «ушами», под которые наконец-то (прощай мучительная ломка) вернулись наушники плеера. До сих пор, должно быть, наDoors торчит. В эту минуту я едва не пожалел, что рядом нет нашего старшего брата Льюиса: ему не удалось выбраться на похороны. Льюис симпатичный, он смышленей и остроумней меня, поэтому я нечасто по нему скучал.
Я остановился возле «ягуара» дяди Хеймиша. Может, просто сесть в машину? Или подойти к кому-нибудь завязать разговор? Я чувствовал, что приступ застенчивости – каковой болезни я, к сожалению, подвержен – уже неминуем.
– Здравствуй, Прентис. Как дела?
Это был низкий и хриплый, но все же девичий голос. Подошла Эшли Уотт, похлопала меня по плечу. За ней по пятам следовал братец Дин. Я кивнул:
– Привет. Все путем. Здорово, Дин.
– Салют, чувак.
– Ты ради этого приехал? – Эш кивнула на серый гранит приземистых крематорских построек. Ее длинные желтовато-коричневые волосы были собраны в узел на затылке; угловатое волевое лицо, на котором господствовали орлиный нос и большие очки с круглыми линзами, казалось озабоченным и печальным. Мы с Эш – сверстники, но при ней я всегда почему-то чувствовал себя моложе.
– Ага. В понедельник – обратно в Глазго. – Я опустил взгляд. – Ух ты! Эш, я тебя в юбке еще ни разу не видел.
Эш всегда носила джинсы. Мы с ней дружили, сколько себя помнили, на одном ковре в одни игрушки играли, но чтобы она ходила в чем-нибудь кроме джинсов – не припомню, хоть убейте. Ведь ноги у нее в порядке, сейчас вполне симпатичные икры выглядывают из-под черной миди-юбки. На Эшли большая тужурка морского фасона с завернутыми обшлагами и черные перчатки; благодаря средней высоты каблукам она теперь одного роста со мной.
– Короткая у тебя память, Прентис, – улыбнулась Эш. – Школу помнишь?
– Школу? Ага, – кивнул я, глядя на ее ножки. – А кроме школы – ни разу.
Я пожал плечами и осторожно улыбнулся.
В средней школе я был несносным ребенком, и был им долго, с первого дня обучения до конца четвертого класса. И самое яркое воспоминание, связанное с Эш, – как мы с ее двумя братьями устроили засаду и забросали снежками ее с сестрой и их мальчиков, когда в сумерках они возвращались из школы домой. Чей-то снежок сломал длинный острый нос Эшли. Я подозревал, это мой грех, – подозревал по той лишь причине, что вроде бы никто больше не улучшал баллистические качества снежков увесистыми камешками.
Нос ей, конечно, поправили, и по окончании школы мы даже подружились.
Эш чуть нахмурилась, ее серые глаза, слегка увеличенные линзами, смотрели в мои.
– Мне очень жаль, что бабушки Марго больше нет. Всем нам жаль. – Она резко обернулась к брату, закуривавшему позади нее «регал».
Он кивнул. На нем были темные джинсы и темно-синее пальто «кромби», видавшее как будто лучшие десятилетия.