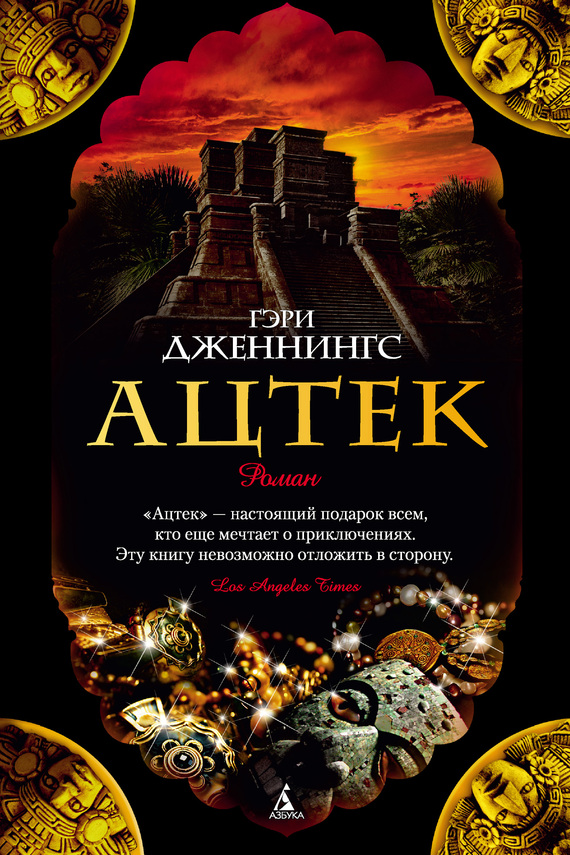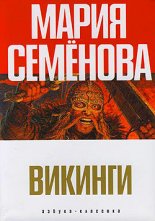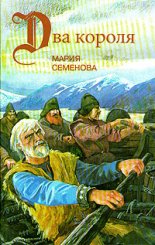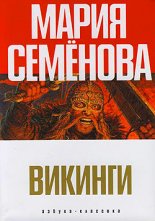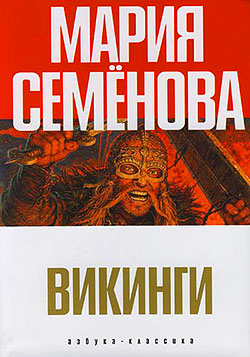Рождение волшебницы Маслюков Валентин

Читать бесплатно другие книги:
Мужественные, отважные люди становятся героями книг Марии Семёновой, автора культового «Волкодава», ...
В очередной том серии включена новая книга Марии Семёновой, рассказы и повести о викингах, а также э...
Мужественные, отважные люди становятся героями книг Марии Семёновой, автора культового «Волкодава», ...
Мужественные, отважные люди становятся героями книг Марии Семёновой, автора культового «Волкодава», ...
Развитие такой общественной структуры, как государство, подчиняется определённым эволюционным закона...