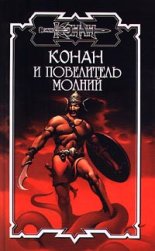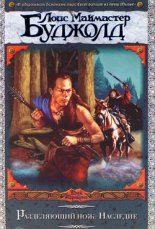<НРЗБ> Гандлевский Сергей

– Напомнить тебе день за днем развитие событий? – спросил в ответ Никита. – Как говорит в таких случаях мой дед, на свое же дерьмо с топором.
– Ну-ну.
И наткнувшись в потемках прихожей на полуголую Аню с чашкой чая на весу, Криворотов пляшущими руками справился с дверным замком и затопотал вниз по лестнице.
Но уже спустя неделю, после страстных клятв в совершенном презрении и упражнений в равнодушии он как миленький, как проклятый, с падающим сердцем накручивал на телефонном диске семь цифр в заветном порядке, чтобы только услышать голос с восхитительным пришепетыванием.
Он знал на память, сколько длится журчание диска на каждую цифру набора (короткий всхлип единицы, за ним – перелив подлиннее, после – вовсе длинная трель, потом – два одинаковых двусложных такта, затем звук снова встает на цыпочки, но так и не дотягивается до давешней полноценной музыкальной фразы, соответствовавшей «восьмерке», и, наконец, снова стаккатто «единицы», кольцующее уникальную цифровую строфу). Он мог различить скулеж Аниного зуммера, возьмись дюжина телефонных аппаратов попискивать хором, как недельный помет в корзине.
Это что! А каких чудес изобретательности и долготерпения достиг он в искусстве выслеживания и ожидания! Делалось так: если Анина тетка отвечала в трубку, что племянницы нет и неизвестно, когда объявится, Криворотов пулей мчался к дому у Поклонной горы и, ворвавшись в один-единственный телефонный автомат с нужным Леве обзором окрестности, повторял звонок.
– Нет, по-прежнему, нет, где-то шляется. Позвоните попозже или с утра, авось, застанете, – успокаивала его наивная родственница.
Тетушка напрасно изволила беспокоиться: Лева уже нес вахту, дело было только за временем. Подъезд, изредка впуская и выпуская каких-то безликих статистов, издали зевал Криворотову в лицо, автобусные и троллейбусные остановки виднелись как на ладони, метрах в ста по левую руку. Сидя на корточках и привалясь спиною к дворовой липе, Лева устраивался поудобнее и запасался терпением. Если ожидание затягивалось на два-три часа и Леве приспичивало оставить пост, чтобы помочиться за гаражами, он по возвращении, тихо матеря барахливший автомат и мнительно, точно наемный убийца, переводя взгляд с автобусной остановки на подъезд и обратно, сызнова накручивал телефонный диск, будил маниакальными позывными тетку и убеждался, что беды не случилось, и Аня не проскользнула домой в краткие минуты Левиной отлучки. Так он и стоял частенько, рифмуя все со всем, куря без счета, поднимая голову к первой местной звезде, гадая на автомобильных номерах, как на внутренностях птиц, прилежно пытаясь попасть в резонанс судьбе. Но, вопреки Левиной бдительности, сюрпризы ему преподносились нередко. Криворотов знал Анины маршруты досконально, но порой она подходила к дому с неожиданной стороны, ведь Криворотов не мог предусмотреть, что девушка проедет лишнюю остановку за компанию с говорливой интеллигентной старушкой, у которой внучка тоже студентка, только консерватории. Или что с визгом тормозов левак-лихач на ведомственной «Волге» высадит девицу, вдруг обернувшуюся Аней, вплотную к парадному, и Лева запоздало спохватится и бросится ей наперерез, когда дверь за гуленой гулко захлопнется и лифт взмоет, а выйти из дому на отчаянный телефонный призыв вдогонку она откажется наотрез, потому что смертельно устала и вообще сыта по горло его истериками.
Она и на оговоренные загодя свидания умудрялась являться, заставая Криворотова врасплох. И он, сбитый с толку, нет-нет, а поглядывал в направлении, противоположном разумному (а вдруг?). Так оно всегда и бывало с нею: уже совсем отчаешься, ожидаючи, когда угадывались в толпе – по обыкновению не оттуда, куда всматривался битый час, – утрированный, как у клоуна, рот, яркие и без грима глаза и блеклые волосы. И как всегда от этого вида что-то сдвигалось в груди, сбивался фокус зрения, и уготованные слова спешили ретироваться врассыпную, и оставалось улыбчиво переминаться с ноги на ногу с кашей во рту. Господи помилуй, – выдыхал Лева с облегчением – вот же она, моя ненаглядная!
Но стойкость его, по всей видимости, невысоко ценилась. Нет, бывали и хорошие минуты, когда удавалось урвать поцелуй, или отмахать бульвар-другой, болтая душа в душу, или вставить в праздный треп слово любви и услышать ответ, допускающий желаемое толкование. Но чаще что-то скрежетало, заедало, не совпадало. Иногда – Криворотов это чувствовал почти наверняка – он раздражал Аню до сладострастия. Тогда она злостно нарушала шаткое согласие: была намеренно вульгарна, если он ударялся в сантименты, но как только Лева, стремясь подыграть ей, делался развязен, Аня морщилась, будто от зубной боли. Особенно доставалось от нее Чиграшову, поскольку тот не сходил у Левы с языка и стал его очевидной слабостью. Стоило Криворотову помянуть человека, занимавшего все его мысли, Аня в молитвенном изнеможении закатывала глаза:
– Уймись, Бога ради! Злишь ты меня, что ли, нарочно?
Спасти положение мог бы уже не язык («система членораздельных знаков, которые, – как учили в университете, – используются для общения членами данного общества»), а сила трения («механическое сопротивление, возникающее в плоскости касаний двух соприкасающихся прижатых друг к другу тел при их относительном перемещении»). Эти цинично-материалистические выкладки с неизбежностью приходили Леве на ум. Но пока приходилось довольствоваться «системой членораздельных знаков».
Среднеарифметический разговор той весны обреченно соскальзывал на учебу (плевать на нее, если по совести), на общих знакомых (пропади они пропадом), критику режима (здесь Лева знавал собеседников и посодержательней), на литературу (Аня, правда, не смыслила в ней ни аза) и, само собою разумеется, – на Виктора Чиграшова. На злополучного автора Криворотов сворачивал с упорством невротика, которому запрещено думать про белую обезьяну.
Двадцати лет от роду, молодой лирик, честолюбец и любовник зрелой женщины, Лев Криворотов умудрился влюбиться дважды в течение одной недели, и оба раза пылко. Во вздорную сверстницу и в поэта средних лет с репутацией живого классика.
Чиграшов отпер дверь и с минуту собирался с мыслями. Лева догадался, что его вспоминают и не могут вспомнить.
Криворотов назвался.
– Конечно-конечно, – сказал Чиграшов и жестом пригласил гостя в глубь квартиры. Криворотов внимательно озирался в большой, запущенной и мучительно знакомой коммуналке. Может быть, иллюзией узнавания Лев был обязан тускло-желтому освещению в коридоре и прихожей, а главное – запаху, памятному с младенчества по бабушкиной коммуналке. Что ли чернобурка пополам с допотопной парфюмерией? И барахло точь-в-точь, как в жилище бабки-покойницы, – сундук под черным телефонным аппаратом на стене, с крюка свисает медный таз для варенья, гантели выглядывают из-под калошницы. «Вот сейчас, – загадал он, – справа покажется славянский шкаф в углублении стены». Но ложная память подвела Криворотова, правда, лишь наполовину: емкая ниша, точно, имелась, но загромождал ее поставленный на дыбы взрослый дорожный велосипед под попоной.
– Это мой, – сказал Чиграшов. – Зря место занимает, а свезти на дачу – руки не доходят.
– Такое чувство, – не выдержал Криворотов, – будто я видел все это однажды.
– Называется «дежавю», очень даже вас понимаю, сам подвержен в высшей мере.
Вошли в комнату, Чиграшов убавил громкость проигрывателя и спросил, не мешает ли музыка. Криворотов попросил хозяина-меломана не беспокоиться и наспех боковым зрением, точно перед экзаменом, подглядел на пустом конверте: «Бах. Партиты». Так и запомним.
Чиграшов склонил ушастую голову набок, поднял указательный палец и изрек, посмеиваясь:
– Мне все кажется, что мелодия вот-вот станет связным повествованием. Но, слава Богу, не становится, а медлит на границе между голосом и речью. Будто речь родилась на наших глазах и еще не опоганена общим употреблением. Не пошла по рукам. Да? Нет? Вы можете выпить водки без закуски, а то в доме – шаром покати?
Криворотов смешался и согласился. Чиграшов налил ему треть стакана, позвякивая горлышком о венчик.
– А вы? – спросил Криворотов.
– Я воздержусь.
«На весах Иова» прочел Криворотов поверх граненого стакана по складам – книга лежала на круглом обеденном столе кверх ногами – и молодецки выдохнул после изрядного глотка спиртного. Развернуть том на себя гость не решился, поскольку сразу распознал эмигрантскую полиграфию и опасался вызвать подозрения хозяина чрезмерным для первого визита любопытством. Чиграшов перехватил Левин взгляд.
– Вы Льва Шестова, тезку вашего, не читали?
– Это Папа Римский, что-то католическое?
– Нет, Лева, не шест-ого , а Шест-ова . Возьмите почитайте, если хотите, только, чур, никому не давать. А что касается львов и прочих омонимов и омофонов, в Перми в эвакуации произошла довольно драматичная история. А было мне, дай Бог памяти, восемь лет. Недоедали, разумеется, особенно старшие. Матушка-покойница, царствие ей небесное, меняла в окрестных деревнях остатки довоенной роскоши на жратву. Однажды пермяки – соленые уши всучили ей за золотые часики березовую чурку, вымазанную сливочным маслом. Словом, с хлебом имелись затруднения, зато зрелищ – от пуза. К примеру, Мариинский театр эвакуировали туда же. И Танька – сестра моя, в миру Татьяна Густавовна, – таскала меня на спектакли чуть ли не каждый вечер, нашла лазейку или из жалости билетерша пускала, не помню уже. До сих пор могу шпарить наизусть и навскидку весь репертуар – «Кто может сравниться с Матильдой моей?» и прочую гиль. В Пермь же каким-то ветром занесло и цирк-шапито. Французская борьба и все как полагается. И зимой, а уральская зима это не подарок, цирк благополучно заполыхал, включая и цирковой зверинец. Вырваться из огня удалось только льву. Он каким-то чудом с опаленными гривой и усами дал деру, и нашли его, бедолагу, спустя два дня в сорока километрах от города замерзшим насмерть. Душераздирающее, по-моему, зрелище: солнце, закамская степь, трескучий мороз, а по глубокому снегу скачками передвигается ополоумевший африканский зверь. Бр-р-р!
– Можно написать что-то вроде «Осеннего крика ястреба».
– Вы правы, оба сюжета чреваты иносказанием. Но у моего – другой привкус: сплошь несчастье, не скрашенное гордыней.
Криворотов обвел комнату взглядом экскурсанта. Вот где все это писалось. За этим, торцом к окну поставленным письменным столом. И вот что видит пишущий за окном, когда отвлекается, курит или подыскивает рифму. Из года в год – дворовые тополя и клен, песочница под «грибком», машины на приколе. Понятно.
С притворным равнодушием Криворотов перевел разговор на антологию. Глаза Чиграшова сейчас же сделались несчастными, и он промямлил что-то очень вялое и ободряющее. Сказанного ему показалось недостаточно, и, чтобы доказать свое нешуточное расположение к лирике студийцев и Левиной в особенности, он, перевирая слова и заполняя пустоты татаканьем, привел на память пару Никитиных строф. Криворотов прикусил губу и смолчал, но засобирался вдруг, сославшись на неотложные дела. И горько улыбнулся своему вранью: не было у него и не предвиделось «дел» важнее, чем смотреть на Чиграшова и слушать, как тот бубнит себе под нос что ни попадя, – разве что Аня.
Философскую книжку Криворотов, уходя, сунул в портфель заодно со злосчастной машинописью антологии, правда, не из любви к философии, а в погоне за двумя зайцами: теперь у него был повод прийти к Чиграшову еще раз; а при первом же удобном случае Лева навяжет трактат Ане с тайным умыслом иметь лишний предлог для встречи с нею: свиданиями она его не баловала.
Криворотов зачастил на Чистопрудный, впрочем, с переменным успехом. Уже в другой раз его не пустили дальше порога. Высокая, плохо сохранившаяся плоская женщина со сросшимися на переносье бровями, назвавшись сестрой Чиграшова, строго сказала, что Виктору Матвеевичу нездоровится, и попросила в ближайшую неделю брата не беспокоить.
Чиграшов обращался с Криворотовым так же непоследовательно, как Аня: не обнадеживал, но и не лишал надежды вовсе. Он мог одобрительно кивнуть, пробежав глазами новое стихотворение Левы, но из дальнейших разглагольствований мэтра становилось ясно, что судит он писания своего поклонника не по тому же счету, по какому классиков и себя, а со скидкой на знакомство, с поправкой на школярство. После встреч с Чиграшовым, как и после свиданий с Аней, молодого человека бросало то в жар, то в холод: радость чередовалась с обидами в порядке почти шахматном. Криворотову приходилось несладко, но он лишь изредка вздыхал о недавнем прошлом, когда рассмеялся бы в лицо каждому, скажи ему кто-нибудь, что Лев, как шут гороховый, до полного забвения самолюбия будет день-деньской метаться по городу, раскиснув от чувств к двум людям зараз и добиваясь их расположения. Свести вместе оба предмета обожания сделалось навязчивой идеей Криворотова, тем более что Чиграшов трунил над его обильной слезоточивой лирикой, дразнил начинающего поэта «Ленским» и, опередив Леву, изъявил желание устроить его избраннице смотрины. Лева от природы питал слабость к симметрии – он и стулья у себя дома расставлял вокруг круглого стола крест-накрест под прямым углом – и образ равнобедренного треугольника взаимной любви и дружбы был слишком соблазнителен, чтобы не попробовать привести идиллию в исполнение.
Во время долгой и довольно нескладной прогулки по бульварам Лева будто невзначай подвел Аню вплотную к заветному дому с зооморфным орнаментом и затащил ее, упирающуюся, чуть ли не силком в гости к своему кумиру и почти тотчас пожалел о содеянном. Чиграшова как подменили: он вел себя очень принужденно – то двух слов связать не мог, то брался ломать комедию. Лева извелся в эти тягостные полчаса, пуще всего боясь, что Аня как-нибудь надерзит. Так и получилось.
– Ничего не почувствовали? – сразу по их приходе ни с того ни с сего спросил Чиграшов спутницу Криворотова на перекрестке коридора.
– А что я должна была почувствовать? – ответила Аня неприязненно вопросом на вопрос.
– Наш друг Лева утверждает, что ровно на этом месте дает о себе знать загадочный изъянец пространства, аномалия, говоря по-научному. И время ведет себя, как тупая игла на заезженной пластинке, – срывается на повтор, да, Лева, нет?
Криворотов вымученно улыбнулся.
– Значит, ничего? А нас с Левой, грешных, – не унимался Чиграшов, – в этом тупичке прямо колотит. Вот и сейчас мне почудилось, что такая же прелестная гостья, вылитая вы, уже переступала порог моей квартиры.
– Всё вы неправильно говорите, – сказала Аня в самой несимпатичной своей манере. – Не так на улицах заигрывают со смазливыми дурочками. Надо говорить: «Лицо ваше мне что-то знакомо. В Гаграх не могли с вами отдыхать году этак в шестьдесят первом?».
– Ну, – промолвил Чиграшов холодно, – в шестьдесят первом году я отдыхал гораздо севернее, а вы, подозреваю, о ту пору еще толком и устать не успели. Проходите в комнату, я чаю сгоношу.
И все в том же духе. Любые чиграшовские поползновения к сближению, спору нет, довольно топорные, встречались Аней в штыки. Вот тебе и симметрия, Криворотов! На улице Лев с худшими предчувствиями спросил Аню о ее впечатлениях. Анин приговор был суров:
– Рисуется много.
А Чиграшов при случае сказал:
– Сурьезная девушка. Но хороша, ничего не скажешь. С червоточиной. Одобряю ваш, Лева, выбор. Во всяком случае, вкусы наши совпадают.
Криворотов польщенно покраснел, с внутренней улыбкой припоминая для полноты картины их с классиком «родство» по Арине, а «червоточину» оставил на совести Чиграшова.
Понемногу и прочие участники антологии через Адамсона познакомились с Чиграшовым, и более того, к Левиному неудовольствию, литературные заговорщики раз-другой злоупотребили чиграшовским рассеянным гостеприимством, проведя шумные сходки под кровом поэта. Во время этих сборищ Лева мучился ревностью в квадрате, всеми силами стараясь оттеснить внимание и Анны, и хозяина дома от вездесущего соперника, Никиты. Остальные – Отто Оттович и Додик – опасности не представляли. Сохранять самообладание, прикидываться не страшащимся конкуренции любимцем Чиграшова и избранником Ани и контролировать ситуацию было тем сложней, что Лев поминутно ощущал даже спиной неприязнь Ани к Чиграшову и напряженно ждал от нее какой-нибудь ужасной выходки. Собственно, именно Аниному вызову, когда девушка в раздражении взяла олимпийца «на слабо», и обязаны были молодые авторы участием мэтра в антологии.
Но была у Криворотова и еще одна веская причина остерегаться сборищ на Чистых прудах. Отто и Шапиро непроизвольно, а Никита, по убеждению Льва, намеренно поминали в разговоре Вышневецкую, и кто-то к слову заметил, что ее вкус и хватка пришлись бы как нельзя кстати. Лев похолодел от одной только мысли о возможности подобной очной ставки, и в ушах у него на секунду застрекотало, как перед обмороком. Появление у Чиграшова Арины было бы катастрофой. Живот еще не обозначился под неизменным Арининым балахоном, но мнительному взгляду Криворотова казалось, что в облике его любовницы проступила характерная отрешенность, а в вальяжной походке беременной матроны угадывается новая недвусмысленная грация. О, если бы только это! Ужас состоял в том, что Криворотов продолжал сожительствовать с Ариной – изредка, воровато, с нарочито животной разнузданностью. Он брал ее, как девку, деловито, с открытыми злыми глазами, вымещая на ней (на ней – в буквальном смысле слова) все унижения нынешней весны. Понимала или не понимала нелюбимая женщина низменную подоплеку Левиной неутомимости, но никогда прежде она не бывала так отзывчива. Каждая встреча на даче уже через несколько минут превращалась в форменную вакханалию: сбитая комом постель, хриплые стенания – Левины плечи после подобных свиданий еще долго хранили следы укусов. Угрызения совести брались за свое с удвоенной силой сразу после семяизвержения, и как Лев ни старался утешиться, выдавая собственное поведение за поэтичный демонизм, утешение получалось слабое. «Какой на фиг демонизм?!» – думал Криворотов, поворотясь к любовнице спиной. Простодушную измену Ане он бы себе простил – быль молодцу не укора, – но присутствовала в этих бурных соитиях и корысть: властвовать, не выпускать Арину из виду, чтобы, брошенная и предоставленная самой себе, она, чего доброго, с горя не наделала бы делов, не взялась шантажировать Льва, а то и мстить – открывать той, другой, глаза на истинное положение вещей. Хорошо отвлекали от гадких мыслей, обычных в паузах между этими силовыми совокуплениями, расспросы о прошлом Чиграшова. Кое-какой свет на историю его лагерного заключения и на love story размягшая от плотских бесчинств Арина пролила, но ее россказни, как ни крути, были «испорченным телефоном»… И как-то в первых числах мая Криворотову показалось, что он наконец-то выбился в конфиденты гения и вот-вот получит исповедь из первых рук.
Леве повезло: он застал Чиграшова в легком подпитии. Зная, что во хмелю язык развязывается и недолго сболтнуть лишнего, Криворотов осмелился, между прочим, спросить поэта об адресате его любовной лирики. Чиграшов уставился на Леву, не мигая, и молчал с минуту, за которую Криворотов успел пожалеть, что позволил себе, судя по всему, непростительную фамильярность.
– Извольте, – сказал Чиграшов неожиданно. – Давным-давно, Лева, (вы тогда еще под стол пешком ходили) я был хорош собой и знатен. Ныне, – он обвел жестом экскурсовода комнату, – допускаю, верится с трудом. «Таков и ты, поэт, и для тебя условий нет» – одну, к вашему сведению, из авторских редакций последней строки хрестоматийной строфы считаю совершенно уместным процитировать применительно к моему случаю. Но факт остается фактом. По рождению я принадлежу к военно-дипломатической элите страны. Встречи на самом высоком уровне, ратификация договоров, коктейли – это у меня в крови, не сочтите за похвальбу. В незапамятные времена сложился из мне подобных и при моем деятельном участии превеселый кружок прожигателей жизни: бретеры, волокиты, игроки. Золотая молодежь, вроде нашего друга Никиты. Хотя он, надо отдать ему должное, исключение из правила и человек скорее положительный. Одним словом, ребята подобрались – ни в Бога, ни в черта – сорвиголовы. Времяплепро-пропле, – расчувствовался, извините, язык заплетается, – время-пре-про-вож-дени-е соответствующее: пикники, безобразия, дуракаваляние. А я, «беспечной веры полн», пел этим бездельникам все, что в таких случаях петь полагается. Само собою, рано или поздно появилась в нашей компании девушка. Она не просто нравилась – она опьяняла. Чем-то, кстати сказать, похожа была на вашу приятельницу и звали по совпадению так же. Мы сошлись со страстью, присущей двадцатилетним молодым людям, и всякое такое. На нас и смотрели друзья-приятели, как на мужа и жену, хотя мы не унижали чувства регистрацией. Кутежи, однако, не затихали. Однажды целая компания, включая меня и мою избранницу, более-менее талантливых денежных шалопаев и их прихлебателей, двинула в медвежий угол, славный своими ведьмедями, на медвежью же, прошу прощения за тавтологию, охоту с большим количеством спиртного и вооруженные до зубов. Заняли полвагона, пили и орали песни всю ночь, проводница сбилась с ног, урезонивая желторотую знать, и чем свет вывалились на осенний полустанок в четырнадцати часах скорой езды от столицы. Утро, золотая осень, золотая молодежь, воздух, никакого похмелья – молодость, она и в Африке молодость, тем более в русской провинции. А так как в свите нашей был один оч-ч-чень вельможный сынок, то о планах наших было оповещено районное начальство. Бани топились березовыми дровами, комсомолки подоступней да посмазливей сурьмили брови. Одна беда: в силу экологических причин или социалистического способа хозяйствования во вверенных уездным бюрократам охотничьих угодьях союзного значения царила мерзость запустения и, кроме дюжины облезлых зайцев, да колченогой лисы, никаких представителей фауны не наблюдалось. Едут пострелять дичи сановные сынки, а тут такой афронт! О ту пору, на счастье, гастролировал в районном центре, городке, назовем его для простоты Мухосранском, захолустный цирк – не верите, что ли, думаете: «Заврался, Чиграшов, повело кота на мыло – снова цирк»? Да, дорогой Лева, снова! Но цирк цирку рознь, я выпью с вашего позволенья, не присоединитесь?
– Спасибо, мне через час в университет.
– «Разучилась пить молодежь, а ведь этот еще из лучших!» – как сказано в одной детской книжке. И доживал при означенном цирке свои последние дни в загаженной вольере подслеповатый престарелый мишка. Ему и поручено было сыграть роль хищника, грозы русских лесов. Сказано – сделано. Везут холуи животину на условленную полянку и вываливают бережно из кузова на жухлую сентябрьскую травку, по направлению к которой (к полянке, то бишь, а не к травке), знать не зная и ведать не ведая о хитрой райкомовской режиссуре, бредет толпа столичных нимродов с ружьями наперевес и рогатинами наголо. Надо же было случиться, чтобы именно тогда ехал по лесной тропинке прямехонько через означенную лужайку пацан из местных на отцовском дорожном велосипеде. Нарвавшись на зверя, малый свалился с велика и дунул в кусты. А старый циркач-профессионал топтыгин понуро влез на велосипед и стал писать по лужайке круги. В это время, минута в минуту, из зарослей вываливается на ту же прогалину толпа веселых охотников во главе с забулдыгой-егерем. Ничего картина? Достойна кисти Питера Брейгеля. Но моя красавица, то ли от недосыпа, то ли из-за женской утонченности, глянула на эту потеху, слабо ахнула и – хлоп в обморок. Вне себя от любви и жалости я склонился над ней, брызгал ей воду в лицо – не помогает. Тогда я разорвал на ней платье, и знаете, что предстало моим глазам, когда оголилось прекрасное плечо?
– Кажется, догадываюсь, – сказал Криворотов.
– Ну и слава Богу.
Аня, Чиграшов, Арина; Арина, Аня, Чиграшов; Чиграшов, Аня, Арина – вот по такой замкнутой траектории кружили чувства и мысли Криворотова изо дня в день вплоть до середины мая. И Лева успел свыкнуться с этим истеричным существованием, хотя, слаб человек, разок примерил-таки перед трюмо к правому виску Аринин подарок с пустым барабаном. Так бы Лев и плыл по течению, если бы не новая напасть.
Последние два-три года, а той весной и подавно, Криворотов вспоминал о родителях чаще всего, когда подходила пора очередного денежного вливания. Отец с матерью считали, что сына словно подменили, не одобряли его беспорядочного образа жизни и не могли, как казалось Леве, в силу поколенческой ограниченности войти в сыновние интересы и понятия – и он не оставался в долгу и свысока смотрел на родительское прозябание, хотя и старался от сих до сих быть сносным сыном. Чего уж тут лукавить: он с некоторых пор стеснялся отца с матерью, стыдясь своего стеснения. Памятный с детства неукоснительный обряд воскресных завтраков втроем под воскресную радиопередачу в мажоре; венгерские куры в продуктовом заказе раз в месяц; мещанская чистоплотность матери, понавышивавшей «птичек» в ногах пододеяльников; кроткие семейные походы по абонементу на вечера чтеца Дмитрия Журавлева («Медный всадник» и на бис – «О, Русь моя! Жена моя!..»)… Ныне, в сравнении с артистически-безалаберным бытом Арины, Чиграшова, того же Никиты, трогательный уклад родительского дома представлялся Льву смешным, затхлым и несколько филистерским. И вдруг выяснилось, что у вроде бы конченого человека, смиренного заведующего урологическим отделением районной больницы, у Криворотова-старшего уже четыре года как растет двойня на стороне – плод страстной любви к молоденькой сотруднице. Случайно подслушав телефонный разговор Василия Криворотова с разлучницей, гостья из Самары, старая дева и студенческая подруга матери, не нашла ничего лучшего, как сообщить о мужней измене законной пятидесятилетней жене, и со всем стародевическим пылом подбила ошарашенную этой новостью женщину гнать негодяя в шею. Если четыре года, предшествующие скандальному разоблачению, Криворотов-отец из привязанности, жалости и малодушия мирился с двойной жизнью, то благодаря ретивой «Самарянке» (семейное прозвище жениной товарки) он получил наконец вольную и с облегчением воспользовался ею. Мать вскоре горько раскаялась в разрыве с мужем под подружкину диктовку, но дело было сделано, и гордыня не позволила оскорбленной женщине идти на попятную. В считанные дни родительское гнездо оказалось разоренным. Лева внезапно стал единственным мужчиной в доме, опорой враз постаревшей Евгении Аркадьевне, которую чуть ли не из петли пришлось доставать после всего случившегося. Бедность – уже не обаятельная, интеллигентская, а настоящая – подступила вплотную к руинам семейства. Лева сочувствовал матери, осуждал отца, но перво-наперво был озадачен: Криворотов-сын не мог даже предположить, что человек в столь преклонном возрасте (сорок девять лет!) в принципе способен испытывать какие-нибудь романтические чувства, кроме бытовых привязанностей.
– Куда ни кинь – все наперекосяк, хоть стреляйся, как, помните? – «пиф-паф» – у вас в одном стихотворении.
Делясь своими бедами с Чиграшовым, Лев, разумеется, умолчал об Арининой составляющей в сумме своих невзгод.
– Стреляться – дело хорошее, но я бы рекомендовал вам менее радикальную разновидность исчезновения: скатайтесь-ка вы, Лева, в какую-нибудь даль месяца на два – на три, а я вам в этом постараюсь посодействовать. Граница наша хоть и на замке, зато длиною с экватор, не Албания, слава тебе Господи, есть на что посмотреть и оставаясь в дозволенных пределах. А потом, говорят, разлука любовь бережет. Глядишь, и сердечные ваши треволнения улягутся. Снова же, денежек подзаработаете: оно никогда не лишнее, особенно теперь, когда у вас дома такой разброд. Давайте решайтесь, я вам худого не посоветую.
Криворотов уцепился за предложение своего покровителя и уже назавтра, после рекомендательного телефонного звонка Чиграшова приятелю его молодости, начальнику Памирского гляциологического отряда, Лева разыскал на окраине Москвы подвал со следами протечки на потолке, которые входящий во вкус скиталец с ходу сравнил с береговой линией на географической карте. Лавируя между завалами из брезентовых вьючных мешков, армейских ящиков и треног от теодолитов, Криворотов столкнулся лоб в лоб с тем самым красавцем Лжечиграшовым, при ближайшем знакомстве – милейшим человеком, если б не чудовищные его казарменные каламбуры («что имею – то и введу»). Без волокиты тот оформил Криворотова разнорабочим в свою экспедицию, отбывающую в Душанбе в последних числах мая. Запросто разговорились (все больше о Чиграшове), почти подружились, и мачо, вольнодумец и заядлый охотник, прослышав, что у Левы простаивает без боеприпасов револьвер, отсыпал, добрая душа, горсть мелкокалиберных патронов с уговором: палить только по воронам и только без свидетелей.
Мать в ответ на заявление Льва о скором его отъезде всплакнула, но, судя по тому, что взялась на швейной машинке застрочить по краю сложенную вдвое простыню на вкладыш в спальный мешок, – смирилась с трехмесячной разлукой. Аня пропустила Левину новость мимо ушей, потому что ей не терпелось узнать мнение обожателя о ее обнове к лету – юбке с высоким разрезом. Зато друзья, паясничая, причитали, крестили на дорогу и величали «героем», а эрудит Никита – и вовсе Лоуренсом Аравийским. Пылкий Адамсон сравнивал то с Лермонтовым, то с Гумилевым и восклицал в сердцах, что уже загодя предвкушает наслаждение от азиатских шедевров Криворотова. (Лев еле удержался от признания, что на днях в один присест и на одном лирическом энтузиазме настрочил априори коротенький ориенталистский цикл с паранджой, анашой и пахлавой.)
В атмосфере предканикулярного воодушевления и восхищения Левиным подвигом собрались впятером (Никита обещал быть позже) майским вечером у Чиграшова – выбрать наконец бесповоротно титул для практически готового, уже с участием хозяина, варианта антологии – пустяк, в сущности, но копий из-за такой ерунды было сломано не счесть. Обиходное рабочее название «Ордынка» отмели сразу как слишком беззубое, хотя Чиграшову, единственному из присутствующих, оно-то как раз и глянулось. Кто-то предложил «Московское время», но Шапиро подал голос из своего угла, что это наименование уже занято даровитой пьянью во главе с Сопровским. Аня помалкивала или отпускала реплики не по существу, главным образом колкости в адрес хозяина и холостяцкого убранства его жилища. Особенно от нее доставалось в тот вечер любимцам Чиграшова, бесчисленным кактусам на подоконнике. С удовольствием Лева отметил, что Чиграшову, кажется, по душе Анин тон, да и она задирается больше по привычке; не зря, выходит, старался Криворотов, сводя их поближе. Ох, и хороша же была Аня в майских сумерках, когда жгла от нечего делать спички или отрешенно поглядывала в открытое окно, где шевелилась новая листва тополя, сквозь которую доносился подзабытый за зиму шум города: гудки автомобилей, трамвайный перестук и тому подобное!
– «Лирическая Вандея»! – вдруг изрек торжественный Адамсон и скромно потупился: видно, название очень нравилось ему самому.
На это Чиграшов, занятый вялыми пререканиями с Аней и, по всей видимости, слушавший издательские дебаты вполуха, зашелся тихим смехом, даже прослезился.
– Распотешил, Отто, спасибо, дорогой. Забыл, старый дурень, где живешь? И без того сомнительная затея, по головке могут не погладить, зачем же лишний раз гусей дразнить? Ну сказанул: «Вандея»…
В конце концов вернулись к скромной «Ордынке», чуть-чуть с привкусом «лито» при заводском Доме культуры.
– Ордынцы и есть, – одобрил Чиграшов, – варвары, разве самую малость эллинизированные.
Ну, с Богом! Каллиграф Додик брался за ближайшую ночь вписать тушью от руки обретенное-таки и узаконенное название на предусмотрительно пустующие титульные листы. А завтра утром предстояло встретиться уже в Адамсоновой студии в неполном составе (Чиграшов служил, Аня в третий раз пересдавала политэкономию), чтобы разобрать авторские экземпляры и решить, как наивыгоднейшим образом с точки зрения общественной огласки пристраивать оставшиеся после четырех закладок экземпляры – десять штук.
К шапочному разбору подоспел и Никита. Но обычного напряжения и ревности, связанных в последнее время с каждым почти появлением друга, умиротворенный скорой разлукой Криворотов не ощутил – напротив: даже соперник показался ему сегодня славным малым.
Каким прожектерством и ребячеством представлялась скептику Криворотову еще полгода назад затея с антологией, а вот, поди ж ты, – получилось, и куда лучше, чем замышляли, – и даже осенено именем первостатейного поэта. Нет, все-таки они молодцы! Особенно застрельщики – Адамсон и Додик. Настроение у собравшихся было приподнятое, молодежи и подавно не хотелось расходиться, не поставив напоследок жирной точки, вернее, восклицательного знака. Правда, Додик засобирался домой, но в дверях пригласил всех желающих к себе ближе к ночи, лишь только сплавит родителей на дачу. Чиграшов, как водится, сослался на срочную надомную работу, но молодые люди уже знали его за неисправимого домоседа, так что никто и не рассчитывал на его участие в продолжении вечера. Аня всегда была «за». «За» был и Никита. Адамсон тактично ретировался, справедливо полагая, что будет повесам и молодым дарованиям только помехой в их увеселениях. А умиленный Криворотов решил упрочить свою лермонтовско-гумилевскую репутацию: в кармане у него лежали 60 рублей, полученные утром под расчет в Детском пульмонологическом санатории, где он сторожил последние два месяца через две ночи на третью. Их-то он и решил спустить сегодня же. Знай наших! А мать он поддержит с высокогорных заработков.
Валяя дурака и наперебой веселя спутницу, дошли бульварами почти до Пушкинской площади и свернули влево в сторону Кремля. Недалеко от Манежной площади знали Лева с Никитой недорогое, но приличное кафе, почти ресторан – не в «стекляшку» же идти с такими бешеными деньгами, гулять так гулять! Все складывалось самым удачным образом: сунули рубль вышибале и проникли без очереди, нашелся и свободный столик. После секундного замешательства новоявленный кутила и джентльмен Криворотов великодушно усадил Никиту рядом с Аней, а сам устроился напротив. Заказали три мяса с грибами в глиняных горшочках, свежие здешней выпечки сдобы, стилизованные под новгородские струги, и для начала две бутылки «Рислинга». Чокнулись, выпили за славный литературный дебют, набросились на еду.
– Чиграшов, конечно, великий поэт, – сказал Лева с набитым ртом, – но на его баранках и сухариках далеко не уедешь.
– А меня при каждом свидании с ним не оставляет впечатление, что он еще и подпускает аскетизма, вроде Толстого, выходившего пахать к курьерским поездам: любой из нас для него как-никак потенциальный мемуарист, – сказал Никита, откидываясь на спинку стула и закуривая.
– Что вы привязались к несчастному язвеннику, – неожиданно вступилась за Чиграшова Аня.
– Тоже верно, – согласился Никита. – А все равно он не так прост, как хочет казаться. Очень даже себе на уме, старый мухомор. Мастер наводить тень на плетень. Тут он мне как-то под большим секретом поведал берущую за живое повесть любви и ареста Эдмона Дантеса, выдавая ее за собственную.
– И ты? – спросил Лева, задержав вилку на полпути ко рту.
– Что я? Принимал, лопух, все за чистую монету, аж пот прошиб, пока, ближе к концу байки, не появился сокамерник – православный поп, в агонии отказавший юному Вите Чиграшову свои несметные богатства. Хотя смешно, ничего не скажешь.
Лева помрачнел. Его покоробило и от развязного «старый мухомор» применительно к Чиграшову, и от водевильного сходства их с Никитой шпионских потуг – с щелчком по носу в награду за усердие. Лев почувствовал себя безымянной болванкой на конвейере оболванивания. «Ну и шут с вами со всеми, – подумал он. – Уеду я скоро отсюда за тридевять земель. Еще пожалеете обо мне, да поздно будет». Почему «будет поздно», он и сам не знал, но скорбное словосочетание пришлось кстати, потому что Криворотов начал пьянеть и почувствовал теплоту, грусть и жалость – к себе и прочему человечеству.
– Еще две бутылки «Рислинга» нам, пожалуйста, – сказал он слонявшейся поодаль официантке.
Стало весело. Аня незаметно напилась и была обворожительна, когда задирала посетителей за соседними столиками или от нетерпения посетила кабинку мужского туалета (в женском был «засор»), а Криворотова поставила на стрёме в знак «особого расположения» – так и сказала, а потом и вовсе порывалась танцевать на столе.
– Через пятнадцать минут закрываемся, молодые люди, – зевнула официантка.
Лева оставил гусарские чаевые, взял в буфете еще две бутылки на вынос, и вывалились втроем на теплый воздух чуть ли не в обнимку, с пьяной категоричностью решив ехать на ночь глядя к Додику на Сетунь, а Аню по дороге подбросить до Поклонной горы. Поймали такси. Сидевшего рядом с водителем Криворотова кидало в сон, знакомый до рези в сердце город мелькал и двоился за окном машины и казался еще краше сквозь призму опьянения и скорого расставания. По этому маршруту почти три месяца изо дня в день мотался Лева, – провожая Аню, встречая, преследуя, – и теперь вот ему уезжать. «И Никита тоже хороший, – подумал пьяненький Лева. – Надо с ним и поговорить по-хорошему, и сегодня же, у Додика. Так, мол, и так, давай-ка, дружище, посторонись, будь мужчиной. Не может же вечно продолжаться эта дружба, запущенная, как болезнь, патологическая и смехотворная ходьба втроем – ты, я, Аня». От хороших мыслей задремывающего Криворотова отвлекло чрезмерное оживление водителя – тот поглядывал в зеркальце на лобовом стекле и одобрительно гримасничал. Криворотов обернулся и обмер. Эти двое на заднем сиденье самозабвенно лизались, и свободная рука Никиты на ощупь брела вниз по пуговицам Аниной блузки, оставляя за собой клин наготы.
Лев хрипло велел таксисту немедленно остановиться, вышел вон и побрел наобум – только дверь, как оплеуха, наотмашь хлопнула за его спиной, и тотчас раздался удаляющийся вниз по проспекту рев мотора. Но уже через мгновение Криворотов ужаснулся, выскочил с призывной жестикуляцией на середину мостовой, тормознул поливальную машину и, суля водителю золотые горы, велел мчать вдогонку за едва-едва рдевшими далеко впереди в темноте пустынной улицы габаритными огнями такси. Силы изначально были неравны, а «красный свет», как назло вспыхнувший перед самым носом преследователей на перекрестке напротив помпезного дома на Кутузовке, сделал погоню бессмысленной.
У Поклонной горы Лев вслепую расплатился с поливальщиком. Вышел, озираясь и лязгая зубами, – никого. Такси-беглеца и след простыл. Криворотов с топотом и одышкой миновал зависший между третьим и четвертым этажами лифт, взбежал на последний, Анин, этаж и принялся с ожесточением давить кнопку дверного звонка. Тишина, прерываемая оглушительными электрическими трелями, уличала дальше некуда. Хладнокровно убить обоих. Лев выбежал во двор и зашел со стороны улицы под Анины окна. Вот они, все как есть – кухонное, теткино, ее. Три безжизненных окна с отблеском темноты. Сейчас впервые Лева обратил внимание на узкий карниз, которым был обведен дом по фасаду – как раз вровень с нужным этажом. Это меняло дело. Задрав голову, Криворотов стал медленно огибать здание, снова свернул во двор и дошел до самого Аниного подъезда, где увидел наконец то, что высматривал, – пожарную лестницу. Вот и славно. Только теперь Лева заметил, что руку ему оттягивает портфель с «Рислингом» – и сунул обузу поглубже в кусты. Зашел под лестницу, подпрыгнул, уцепился руками за нижнюю перекладину и, чиркая по стене подошвами, забросил со второй попытки левую ногу на крепеж. Повисел так, отдышался и рывком уселся верхом на перпендикулярный стене кронштейн. Спустя несколько минут он одолел лестницу, взобрался на крышу, быстро огляделся и зашагал, пригибаясь под проводами, мимо антенн и вентиляционных труб вверх и наискось по скату на противоположную сторону кровли, на самый угол, где, по расчетам Криворотова, полагалось быть водосточной трубе. Кровельная жесть громко пружинила под его шагами. Лева правильно рассчитал, но водосточная труба брала начало ниже уровня крыши, так что молодому человеку пришлось перелезть через металлическое ограждение, что есть сил вцепиться в него руками снаружи, лечь животом на край крыши и, свесив ноги, шарить ими по воздуху, пока мысок правой не наткнулся на водосточный раструб. Теперь Криворотов сантиметр за сантиметром сползал с кровельного железа задом на верхнее шаткое колено водостока и, когда центр тяжести Левиного тела переместился на новую опору, молодой человек заставил себя разжать кулаки, выпустил из рук ржавую поперечину ограды – и намертво прилип к трубе, давшей крен под его весом. Оставляя клочья рубахи и штанов на зазубринах цилиндрических сочленений, он полз и полз все ниже и ниже, бормоча «Господи, Господи, Господи», – и вот ботинки Криворотова нашли карниз, на котором Лев и застыл спиною к головокружительно высокому городу, зажмурясь и стараясь унять дрожь во всех суставах – от запястий до щиколоток. Трепещущими пальцами, как слепец страницу с азбукой Брайля, Криворотов опробовал каждую неровность стены и понемногу – пятки вместе носки врозь – подавался вправо по узкому, вполкирпича, выступу. И раз, и два путь его осложняли жестяные отливы под чужими встречными окнами, и, стиснув пальцами выпуклости оконных петель, Криворотов до тошноты медленно, с какой-то эволюционной неспешностью преодолевал забранные жестью участки карниза, наклоненные туда, куда смотреть запрещалось под страхом смерти. Таким же образом миновал он первое по ходу кухонное окно нужной ему квартиры, затем окно теткиной комнаты – и уже вплотную к Аниному оконному проему подумал с апатией, что, если окно открывается наружу, он погиб. Но окно открывалось вовнутрь – и было открыто вовнутрь. С сердцем в горле Криворотов ступил на подоконник и тихо уселся между цветочными горшками, овеваемый легкой занавеской и бессмысленно улыбаясь в темноту и тишину комнаты.
Головой к окну, по правую руку от сидящего на подоконнике Левы спала в одежде на разостланной кровати Аня. Криворотов тронул ее за плечо.
– Откуда ты? – спросила Аня сонным голосом, хлопая сонными глазами.
– Спи, спи, – сказал Криворотов, нервически смеясь.
Потом он пересел к ней на постель и принялся с маниакальной сосредоточенностью раздевать безучастную девушку. Когда раздевание было завершено и ворох одежды и белья лежал на полу, Аня проснулась окончательно, села на постели и, уткнув подбородок в колени, стала внимательно и молчаливо наблюдать за Криворотовым, который возился и мешкал со шнурками ботинок, а после с брючным ремнем. Руки не слушались Леву, но, в конце концов, разоблачился и он.
– Подожди, – сказала ему Аня и расплакалась. – Можешь ты самую малость подождать? Ты своего сейчас добьешься, но разве дело в этом ? – продолжала она сквозь плач. – Мне надо полюбить. Лучше, конечно, тебя, – я правда хочу полюбить тебя… А нет, то пусть хоть кого, хоть подонка, лишь бы полюбить. Уходи, пожалуйста, Лева. Пожалуйста.
Криворотов опустил глаза на свое разом поникшее мужество и начал одеваться: трусы, рубашка, носки, брюки, ботинки – будто киноленту смеха ради пустили вспять. Несколькими минутами позже ему показалось, что на светающую улицу вышла его пустая оболочка, вышла и двинулась по направлению к вокзалу.
Подвал Адамсона. Полдень. Погода «на троечку»: с утра зарядил дождь. Отто Оттович держится именинником и, фальшиво напевая что-то каэспэшное, греет кипятильником в кастрюльке воду на чай. Криворотов и Никита не разговаривают друг с другом, сидят с подчеркнуто независимым видом. Никита читает (или прикидывается, что читает) книжку «From Russia with Love», Лев пялится в слепое подвальное окно. Поглощенный приятными мыслями Адамсон не замечает натянутого молчания друзей. Ожидается Шапиро с «тиражом», но Додик, как всегда, запаздывает. У входа в студию раздается визг тормозов и долгий гудок. Отто Оттович с заварочным чайником в руке выглядывает за дверь и, обернувшись, радостно сообщает:
– Додик! На «скорой помощи», пижон! Тут как тут!
Лев и Никита не трогаются с места. Додик просовывает канальскую рожу в приоткрытую дверь поверх головы Адамсона и орет:
– Эй вы, чего расселись, как графоманы! А писанину вашу таскать Пушкин будет, что ли?
Лев и Никита каждый по своей широкой дуге, чтобы, упаси Бог, не приблизиться один к другому, тянутся к выходу.
Издательские обязанности распределялись следующим образом. Никита через деда обеспечил печать – 16 экземпляров (четыре закладки под копирку) и обложку. На паях участники антологии оплатили дедову машинистку и переплетные работы. На долю грамотея Додика выпала корректура. Аниным вкладом в общее дело были ее рисунки – несколько вариаций на тему свечи и гусиного пера в чернильнице, – долженствующие оживить издание и, главное, отделять подборку одного автора от другого. Эти картинки отксерокопировали в нужном количестве через Никитиного же деда. Чиграшова, разумеется, не смели беспокоить подготовительными хлопотами, начинающие авторы на него и не дышали. За Криворотовым числилось последующее распространение новорожденного издания среди приличных именитых литераторов, иными словами, – организация успеха, выход из безвестности.
Еще недавно распределение ролей представлялось Криворотову справедливым, но после вчерашнего ему было не до справедливости, и возложенное на него поручение он счел унизительным. Ему было душно от ненависти. Никита встал поперек жизни, и обойти его требовалось любой ценой.
– Почему бы тебе, – с усилием проговорил Криворотов, обращаясь к Никите, с которым они так и не поздоровались, – не помочь нам показать товар лицом? Ты – светский лев, у тебя шарм, связи, тебе и карты в руки.
– Ты что-то путаешь, я не Лев, я – Никита.
– Или ты подразумевал, когда переваливал нанесение официальных визитов на меня, что, услышав твою фамилию (намек на сомнительную репутацию деда), порядочные люди тебя на порог не пустят?
– Нет, я подразумевал твою любовь мельтешить в свите, быть мальчиком «чего изволите?» при знаменитостях.
– Хлюст номенклатурный, я тебе устрою веселую жизнь!
– Слепой сказал: «посмотрим».
Криворотов задрожал, схватил, не глядя, чью-то чашку и порывисто плеснул в Никиту чаем, остывшим, по счастью, потому что, не долетев до цели, сладкие опивки угодили в испуганную физиономию Отто Оттовича, как раз показавшуюся над столом. Никита оказался метче своего недруга, и с мокрым лицом и грудью под вопли карлика и Шапиро Лев опрокинул стол и стулья и вцепился в ворот Никитиного свитера. Сзади беснующегося Криворотова оттаскивал Додик, между петухами встал Отто Оттович.
– Я убью, я пристрелю его, – хрипел Криворотов, пытаясь вырваться из объятий Шапиро.
– Пан имеет, чем стрелять? – спросил Никита, бледно улыбаясь.
– Пан имеет, чем стрелять.
– Присылайте, раз так, ко мне ваших секундантов, – старательно отчеканил Никита и, кивнув на прощанье Отто Оттовичу и Додику, вышел вон.
Между тем, с Адамсоном творилось неладное: он ловил воздух ртом и тер ладошкой грудь. Додик оставил бедолагу на попечении Криворотова, а сам побежал по соседним квартирам в поисках лекарства и вскоре принес в горсти две таблетки нитроглицерина. Они возымели действие, но друзья, несмотря на протесты руководителя студии, проводили его до дому, где силой уложили в кровать. А под кроватью с позволения хозяина оставили до лучших времен тираж антологии, взяв себе по авторскому экземпляру. Только теперь, вертя в руке самиздатскую книжку в переплете цвета детской неожиданности, Криворотов хватился портфеля, забытого минувшей ночью в кустах возле Аниного дома. Ну да хрен с ним, с портфелем, – не первый, не последний.
Адамсон, подавленный всем случившимся, не переставал сокрушаться и сетовать:
– Почему талантливые люди упорно не желают уживаться друг с другом, а, Лева? Вы оба такие замечательные, а ссоритесь, как… Толстой с Тургеневым или как те же Блок и Белый. Печально это!
На углу Солянского проезда и Старой площади Лева долго уламывал Шапиро быть его секундантом. Наконец сердитый Додик буркнул что-то, истолкованное Криворотовым в утвердительном смысле. Криворотов предложил стрелять по очереди в леске в пяти минутах ходьбы от Левиной станции, уже на месте бросив жребий, раз револьвер – один на двоих. И лучше бы назначить поединок на понедельник послезавтра: в майские выходные в поселке и его окрестностях слишком людно для намечающегося кровопролития. Додик обещал оповестить Никиту, а напоследок все-таки не удержался:
– Глупость вы затеваете, чтобы не сказать больше. И меня, дурака, втравливаете в эту оперетту. Стоит ли, подумай, мудила? Может, лучше пивка?
Криворотов непреклонно покачал головой.
– Ну-ну, – грустно сказал Шапиро и смешался с толпой на перекрестке.
Криворотов отправился к матери: повидаться на всякий случай, но та, как явствовало из записки, прижатой солонкой к кухонному столу, ушла на «девичник» – ежегодную встречу школьных подруг-одноклассниц. Криворотов живо представил себе это сборище: пять-шесть немолодых женщин, раскрасневшихся с двух рюмок сухого вина. Мать крепится до последнего, пробует казаться оживленной и вдруг начинает плакать. Ее расспрашивают, утешают, наливают ей воды, а она плачет все горше, сморкаясь и обещая взять себя в руки, и путано, с ненужными подробностями и перерывами на рыдания рассказывает онемевшим от любопытства подружкам историю мужней измены. Лев вообразил, как мать слюнит уголок носового платка и поправляет потекшие глаза, и поежился от жалости и стыда за ее одиночество. Всю дорогу в электричке Криворотов до боли стискивал в кулаке бородку ключа от дачи, чтобы не развести сырости.
Ближе к вечеру распогодилось. В сумерках Криворотов слонялся по участку, прислушивался к соловью, щелкавшему в бузине у забора, и пробовал считать соловьиные колена, как учил его в детстве отец, но каждый раз сбивался со счета. Потом Лева привлек к лицу ветку сиреневого куста, росшего у калитки, и потянул носом – но не дождался любимого запаха от холодной недоразвитой грозди. При простенькой мысли, что эта сирень расцветет со дня на день, а его, Криворотова, может уже не быть в живых, он ужаснулся даже не сознанием, а желудком, в панике поднялся на крыльцо и запалил свет в комнате и на кухонке. Ужас отступил на шаг-другой, и Лев взялся писать предсмертные записки матери и Ане. С убедительностью галлюцинации Криворотов увидел, как Аня еще только сегодня, – он глянул на ходики: 11 45 – да-да, еще сегодня, сидела нагишом на кровати, и наконец не сумел сдержать слез. Неверными руками закурил, вроде, полегчало. Хорошо бы еще и стихотворение оставить по себе, но это – завтра; сейчас ему ничего стоящего не приходило на ум. Он писал, плакал, перечеркивал, писал наново поверх зачеркнутого и так увлекся, что поднял от бумаги голову только на повторное тихое покашливание. В дверях стоял Чиграшов.
– Здравствуйте, сэр. А я к вам с претензией, – сказал он, и Лева заподозрил, что Чиграшов слегка под мухой.
– ?
– Мы с вами друзья, я полагал? Друзья, – утвердительно ответил Чиграшов на свой же вопрос. – Так что я мог рассчитывать на приглашение в секунданты. Или я ошибся?
– Откуда вы узнали? – спросил Криворотов, чувствуя привычный в присутствии Чиграшова прилив обожания.
– Из вечерних газет, рубрика «Светская хроника», – отшутился гость. – Вы хоть знаете, коллега, что, в соответствии с отечественным литературным каноном, требуется делать в канун поединка? Молчите, не знаете, – вздохнул он с грустью. – Канон неукоснительно и недвусмысленно предписывает нам читать Вальтера Скотта, «Шотландских пуритан». А где, кстати, ваш хваленый вальтер?
Криворотов уже освоился с нетрезвой каламбурной логикой наставника, поэтому понятливо достал револьвер из-за батареи и протянул его Чиграшову.
– Осторожно, он заряжен, – сказал Лев, увидев, что мэтр с интересом заглядывает в дуло.
– Даже так? Очень предусмотрительно, – сказал Чиграшов и хладнокровно засунул револьвер во внутренний карман куртки. – У меня сохранней будет. Выпить у вас, надо думать, нечего.
– Верните револьвер.
– Верну, разумеется, но вы мне не ответили на вопрос: берете меня в секунданты?
– Спасибо за честь, но сперва верните револьвер.
– Вам спасибо, как говорится. А раз я секундант, то к месту дуэли я его чин-чином и принесу – и сводите счеты на здоровье. Слово профессионального счетовода, – он клятвенно прижал руку к сердцу. – Знаете, у нас в депо какие левши есть? Они, дайте срок, протрезвятся и вашу пушку до ума доведут, в керосине вымочат, ружейным маслом умастят – загляденье будет, пол-Москвы перестреляете, не то что какого-то дурацкого Никиту. Однако душновато у вас… Проводите-ка меня, сударь, до станции, сделайте милость, а то мне что-то нездоровится. В моем состоянии – под немецкую музыку дома сидеть-не высовываться, а я, по вашей милости, такой вояж предпринял.
Доро’гой Чиграшов то молчал, то охал и жаловался на давление, но у закрытой забегаловки рядом с железнодорожным переездом внезапно ожил, переговорил в темноте с какими-то темными личностями и присоединился к стоявшему по его просьбе поодаль Криворотову, неся в руке замаскированную газетой бутылку.
– Она, проклятая, – весело сказал Чиграшов.
Тут и электричка на Москву подошла.
Криворотов, конечно же, задним умом понимал, что дело нечисто, и вряд ли человек, годящийся ему в отцы, будь он хоть трижды великим поэтом и законченным алкоголиком, вот так, запросто станет набиваться в сообщники молодежного смертоубийства. Но за последние сутки – там, на карнизе Аниного дома, и недавно в саду, где Лев перепугался, что жиденький кустик и впрямь чего доброго переживет его, – Криворотов натерпелся такого страху, что рад был любому вмешательству извне, лишь бы кто-то присвоил его волю, заморочил голову и правдами и неправдами отвел от края. А тем более, когда этим кем-то оказался Чиграшов с его магнетическим обаянием и безоговорочной властью над Криворотовым.
Вследствие внезапного ночного визита Чиграшова на Левину дачу поединок, как и следовало ожидать, обернулся фарсом. В гробовом молчании оба недруга и Додик целый час прождали второго секунданта. Даже неугомонный Шапиро сидел, точно язык проглотил, лишь изредка озирался исподлобья. Наконец он сдавленно издал приветственный возглас и взмахнул рукой. От пристанционной рощицы к молодым людям приближался Чиграшов. Судя по нетвердой поступи, классик едва вязал лыко. Подойдя вплотную к дуэлянтам, мэтр проговорил подчеркнуто внятно и с запойной медлительностью:
– Мое почтение. Господа, повинную голову меч не сечет. Грешен, простите старого раззяву – потерял лепажи. Пьян был и потерял. Увы мне, горе-оруженосцу! Но стиль, прошу заметить, выдержан, юные мои друзья и бретеры! Жанровые показатели мало сказать выполнены – перевыполнены на все сто. Искренние поздравления! И вы, Лева, считайте, что вас, как зачинищика поединка, разжаловали в экспедиционные рабочие и сослали до осени к ядрене фене, к немирны’м хлопкоробам и чабанам! Честь имею!
Чиграшов козырнул, попробовал молодецки развернуться «кругом», чудом не упал и, высоко задирая ноги, что, видимо, должно было изображать строевой шаг, прошествовал, сопровождаемый растерянными взглядами молодых людей, в обратном направлении – и вскоре скрылся в березняке.
IV
Точно в анекдоте с бородой: «вы будете смеяться, но тетя Роза тоже умерла». А мне и известно-то стало чисто случайно – неделю назад. Значит, три месяца без малого я подробно жил себе, жил, жил, а той, кого я пожизненно имел в виду, уже не существовало в природе. И все эти восемьдесят три дня я жил в пустоту, ибо целая вереница лет была привычно развернута в сторону Ани – учитывала ее заочное присутствие. Ведь когда, поворотясь спиной к кому-нибудь, занят своим одиноким делом – мытьем посуды, поисками книги или сборами – делаешь его все-таки несколько иначе, чем в полном одиночестве. И вдруг оглядываешься, почуяв неладное, и обнаруживаешь, что этого кого-то и след простыл, и ты и впрямь один-одинешенек в комнате, абсолютно. И что теперь? Двадцать девять лет литературные мои поползновения, «глухая слава» метили перво-наперво в Аню, как напоминание и томная укоризна отверженного. Каково свыкнуться с мыслью, что Анина живая тень больше не стоит рядом – стоит мертвая!
А я и лица толком не упомню, зря стараюсь навести память на резкость. Но воображение прокручивается вхолостую, точно сорвана резьба, и лишь самый невыигрышный Анин облик и удается вызволить на мое поминальное обозрение – с насморочным носом и лихорадкой на губе.
Сохранилась единственная фотография с Аней, групповая: несколько черно-белых студийцев, закрытие очередного сезона, как оказалось, последнего. Меня – чем не предвидение? – нет вовсе, я на Памире. Слева направо: Иванов-Петров-Сидоров, кто-то из этих, смотрит старательно, будто из раскрытого настежь паспорта; дальше – борец с режимом Вадим Ясень, разумеется, с похмелья, но, по обыкновению, позирует; Аня – третья слева, едва видна вполоборота из-за плеча мудака-тираноборца; следующий – скорчил рожу Додик Шапиро, попутно наставляет «рожки» соседу-старшекласснику. Рядом, школьнику по пояс, торжественный Отто Оттович, тоже покойник уже лет пятнадцать (заколот насмерть – дура-медсестра дозировала лекарство, руководствуясь возрастом в истории болезни, а не детским весом пациента). А вот и Никита, еще не вдовец, еще даже не жених… Остальных запамятовал напрочь. Оглянись, Анечка, обернись, черт возьми, моя ненаглядная!
Рутинная «встреча с читателями» шла своим чередом. Я нехотя, с больной головой после вчерашней «афинской ночи» отбарабанил собственные стихи и уже собирался, переждав антракт, рассказать почтенной публике, как котенок когтил многострадальную грудь Чиграшова, – душещипательную историю, подозрительно смахивающую на легенду о спартанском мальчике с лисенком под плащом, – когда, надписывая усатой, в два обхвата толщиной почитательнице свою книжонку, расслышал краем уха ее одышливые причитания, смысл которых, однозначный, как дважды два, дошел до меня с опозданием лесного «ау»: «меня вы, конечно же, не помните: я соученица вашего бедного друга, Никиты», «какой ужас, передайте ему при случае мои искренние соболезнования», «такая молодая, двое детей, он души в Анечке не чаял», «сгорела в считанные недели, онкология»…
Так я узнал о смерти Ани. «Из равнодушных уст я слышал смерти весть…», но внимал ей не равнодушно, нет. Я ушел, как сомнамбула, и публика, охочая до жизни замечательных людей, не услышала на этот раз моих побасенок.
Стало быть, умерла. Пренебрегла мною при жизни, умерла сама по себе – какое бешенство, тоска, пустота. И место мое, как издавна повелось, – на галерке в лучшем случае, не ближе. И горю моему, как некогда и любви, отказано во взаимности, во вдовстве. Я сбоку припека, меня почти нет. Десятилетия Аниной жизни преспокойно обошлись без Криворотова Льва Васильевича. Не я досадовал на ее забывчивость в пору беременности, не я становился жертвой Аниной раздражительности в канун месячных, не я язвил по поводу ее умения, оставив сковородку на огне, сплетничать с подругой по телефону, не я стягивал ей полотенцем голову покрепче, когда Аня готова была лезть на стену от мигрени, не я лаялся с ней вплоть до взаимных оскорблений, не я брался за поденщину, чтобы заработать Ане на металлокерамику, не я восклицал ей поверх охапки роз: «сорок пять – баба ягодка опять». В хорошую минуту не мне клала она руки на плечи – ноги и подавно. Целлюлозно-бумажные комбинаты страны могут не поспеть за моими запросами, возьмись я скрупулезно на письме перечислять, чего мы с Аней не – Цветаеву заткну за пояс. Мы не осуществили с ней головокружительного тройного обмена, в результате которого перебрались из хрущевской пятиэтажки в нынешнюю трехкомнатную квартиру с «улучшенной планировкой» – такое везение случается раз в тысячу лет, но одному из участников цепи (форменному сумасшедшему) позарез нужно было именно Одинцово – и все выгорело! Мы не ездили с ней в Карелию по грибы, откуда пришлось спешно бежать на перекладных, потому что у меня началась почечная колика. Я не фотографировал ее у каменных львов на крыльце Британского музея и на фоне Пизанской башни, когда соотечественники стали выездными. Она не выносила за мной судна в инсультной палате. Я не изменял ей по-командировочному наспех с кем попало, чтобы потом вожделеть к ней с удвоенной виною силой… Все вышеизложенное в придачу к астрономическому числу деяний, опущенных за их бесконечностью, происходило у меня с другими женщинами, а у других женщин со мной. Но даже зажмуриваясь на подступах к оргазму с кем угодно, только не с ней, я адресовал финальные спазмы в большей мере Ане, чем своим партнершам. Свернув шею, я следил до рези в глазах за Аниной удаляющейся жизнью, как угрюмый подросток на глухом провинциальном разъезде за отгрохотавшим мимо скорым поездом. Когда растет убеждение, что ты опоздал, разминулся, ошибся жизнью, но слезами горю не поможешь, и остается курить в кулак на жестком ветру и злобно сплевывать сквозь зубы себе под ноги, где и без того уже целая россыпь плевков и подсолнечной лузги.
От любви нашей не осталось и пятнышка на простыне. Ни-че-го ровным счетом. Разве что привкус поцелуя, тень стародавнего осязания, запечатленную краями губ, умеет подновлять моя вышколенная память. Вещественные доказательства? Затрудняюсь предъявить. Если только кресла под номерами 18 и 19 в девятом ряду Большого зала консерватории, сидя на которых мы как-то слушали «Оркестровые сюиты» Баха (совет Чиграшова). На плюшевые эти седалища смотрю я в смятении всякий раз, когда нелегкая заносит меня с семейством поддержать на должной высоте культурный уровень, пока в них не плюхнется жопа очередного меломана.
До барочной ли музыки было мне, скосившему глаза на Анины блистающие колени, пока рукоплескания не спугнули порочной (мели, Емеля) грезы?! А после, под реденьким весенним снегопадом – долгая дорога домой, заполненная пустейшим разговором по касательной к вожделению. Принудительное лобзанье у подъезда? Не помню, врать не стану.
Оплошал, Криворотов, ай-ай-ай! Положил, простофиля, на свое кресло программку, дескать, занято, и вышел, приосанившись, из зала. И какой-то хват, пока ты курил, или отрясал последние капли над писсуаром, или давился в буфете за ситро и бутербродом с заветренной колбасой, смахнул твою программку прочь и занял чужое место, пожав по-хозяйски твоей спутнице руку выше локтя, что, мол, он здесь и беспокоиться не о чем. И ныне, и присно, и во веки веков: музыка играет не для меня, не для меня была отпечатана программка, и не мне брать соседку слева тепленькой, разомлевшей от трехминутного полонезика из второй оркестровой сюиты. Обошлись без сопливых. «Лева дал такого маху, что не снилось даже Баху», – мог бы сморозить по этому поводу Вадик Ясень, не упади он двадцать лет назад «средь шумного бала» мордой в винегрет с разрывом сердца.
Не в коня корм, маэстро Чиграшов, нос у меня, знать, не дорос от звуков Ивана Севастьяныча вибрировать. Вы – иная статья, классик какой-никакой, вам сам Бог велел. Но ведь у нас с вами и без барокко дел хватает, так ведь?
Татьяна Густавовна совсем плоха и бедна, как церковная мышь, и подумывает о продаже братних бумаг в ЦГАЛИ. Передала она мне с полгода назад на экспертизу одну толстую тетрадь, сетуя, что сама в ней ничего разобрать толком не может, – совсем я, говорит, как та мартышка, «слаба глазами стала». Но у чиграшовской сестрицы закралось подозрение, будто тетрадь содержит наброски романа. Руки у «Левушки» (так она величает меня), понятное дело, задрожали, но старушка, увы, заблуждалась. Речь о пресловутой «китайской тетради».
Беспорядочные записи этого, с позволения сказать, дневника сделаны покойным в последние месяцы жизни, уже при мне. Дневника в строгом смысле слова Чиграшов не вел. А так – царапал, левша, как курица лапой, иногда с промежутками в несколько недель всякую всячину – что Бог на душу положит. Скажем: ««Неужто электрическая сила отрицательной частицы должна пройти сквозь всю эту цепь глаголов и отозваться в существительном?» Звук! Фраза замечательно лязгает железом – ясно слышится передернутая цепь!» Или: ««Гаврилиада» кончается шутовской мольбой о ниспослании в будущем безмятежной участи рогоносца. Наверху приняли к сведению». Из той же оперы: «Маяковский хвастал, что не дочитал «Анну Каренину» и так и не узнал, чем у Карениных дело кончилось. Самоубийством, чем же еще». Коллекционирование зловещих писательских обмолвок было пунктиком Чиграшова. Однажды с недобрым оживлением поделившись со мною последними поступлениями, он сконфуженно заметил:
– Легко быть прозорливцем за чужой счет. А чертеж собственной жизни проступит во всей красе лишь тогда, когда тот единственный, кого это всерьез касается, оценить работу чертежника будет уже не в состоянии.
А следом за этими и им подобными наблюдениями литературно-метафизического свойства сплошь и рядом наталкиваешься в «китайской тетради» на чистой воды китайскую же грамоту, вроде «начисления амортизационных отчислений» и арифметических выкладок, имеющих отношение уже ко второй, бухгалтерской профессии классика, а не к бухгалтерии судеб.
Строкою ниже – рецепт водочной настойки на золотом корне; тут же, бок о бок – приемные часы жэка в Малом Комсомольском переулке, а снизу наползает вкривь и вкось вообще латынь: «Cereus peruvianus monstrosus !». Я был бы не я, не наведи я справок у специалиста. Нет, это не авторское кредо и не девиз с фамильного герба – научное наименование разновидности кактуса, всего лишь. Восклицательный знак поставлен, полагаю, от воодушевления и нетерпения: Чиграшову, видимо, страсть как хотелось редким монстром обзавестись. И снова расписание, на сей раз – пригородных поездов. И в том же духе – подавляющее большинство сумбурных заметок и памяток из «китайской тетради».
Подслеповатую Татьяну Густавовну ввело в заблуждение действительно выведенное рукой Чиграшова и троекратно подчеркнутое – «Роман или повесть» где-то в последней трети ежедневника. А под широковещательным заявлением – отеческое напутствие собственному творческому порыву: «Выдумать себе какую-нибудь компанию людей, круг, чтобы была забота, – и уже распорядиться ими по-свойски…». И далее: «Соблюсти, пусть не точную симметрию частей, но подвижное живое равновесие, взаимное отражение перегнутой пополам жизни. Сродни четверостишию с рифмовкой абба (или имени Анна)». Но окрыленный «романист» все не может успокоиться и посылает вдогонку замыслу новое сравнение-наказ: «Завести волчок, чтобы жужжал еще какое-то время, после того, как кончится мой завод – превзойти самого себя».
Но порыв остался порывом – никаких иных примет художественной прозы тетрадь не содержит. Уже на следующей странице, залитой какой-то дрянью, – вот тебе и «Ordnung muss sein» – с трудом можно разобрать: «Среда у Отто» и рядом – почтовый адрес студии и как пройти, а ниже в столбик – пронумерованный перечень стихов, означающий, видно, очередность исполнения. Как не помнить: программа достопамятного вечера. Так и вижу себя в первом ряду, розового от возбуждения, с комом в горле, сраженного классиком в самое сердце. А не ошибись я тогда, не прими непризнанного гения походя за мелкую студийную сошку? Окажись Чиграшовым и вправду не Чиграшов, а самоуверенный красавец гляциолог, собеседник Арины, на которого я сперва подумал? Не было бы чувства вины перед уродцем в перекошенном пиджаке за свое близорукое высокомерие – не появилось бы и потребности в воздаянии с лихвой, экзальтации, взгляде снизу вверх, вовлечении в дело обожания каждого встречного-поперечного, но прежде всего Ани. Напротив. Был бы я начеку и любой ценой уберег бы зазнобу от чар поэта, красавца, записного сердцееда – стихи стихами, а табачок врозь. Если бы да кабы…
Листаем дальше. Дальше – больше. Такое, к примеру, «смиренное» признание: «Чувство вины за талант, как за всякое вообще лотерейное везение и дармовщину – хочется оправдываться. Спросить бы принца Уэльского, как у него обстоит с этим делом. А тут еще добровольный паж на мою голову, влюбленный на два фронта мальчик хороших средних способностей…» – кто бы это мог быть, а?
Но юродство моего подопечного не исчерпывается вышеприведенными разглагольствованиями; Чиграшов входит во вкус самобичевания (данные записи, судя по некоторым признакам, можно датировать концом апреля – началом мая): «Попытка сдвинуть душу с мертвой точки за чужой счет, снять жизнь с мели, повторно войти в одну и ту же «лирику» – бр-р-р, чур меня!».
Не мог же он, законченный автор, исподволь не подгонять своих дневниковых излияний под постороннее прочтение, не вплетать их, пусть ненароком, в ткань полного собрания сочинений! Да вот незадача: сестрица, слепая курица, передает тетрадку именно мне, прямехонько. Но даже если бутылку с письмом и прибило бы, в конце концов, к берегу, никому в целом свете, кроме меня, не понять в полной мере туманной весточки от классика. Но стеклотара угодила в надежные руки, а я, единственный посвященный, миндальничать с покойным корреспондентом не намерен. Ваш покорный слуга не видит особого преступления против профессиональной этики в том, чтобы – как бы это поделикатней выразиться?.. Семь раз отмерю, а после – возьму и… с глаз долой. Почему бы, например (богатая мысль!), задним числом не присовокупить «китайскую тетрадь» к содержимому последнего, потерянного ровно неделю назад паганелем-Криворотовым, портфеля, чем не алиби?
Следующие несколько страниц отданы под записи сугубо бытового характера, а вот снова – хроника тех дней: «Вчера ураган телефонных звонков, один другого хлеще. Сперва – Левина мать: «Вы погрязли в пучине разврата, но не отдам я вам честь дочери моей…» и т. д. – словом, что-то из репертуара «Мариинки» времен пермской эвакуации». (Бедная моя мама.) «А после, почти минута в минуту, – заполошный звонок: тот самый миляга-авангардист с совершенно анекдотической фамилией, чуть ли не Рабинович. Просил образумить бретеров, присовокупив напоследок, что Отто слег. Потащился с лекарствами к Отто. Взял у него заодно экземпляр «рукоделья». Дома полистал, расчувствовался, хотя есть опечатки, выпил немножко – какое там немножко! Чует мое сердце: быть запою, осложненному хлопотами с площадкой молодняка. Делать нечего – еду на ночь глядя к Леве, миротворец я хренов; смех и грех. Не Рабинович он никакой – Шапиро».
Так что, досточтимая Татьяна Густавовна, сенсации не случилось: прозы в «китайской тетради» нет как нет – одни благие намерения. Художественная ценность данных каракулей сомнительна, но от кое-каких почеркушек Чиграшова меня бьет озноб уже не литературоведческого свойства, и иммунитет, хоть убей, не вырабатывается. Время лечит плохо, не многим лучше Адамсоновой медсестры. Налицо передозировка. Нижеследующие пассажи окрещены мною попросту – «Крот и Дюймовочка».
Скажем, такая запись (на глаз – июнь-июль): «Прелесть – этим все сказано. Совершенно неприличный, особенно после вчерашнего, большой, как наклеенный, бледно-розовый рот, заставляющий вздрагивать мои поджилки, подростковые резцы-лопаты прихватывают нижнюю губу, придавая физиономии восхитительное глумливо-ребячье выражение, яркие глаза – кажется, что их больше, чем надо, как на кубистском полотне. А телодвижения… До сердечных перебоев меня тревожит эта травоядная грация: подмывает защитить или обидеть. И в этих-то устах – солдатское словцо «кончать»!». И отступив две строки, видимо, охолонув и все взвесив, впрыснул абсолютно в своей манере малость дегтя: «А. – вылитая тезка, очаровательный утенок, обещающий вырасти в пошлейшую гусыню, но слаще женщины у меня не было».
Но даже ему, стилисту-сладострастнику, словесный портрет удался не вполне. Разгадкой Аниного облика была живость, стоп-кадр здесь бессилен. Нечастая в пору моей молодости, ныне подобная внешность стала вполне распространенной, даже тривиальной и, более того, модной. Кормежка, что ли, улучшилась? И теперь каждый мордоворот, достигший годового заработка в 25 000 зеленых, первым делом обзаводится такой вот длинноногой белобрысой киской, одновременно с «Ауди» б/у (пробег не более 100 000 км по европейским дорогам) и бультерьером. Поэтому по два-три раза в неделю сердце мое екает на всю улицу, и я сворачиваю плешивую голову на 180о. Обознатушки, отбой. Или это у меня предклимактерическое? И тоска моя всякий раз забывает, что давным-давно нет и в помине девушки-стригунка, а есть корпулентная матрона, мать семейства. Теперь вот и ее нет. На удочку уличного сходства попался я в минувшую пятницу и не жалею, но – оставлю это приключение себе «на сладкое».
Не плеснуть ли из ковшика на каменку, не поддать ли жару? Не сыпануть ли лишнюю щепоть соли на старинные раны? Вот несколько страниц, мигом превращающие текстолога со стажем и ведущего специалиста по Чиграшову в вуайериста, приникшего с отвисшей от недужного внимания челюстью к замочной скважине – своеобразное «peep-show».
«Вчера А. как прорвало, сидя напротив меня в чем мать родила, покуривая и прихлебывая остывший чай, – исповедывалась битый час.
Небольшой шахтерский городишко. Помянутая мать – мать-одиночка: смолоду – вылитая Любовь Орлова, бывшая провинциальная актриса с возгласами и жестикуляцией, энтузиастка-сталинистка, выпивоха, понятно, с нетрезвой слезой вспоминающая гастроли фронтовых бригад. Любила завить горе веревочкой, тряхнуть стариной и гульнуть так гульнуть с театральной братией какой-нибудь проезжей белореченской или гомельской труппы: «Федька, солнце мое, совсем ты стал лысый! Наливай, дуся, неспетая ты моя песня!»«. Под застольный галдеж А. коротала детство.
В считанные годы хранительница семейного очага проделала стремительный – сообразно темпераменту – путь от библиотекаря до буфетчицы на станции. Жили они помаленьку в одной комнате в доме барачного типа от одного материнского загула до другого.
Раз в два-три месяца вырастал в дверях очередной друг юности, жовиальный работник кулис. Пили, пели, вспоминали; было интересно, но досаждало, что мать быстро пьянеет и забивает хмельным словоизвержением обаятельного балагура-собеседника. Гостю стелили на полу; спустя полчаса мать вставала и при пламени спички проверяла, спит ли дочь, – и это было особое искусство: не выдать себя смаргиваньем. Удостоверившись, что всё тишь да гладь, мать ложилась к гостю, и начиналось это . Но А. пугали не столько возня и постанывание справа от ее раскладушки, сколько завтрашний спектакль, потому что наступал день, и двое взрослых и девочка-подросток как ни в чем не бывало продолжали играть в мать, дочь и друга-постояльца.
А. было четырнадцать лет, когда друг-постоялец, клоун гастролировавшей в городке цирковой труппы – дядя Коля чем свет сделал отроковицу женщиной. Накануне с вечера все разыгрывалось, как по нотам: сперва застолье – веселое поначалу, бессвязное к концу, – потом проверка спичкой, потом это . Но это длилось так долго и с таким шумом, что уснула А. только под утро, а когда проснулась, мать уже ушла на службу, а дядя Коля сидел, покрывшись простыней и свесив ноги с материнской кровати, и как-то заново разглядывал проснувшуюся. Разглядывал-разглядывал, а после откинул с чресел простыню и показал А. свое хозяйство. Парализованная страхом и любопытством, девочка почти не сопротивлялась, сильной боли не испытала и зла на растлителя не держала».
Эврика. Вот, собственно, с какого потолка взялись в Анином рифмоплетстве цирковые коннотации. Но продолжение следует. Для потомков припасена еще одна фривольная новелла в ренессансном ключе.
«Уже в Москве, где А. последние два года живет в теткиной квартире и через пень-колоду учится всякой гуманитарной премудрости, она, беспутное создание, сошлась с пятидесятилетним гинекологом Гальпериным. Он, умелец, и натаскал провинциалку-дилетантку по части любовной акробатики, прилежно освоил в этом девятивратном граде кое-какие ходы и выходы, привадил к французской любви. А. долго пребывала в убеждении, что это они первые в целом свете такое удумали, и радовалась связывающей их срамной тайне.
Раз Анины знакомые, собираясь в отъезд, попросили ее пожить у них с неделю: поливать цветы, кормить кота. Аня переехала и как-то под вечер ждала Гальперина и от нетерпения напробовалась коньяку из хозяйского бара. Непривычная пить в одиночку, пьяненькая девушка и коту поднесла валерьянки в блюдце. Кота забрало, он взмыл на стеллажи, содержимое полок посыпалось на пол. Аня ставила книги на место, когда под руку ей подвернулось тематическое изданьице, богато иллюстрированный журнал, где среди прочих групповых и парных хитросплетений тел нашлось место и для ее с Гальпериным любовной причуды. Потрясение Ани было так велико, что она не отперла дверь на требовательные звонки старого греховодника. Вскоре, впрочем, гинеколог и вообще сошел на нет».
Таков в общих чертах оказавшийся в моем распоряжении «Журнал Печорина», он же «китайская тетрадь». И что прикажете, взять и хладнокровно предложить эти записки натуралиста вниманию литературоведов в перхоти, борзых аспирантов и прочей исследовательской швали? Дудки.
К моим нынешним занятиям, я имею в виду том для «Библиотеки поэта», находка Татьяны Густавовны отношения не имеет. Новыми стихами, как и предполагалось, Чиграшов за последние годы жизни нас не порадовал. Есть, правда, ближе к концу тетради один стихотворный набросок, но уже поздно огород городить и перелопачивать рукопись, когда книга сверстана и вот-вот уйдет в типографию. Да и не шедевр эти одиннадцать местами совершенно нечитабельных строчек, хотя распознать льва по когтям удается, если сощуриться. Или собаку на сене. Войти второй раз в реку молодости Чиграшову не удалось. Или так: войти-то он, может, и вошел, но и лирический порох подмочил, даже если он у маэстро и оставался, в чем я лично сомневаюсь. Вот эти строки:
- То же имя. И месяц тому неспроста
- Мне воочью светила её нагота
- В темноте с темнотою внизу живота –
- И в окне зацвела темнота.
- Будь что будет, вернее, была не была –
- Выцветай, как под утро фонарь на столбе,
- Доцветай, как сирень на столе доцветала…
- И сиреневый сор я смахнул со стола,
- Чтобы[нрзб] или[нрзб] –
- Чтобы жизнь, наконец-то, была да сплыла
- И уже над душой не стояла.
Если мои воспаленные вычисления верны, то до всего вышезарифмованного у них дело дошло где-то в конце июня, так что сирень приплетена для пущей красоты. Касательно же фабулы наброска, вернее, биографической подоплеки импульса к стихосложению, могу поделиться кое-каким личным опытом, не таким, правда, радужным и не в столбик, а в строчку. Был допущен в качестве «пробника» (Даль) или «губернатора», как это же амплуа называется у Шкловского.
Вы влезаете спьяну в заветное окно на шестом этаже (зачин малость отзывает нафталином: «Вы стоите на тяге. Чу!..») и оказываетесь один на один, Меджнун вы этакий, с предметом страсти и вожделения, благо дуэнья-тетка по счастливой случайности что-то там окучивает на шести сотках по Павелецкой дороге. (Вот бы хоть одним глазком подсмотреть сквозь замочную скважину врат из преисподней, как сложилась бы посюсторонняя жизнь всех остальных, оступись вы на узкой жести карниза и рухни с едва озаренного майским рассветом окна, словно истошно орущая гардина?) Но вы с честью побороли страх высоты и прочие фобии и стали участником маловразумительной эротической сцены. С тем чтобы минут двадцать спустя прямиком направиться на выход, раз и навсегда. Потому что на излете предварительного трепета и лепета вам говорят русским, кажется, языком, что им-де без любви неможется – и всякое такое. А вы после этих слов и сами уже ничего не можете и забавно, и нескончаемо долго приплясываете на одной ноге, вдевая другую в штанину. И напоследок отверженный оборачивается в дверях (теперь смотри во все глаза!), чтобы запечатлеть горе-горькое на веки-вечные. Что он видит в данный момент, что заучивает наизусть, про запас – на будущее, ближайшее и отдаленное? Бледнеющую утреннюю темноту, смутное постельное белье и – светло-белое на смутно-белом – неправдоподобную наготу. Что еще? Темноты «внизу живота», по счастливому выражению нашего поэта, как раз и не видно, потому что натурщица памяти позирует, сидя нога на ногу. А видит он едва брезжащее лицо в обрамлении стрижки каре и пунцовый уголек сигареты, пожалуй, это основное. В полуоткрытое окно доносится неразборчивый за дальностью брех диспетчера с расположенной по соседству сортировочной станции ж/д. За окном тихо шумит первый троллейбус, и тень его «усов» пересекает озаренный выцветающими (что верно – то верно!) уличными фонарями потолок комнаты, покидаемой навсегда.
Но и это еще не конец. Он уже не за горами, нет, именно что за горами. Прежде чем ты будешь вспоминать эту мизансцену из года в год в мельчайших подробностях, ждет тебя трехмесячная памирская репетиция пожизненной среднерусской разлуки. В первых числах сентября, на обратном пути, в поезде Душанбе – Москва ты не находишь себе места от избытка чувств и крепко-накрепко решаешь сразу же по приезде валиться в ноги, рассказать об Арине, просить руки, брать измором, бить на жалость. Кажешься себе «рыцарем бедным» (разовое утешение с разбитной экспедиционной поварихой не в счет).
Смолоду всегда так: стоит отлучиться – лавина событий. И тот приезд действительно превзошел самые завиральные мои ожидания – и в хорошем, и в плохом. Жизнь, вроде бы, дала послабление: Арина, которую я думал найти с внушительным пузом, исчезла в принципе – еще в июне получив разрешение/повеление выметаться в недельный срок. Судьбоносное объяснение с Аней пришлось отложить – она до понедельника прохлаждалась на теткиной даче. Чиграшов был, видимо, в зените запоя и, аки цербер, на пороге дома с зооморфным орнаментом выросла Татьяна, мать ее, Густавовна. Так что мой «восточный диван», написанный еще в Москве, впрок, не по чину первыми прочли и с пьяной щедростью превознесли до небес Отто Оттович с Додиком. Но вот и заветный понедельник…
Чем свет ты лихорадочно накручиваешь диск. Длинные, длинные, длинные гудки – и наконец-то голос с пришепетыванием. Ты сравниваешь себя почему-то с деревом в дыму и заклинаешь всем святым дать тебе свидание. Говоришь, что теперь все у вас пойдет по-другому, и ты знаешь, как по-другому.
В ответ – молчание с признаками жизни.
Ты переходишь на визг, что-де любишь ее больше отца-матери, больше Чиграшова (курсив мой), больше жизни, если на то пошло…
– Попробую, но не обещаю, – слышится после паузы.
– Сегодня?
– Исключено.
– Завтра?
– Нет.
– Среда?
– Нет.
– Четверг?
– Тоже отпадает.
– Хорошо, в пятницу.
– Это что у нас за число? – спрашивают тебя.
– Сейчас скажу, это… 13 сентября.
– Хорошо ли, – хмыкает трубка, – правильно ли будет встречаться в пятницу, да еще тринадцатого?
– Это будет замечательно, Анечка, как никогда! – отвечаешь ты с облегчением, близким к невесомости.
Почему так, а не иначе? Потому, Лева-почемучка, что кончается на «у» – более серьезных резонов для произошедшего я не нахожу.
Дано: 13 сентября 197… года, 16 45 , время московское. Из пункта А в пункт В, где ждет ее не дождется один незадачливый обожатель и незадавшийся поэт, следует со стороны Покровского бульвара прелестная девушка мальчикового сложения. До 17 00 , когда назначено свидание, осталось четверть часа, и девушка успевает в срок. Но она не торопилась бы в любом случае: во-первых, пунктуальность – не ее добродетель, и, во-вторых, у нее, что называется, ноги не идут на встречу с молодым человеком: она в разладе сама с собою и не готова дать решительный ответ на его мольбы и истеричные ультиматумы. Но и отказаться от свидания у нее сил не нашлось – не пробрасываться же воздыхателем? Так вот нерешительно она и бредет. Перешла улицу, купила в ларьке мороженого, съела и закурила на лавочке у пруда с лебедями. Осень чувствуется в особой подсветке небес и запахе – пока только в этом. Листья еще не пожелтели, холод не пробирает. Ткнулся ей в колени черный пуделек, она потрепала его в рассеяньи по шерстке. О чем она думает? Или вспомнила, как ровно в этих местах недавно крутила любовь с поэтом средних лет? Пока для молодого человека в пункте В еще не все потеряно. Интересно, что подсказало девушке ее девичье сердце, если, не дойдя нескольких сотен шагов до памятника комедиографу Грибоедову, она по наитию решила завернуть мимоходом в дом с зооморфным орнаментом, где считанные минуты назад в приступе черной меланхолии покончил с собой некто Чиграшов, поэт, каких поискать, на что, впрочем, девушка плевать хотела, и он же в течение полутора месяцев минувшего лета – счастливый любовник означенной юной особы? Книга философа Шестова из домашней библиотеки новопреставленного – хороший предлог для внезапного визита, хотя вернуть ее вспять по цепи должен бы, согласно приличиям и конспиративной этике, тот самый молодой человек, который уже в нетерпении поглядывает на уличные часы над конечной остановкой трамвая. Девушка пересекает транспортную протоку, омывающую бульвар, входит в знакомый подъезд и взбегает на третий этаж. Но и сейчас для ожидающего девушку молодого человека все еще остается малый проблеск надежды, потому что в момент недавнего ухода молодого человека из той же квартиры ее жилец, в дверь которого – и раз, и два, и три – звонит избранница нашего героя, остался в полном одиночестве: день-то будний, и соседи кто где в поте лица добывают хлеб свой. А мертвые дверей не отпирают.
Но здесь-то против всяких правил и происходит непредвиденное изменение в условиях задачи. Из пункта С – «Комбинат твердых сплавов», что на Стрелецкой улице, – на час раньше окончания рабочего дня ушла и неумолимо приближается к месту прописки и фактического проживания соседка покойного, Нурия Рашидовна Сотрутдинова. Она отпросилась у начальства, сославшись на головную боль, или в ее конторе прорвало трубы. (Я испытываю надрывную злобную радость при мысли, что такая мелочь, как неисправности городской водопроводной сети, возможно, принимает самое деятельное участие в моей судьбе.) Соседка оказывается у собственного парадного не раньше и не позже, а ровно в то мгновение, когда девушка выходит из подъезда ей навстречу, подумывая, что отсутствие обитателя квартиры даже к лучшему, поскольку избавляет от мучительных колебаний… а раз так, то надо бы прибавить шагу, поскольку она уже опаздывает на свидание в пункт В.