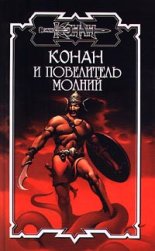Завхоз Вселенной Веров Ярослав

Катька стояла посреди кухни, уперев руки в боки.
— А ты хотел пойти и нажраться? Ты работать когда пойдёшь?
— Куда же я пойду, Кать? В государственной лавке платят мало, а это…
Катька выхватила из тостера гренки, полила обильно сгущенкой.
— Ладно, тунеядец, — сменила она гнев на милость. — Всё равно лучшего трахальщика не найти.
Гоша снова вздохнул и принялся за яичницу.
— Я дачу хочу, — сказала жена. — Ты бы хоть в стриптизёры пошёл, вон как у тебя всё выпирает.
Гоша вздохнул в третий раз.
— Кать, ты же меня своими ревностями сгноишь.
— Будешь приносить деньги — не сгною. А то ты только в постели мужик.
— Ты чё, серьёзно?
Гоша испугался. Что это на Катьку нашло? Как сидел у неё на шее, так и сидит, никогда она его деньгами не попрекала. Вдруг и правда заставит перед богатыми дамочками извиваться?
Он встал, обнял Катьку сзади и поцеловал в шею.
— Катю-юш… — промурлыкал он.
— Убери лапы. Быстро убери.
— Ну Катю-юш…
Он уже мял её грудь.
— Отстань, не хочу.
Но он не отстал, и Катька наконец сдалась:
— Ну, ладно, неси меня.
Когда они уже лежали, расслабившись, и пускали дым в потолок, Катька внезапно сказала:
— Ну что?
— Хорошо, — ответил Гоша.
— Насчёт стриптиза что?
— Кать, ты что? Тебе что-то не понравилось?
— Вот дурак. Если мне что-то не понравится, я тебя в два счёта на улицу выставлю. Знаешь, сколько в «Континенте» за вечер зарабатывают? Двести-триста денег.
— Ты что, там была?
— Ага, Денис водил. Кстати, сегодня Денис придёт в гости, так что вечером можешь быть свободен. А я с ним поговорю насчёт тебя.
— Катюша, но я не хочу в клуб. Я и танцевать не умею.
— Не умеешь — научат. Там не танцуют. Ничего, тебе на пользу пойдет. Погоняют в спортзале. Злее станешь. В общем, чтоб с шести вечера тебя здесь не было. Сходи к своему Солженицыну, пива попей. Денег я дам.
Катька вскочила, вытащила из сумочки несколько денег, бросила на стол. И пошла в душ.
Иван Солженицын был однофамильцем известного писателя, работающего в жанре «чёрного» триллера. С Гошей они три года проучились в одной группе на факультете земельных свойств.
Медное и огромное солнце за окном клонилось к закату — так было всегда, когда Гоша оставался в квартире один. Катька была на работе, её фирма изготавливала печати на все случаи жизни. Захочет человек, скажем, попасть в Саратов, закажет на фирме соответствующую печать-штамп «Буду в Саратове с… до…», приложит к своей расписке — и всё, он уже едет в Саратов. Захочет изменить форму черепа. И тут печать выручит — «Выбранную мной форму черепа следует считать настоящей». Главное, деньги заплатить.
Из-за денег Гоша и сошёлся со стервозной Катькой. Правда, тогда она не была стервозой. Мягкой была, но когда перешла на фирму к Денису, первым делом наложила на себя печать «Успешная деловая женщина».
Гоше думалось, что Денис, Катькин босс, наверняка с ней спит. А как иначе понимать, когда приходишь домой, а босс твоей жены разгуливает по квартире в одних семейных трусах, и никто Гоше не объясняет — почему.
Гоша посмотрел на себя в зеркало — недурён, — одёрнул пиджак. Ещё раз всмотрелся в собственные черты лица. И совершенно некстати, к полному своему недоумению, обнаружил, что выглядит он как-то иначе, не так как должен. То есть, не его это лицо. Гоша зажмурился, припомнил, каким он видел себя вчера. Открыл глаза. В зеркале снова был он, Гоша. «Коварный это прибор — зеркало», — подумалось ему. Он провёл массажной щёткой по завитым мелкими кольцами волосам, потёр для румянца щёки ладонями. Ещё раз одёрнул полы пиджака, поправил ремень на брюках.
У Солженицына за окном тоже пылал вечный закат, но не тусклого, вялого меднолицего Гошиного солнца, а яростного, алого, играющего золотыми огнями на небе цвета сапфира. У Солженицына было самое красивое небо. Ни у кого больше такого не было — ни голубого, ни синего.
Обычно они с Иваном усаживались на кухне, прямо перед открытым окном. Пили пиво и философствовали.
Солженицын ещё с факультета подсел на теорию эволюции. Не давало ему покоя то, что факты современной науки свидетельствуют: сама по себе эволюция невозможна. Но академики и профессора наложили гербовые печати «самодостаточной эволюции» на акт исследования. И теперь ничего не оставалось, как свято в неё верить и почитать.
Вольнодумный Солженицын не любил гербовых печатей за их императивность. Поэтому массу времени тратил на выискивание всё новых фактов, противоречащих эволюционной доктрине.
Гоша был благодарным слушателем. Эволюция ему была безразлична. Он выпивал необходимую дозу пива и впадал в благодушное настроение. На солженицынский закат любоваться можно было бесконечно и сквозь призму пивного бокала, и просто так. Окно выходило на долину, усеянную маленькими нарядными коттеджиками, ездили там повозки, запряжённые волами, скирдовали снопы крестьяне, и огромные красные виноградники тянулись до самого горизонта.
На выделенные Катькой деньги Гоша купил дюжину бутылок пива, сушёных кальмаров и солёного арахиса. Они с Ваней устроились на кухне. Включили радио «Шансон», душевнейшее радио. И под плачущих блатарей, прожигающих «слезой горючей» ночнушки своих милок, приступили к делу. Солженицын завел разговор о «катастрофе ошибок» и полной невозможности, благодаря этой катастрофе, возникновения живого вещества из химических соединений. Гоша сосредоточенно пил. Пил и за утренний недопив, и за вчерашний, а заодно и за будущие мытарства.
Через час Ваниных разглагольствований Гоша вдруг сообщил:
— Катерина желает, чтобы я пошёл деньги зарабатывать.
— Женщина, что ты хочешь, — философически заметил Солженицын и бросил в рот пригоршню орешков.
— Знаешь, куда она желает меня пристроить? В мужской стриптиз.
Ваня расхохотался и потрепал Гошу пухлой ладошкой по плечу.
— Да, старик, да…
— Слушай, Ваня, а разводиться не страшно?
— Совсем не страшно, — ответил Ваня.
Солженицын, человек добродушнейший, успел три раза развестись и сейчас холостяковал.
— А так, чтобы Катькина квартира за мной осталась? У меня денег на такую печать нет.
— Если хочешь, чтобы квартира за тобой осталась, а денег на печать нет, убей свою подругу. Только убей быстро, чтобы она не успела подумать ничего лишнего. Вдруг подумает, что ты её не любишь и за это убиваешь. В Районном храме тебе объяснят, что ты её убил мотивированно. Квартиру отдадут государству, а тебе присудят штраф.
— Большой штраф?
— Что твоя благоверная желает в последнее время?
— Дачу.
— Вот дачу и присудят.
— Значит, удавить мне её нельзя… — задумался Гоша. — И от яда она сразу не помрёт. Здесь нужен автомат. Он ведь дорого стоит, а, Иван?
— Дорого, — подтвердил Солженицын.
Он открыл новую бутылку и разлил по бокалам.
— Ты, пожалуй, покончи с собой. Как раз на автомат денег дадут.
— Ваня, а ты с собой уже кончал?
— А как, ты думаешь, со второй я развёлся? Меня государство без денег оставило, когда из академии вышвырнули.
— Я помню, как тебя вышвыривали. А что ты с собой кончал — не знал.
— О таких вещах обычно не рассказывают. Есть тайна жизни, есть тайна смерти, — философски заметил Солженицын.
Он кивнул на окно:
— Давай, прыгай, старик.
Солженицын жил на восьмом этаже. Поэтому Гоша разбился насмерть. Приехала чёрная «скорая» с белыми крестами на бортах. Из неё вышли люди в чёрных халатах, поместили труп Гоши в машину и отвезли на Кладбище, в крематорий. Тело кремировали, пепел выбросили. После кремации Регистратор сделал соответствующую запись в Книге смертей. И передал сведения о покойном в Городской храм.
Самоубийство приравнивалось к значительному поступку, за который государство даровало новую жизнь и позволяло если и не переиграть ситуацию, приведшую к самоубийству, то компенсировать моральные издержки. В Городском храме Гошу подробно расспросили, зачем он бросился с восьмого этажа. Гоша рассказал, что счёты с жизнью свёл из-за жены. Которая поставила его перед тяжелейшим моральным выбором. Психика его оказалась не готовой к подобным испытаниям, и он решил изменить жизнь радикальным путём. Ему поверили и спросили — как он собирается решать свою проблему. Он сообщил, что на сегодняшний день не желает ничего иного, кроме как убить свою Катерину и, если повезёт, её любовника. Для этого ему нужен один автомат. Пистолет Гоше казался оружием ненадёжным. Сотрудники храма постановили, что убийство супруги с любовником станет адекватной компенсацией за нанесенный моральный ущерб. Складной автомат «калашникова» вписывался в ценовые рамки полагающегося самоубийце материального вспомоществования. Так Гоша сделался обладателем и автоматического оружия, и права на отстрел двух человек. Насильственная смерть перемещала убитого как можно дальше от его убийцы. Поэтому Гоша надеялся избавиться от Катьки раз и навсегда. Пускай окажется в каком-нибудь Усть-Пердюйске, страна ведь большая.
Поздно вечером Гоша вернулся к своей Катьке. Открыл дверь и прислушался. Так и есть, из комнаты доносились громкие голоса. Катька общалась с боссом.
— Ты, Каток, прикинь, как было бы классно, если бы я стал депутатом, — разглагольствовал Денис. — Свой кабинет, езжу с мигалкой, на партнёров плюю…
— А меня куда? В бордель?
— Ты так не шути, Каток. Ты у меня помощником будешь, правой рукой.
— Ты гляди, какой щедрый выискался, — громко и пьяно рассмеялась Катька. — Я может, сама в депутаты гожусь!
— Да, ты баба со стержнем.
— Я не баба, я — девушка.
На этот раз расхохотался Денис. Потом они затихли, Гоша представил, как они целуются. Потом Катька развязным голосом поинтересовалась:
— А в олигархи ты бы смог?
— Вот, Каточек, это самое главное и есть. Олигархом не каждый может. Здесь нужен приход, прикуп и твёрдость руки. Взял в руки карты — катай! Иначе укатают тебя. Понял, Каточек? — Денис вновь рассмеялся.
«Да, заворковались, голуби», — Гоша извлёк из пакета короткий милицейский «калаш», купленный на материальную помощь, выданную Городским храмом. Выдвинул приклад, достал из кармана рожок с патронами, защёлкнул в держателе, клацнул затвором. И сладко так сделалось на душе у Гоши, такой тёплой волной окатило.
Голубки не слышали, как он вошёл. Они обнимались. Гоша вскинул автомат и пустил длинную очередь по постели, по столику с пустыми бутылками из-под шампанского и коньяка, по вазе с розами, которых днём ещё не было. В нос ударил острый и сладкий запах пороховых газов. Зазвенели чудной музыкой гильзы, падая на пол.
Денис, прошитый от плеча к животу, бухнулся с кровати на пол, а Катька дёрнулась на постели, взвизгнула и вдруг кинулась к окну.
— Ненавижу рассвет! — заорал Гоша и выпустил остаток обоймы по окну, за которым был рассвет. Он всегда был за окном, когда в квартире находилась Катька.
В Катьку он не попал. Поэтому она, упав с четвёртого этажа, просто разбилась об асфальт. Приехала чёрная машина с блистающими в свете фонарей белыми крестами и увезла Катьку в крематорий.
«Ушла, сама ушла. Что теперь со мной будет?» — испуганно думал Гоша.
Из квартиры надо срочно бежать. Скоро воскресшая Катька вернётся с милицией или блатными. Его выставят из Москвы, а может быть, и посадят. Да нет, не посадят. В Москве не сажают за убийство любовника жены, сражённого на месте прелюбодеяния. Тем более, у него было право на отстрел. А вот из города выпрут. За доведение насильственным путём до самоубийства законной супруги. Но вот если его возьмут блатные — пустят на органы. После этого не воскреснешь.
Надо как можно скорее в крематорий, надо забрать пепел, дать взятку дежурному гробовщику, ликвидировать запись в Книге смертей. Тогда и квартира — его. И никакого стриптиза. Если только он успеет в нужное время в нужное место. На кладбище «Новосудьбинское».
Чтобы доехать быстро, необходимы большие деньги. Гоша подобрал Катькину сумку — она валялась в прихожей, полураскрытая, рядом, на полу — высыпавшаяся косметика. Очень, небось, в койку спешили. Гоша выпотрошил Катькин бумажник, распихал деньги по карманам и вышел в вечную ночь улицы.
Ночь сверкала огнями фонарей, рекламных щитов и неоновых вывесок. Вдоль трасс протянулись гирлянды, словно город готовился к празднику. Машины расцвечены люминесцентными трубками. Из забегаловок и магазинов рвались громкие и резкие всплески музыкального хаоса. Гул машинных моторов прорезало рычание мотоколясок.
Трамваем дешевле, но медленнее, пришлось брать такси. Водитель, услышав, что на «Новосудьбинское», на другой конец города за максимум пять минут, заломил пятьдесят денег. Это всё, что было у Гоши. Что ж, деваться некуда: чёрные кареты летают очень быстро, и печи крематория горят жарко. Гоша передал деньги и напряжённо замер на сидении.
Машина плавно тронулась с места, дома и дороги стали перетекать, трансформироваться друг в друга, и ровно через пять минут такси плавно затормозило у ограды «Новосудьбинского».
Гоша бросился в распахнутые ворота. В крематории работало сразу девять печей. На ожидании стояло не менее сотни носилок с телами. Гоша побежал вдоль рядов, всматриваясь в лица покойников.
И вдруг увидел он такое лицо, что перехватило дыхание. Этот человек сегодня утром смотрел на него из зеркала.
7
Игорёк очнулся: мрачный склеп с арочным кирпичным потолком, освещаемый факелами копотного пламени, бьющими из пола. Он лежал на решётчатой тележке, одной из вереницы таких же тележек. На них лежали мертвые тела. Эти тела горели, корчились, кожа вспучивалась пузырями, из глазниц били снопы голубого огня. Черный дым поднимался к потолку, собирался у вытяжных отверстий.
«Ни фига себе сон», — подумал он.
Сполз с тележки, привалился к стене, глянул — слева и справа жуткие, обугливающиеся тела.
«Не надо было мне убивать, нехорошо это. Что, если мертвецы теперь станут постоянно являться? Страшно. Зачем меня в Ирак понесло?»
Неужели так и придётся сидеть в печи и ждать, когда кончится сон? Игорёк не стал ждать и на четвереньках мимо коптящих тел пополз к выходу. Заслонка оказалась запертой. Игорёк принялся колотить в неё кулаками. Тщетно. Выбившись из сил, Игорёк сидел и наблюдал, как багровое пламя газовых факелов делается постепенно голубым, копоть и дым исчезают, тела превращаются в скелеты, а потом — в прах, серыми комьями проваливающийся сквозь решётки в установленные внизу поддоны.
Наконец факелы начали гаснуть, пока не стали маленькими голубыми язычками пламени. В наступившем полумраке Игорёк слышал лишь удары собственного сердца. Заслонка со скрежетом пошла вверх. Игорёк вывалился наружу прямо к ногам гробовщиков, угрюмых коренастых людей в чёрных комбинезонах со знаками огня на жёлтых шевронах.
— Эта… — поднимаясь с кафельного, зеркально чистого пола, пробормотал он. — Что это?
— На мой памяти здесь ещё не воскресали, — заметил один гробовщик.
— Ты иди к Регистратору, — сказал Игорьку другой. — Там разберутся.
— А где это?
— На втором этаже, — указал пальцем на маршевую железную лестницу первый. — Одежду возьми. Вон там.
Он показал на груду снятой с мертвецов одежды.
«Снова я голый, как в той пустыне. Всё из-за неё».
Гробовщики, не обращая больше на Игорька никакого внимания, прицепили трос лебёдки к сцепке с тележками и стали вытягивать «скорбный поезд» из остывающей печи.
Брезгливо морщась, Игорёк принялся ковыряться в этой груде. Не хотелось ни надевать эти вещи, ни трогать их. Были среди них окровавленные, да и обмоченные. Не без труда он нашёл подходящие рубаху и серые холщовые шорты, подобрал по размеру обувь — ботинки на толстой рифлёной подошве.
Наверху, пройдя длинной балюстрадой, Игорёк оказался перед обитой оцинковкой дверью с табличкой: «Регистратура». Внутри оказалось обширное помещение с рядами железных скамеек вдоль стен. Больше ничего там не было. На скамейке, опустив голову, сидел молодой человек. Он поднял взгляд на Игорька — взгляд был исполнен крайней степени тревоги.
— Уже? — спросил он.
— Что? — не понял Игорёк.
— Уже воскрес?
— Зачем? Я не умираю. Хотя, во сне…
— А кто лежал? Я тебя видел мёртвого.
— Ну, пускай будет, воскрес, — согласился Игорёк.
— Значит, и она воскресла, — с обречённостью вздохнул Гоша и вновь опустил голову.
— А Регистратор где?
— Там, — Гоша кивнул на противоположную дверям стену.
— Где там?
— Он сам впускает. Вот меня не впустил. Может, тебе откроет?
— А как?
— Садись, жди.
— А ты долго ждёшь?
Гоша посмотрел на часы.
— Долго.
Игорёк сел рядом.
— Тебя как зовут? — спросил он.
— Гошей.
— Я — Игорь.
— Я твоё лицо сегодня видел. Глянул в зеркало — а там ты. Странно.
— Во сне и не такое бывает.
— Я не во сне. Я к Солженицыну шёл.
— Значит, здесь ещё и Солженицын… Вот угораздило. Он же о репрессиях писал. Это у меня совесть, точно.
— А мне вот нисколько не жалко.
— Чего не жалко?
— Катьку. Если Регистратор меня не примет, мне кранты. Катька меня блатным сдаст.
— Здесь ещё и блатные… Значит, должны быть и политические, раз Солженицын, — рассудил Игорёк. — Хотя во сне логики не ищи.
— Есть и политические. Они в Учреждениях.
— В тюрьмах?
— Не только. А ты откуда такой дремучий. Из Мухосранска какого-нибудь?
— Москвич я.
— Врёшь. Мы и так в Москве.
— Просто я сплю. Сон мне такой злой снится. Я людей убил, понимаешь?
— Ну и что? Я тоже убил. Сегодня одного гада. А Катьку до самоубийства довёл. Вот теперь мне и кранты.
— Значит, Регистратор как судья?
— Судья в Учреждении. Регистратор нужен мне, чтобы за взятку Катькин прах получить, чтобы, зараза, сама не воскресла. Я его в Храм отнесу, объясню, что это в счёт разрешённого отстрела. Да что там, опоздал, — вновь вздохнул Гоша.
— Что-то Регистратор не открывает свою регистратуру.
— А тебе чего надо?
— Сам не знаю. Мужики внизу сказали, я и пришёл.
— А… Так это гробовщики. Они только Регистратора и знают. Тебе в Храм нужно, в любой районный. Пошли, наверное.
Игорёк послушно поднялся вслед за Гошей. Во сне незачем напрягаться, пускай тот ведёт.
Через дорогу от кладбищенской ограды раскинулся подстриженный газон, горели шарообразные светильники на длинных ножках. Игорёк ступил на траву. Упругая, запах как у свежескошенной.
«Куда меня занесло? — думал Игорёк. — Что меня так потянуло на подвиги? Словно чёрт попутал. Ну, стал бессмертным и сидел бы себе тихо, работал с Артамошей. Писал бы серьёзную музыку, на будущее. А то захотелось непонятно чего, злого…»
Игорёк по своей природе был человеком неконфликтным и мирным. Мир в себе он ощущал постоянно, и ощущал как музыкальную гармонию. Казалось, ничто не могло её нарушить. Ни упрёки и истерики любимых, ни причуды заказчиков, ни подначки Артемия не могли вывести его из равновесия. Другое дело, что, конечно, он боялся попадать в напряжённые ситуации и всячески их избегал. Из-за этого уходил от женщин, не опускаясь до выяснения отношений, оставляя за скобками вопрос, кто же прав, а подруг в недоумении — почему сбежал, ведь можно было всё выяснить, объяснить.
Он провёл ладонью по траве. Жестковатая. Если ущипнуть себя, то можно определить — сон это или не сон. Но ведь он боли не чувствует. Хотя нет, тактильные ощущения сохранились. Вот и трава…
«Не понял, я что, не сплю?» — удивился Игорёк. Он разогнулся и вдохнул полной грудью прохладный ночной, пахнущий травами и лесом воздух. Во сне не бывает запахов. Он ущипнул свою руку — слабая боль. Непонятно.
Обернулся — тёмная громада крематория занимала пол-неба. Из труб вырывались снопы искр. «Как-то чересчур огромно для крематория», — подумалось Игорьку.
— У тебя деньги есть? — поинтересовался Гоша.
— Откуда?
Игорёк полез в карманы шорт. В карманах ничего не было.
— Понаехали тут из своих Усть-Пердюйсков, — пробормотал Гоша. — А денег нет. Как добираться?
— Далеко?
— Далеко. Ладно, пошли.
— И долго идти?
— Долго.
— Может, попутную поймаем?
— Давай, лови. Меня водители не замечают.
Они шли вдоль трассы. Игорёк выставил руку с оттопыренным большим пальцем, а машин не было.
— Тебя они тоже не замечают, — сделал вывод Гоша.
— Ещё ни одной не было.
— Да их здесь полно! Если бы остановилась, мы бы видели. А так, раз они нас не замечают, как мы их увидим?
«Всё-таки сон. Сложный, с запахами».
Из подземного перехода вывалилась компания молодёжи, подростки лет четырнадцати. В воздухе поплыл сладковатый запах конопли. Коротко стриженная курносая девка в майке с голым пузом бесцеремонно ухватила Гошу за рукав.
— Эй, дядя, косячку курнём?
— Не курю, — нервно ответил Гоша.
— Тогда деньги давай.
— Нет у меня денег.
— Тогда ты давай, — предложил Игорьку белобрысый востроносый паренёк.
В блеске его глазах читалась скотская бессмысленность обдолбанного придурка.
Игорёк на этот раз не стал думать, что обижать человека нехорошо даже во сне, даже если этот сон — муки твоей совести. А просто двинул пареньку между глаз. Тот как стоял, так и рухнул.
— Э, да ты бурый, — прогнусавила девица и кивнула троим своим спутникам.
В ртутном свете фонарей блеснули лезвия бритв.
— Зарежут, — по-мышиному пискнул Гоша и шарахнулся было в сторону.
Девка, не выпуская его руки, ловко поставила подножку, и Гоша упал к её ногам.
«Какие там бритвы?» — лишь усмехнулся Игорёк и принялся работать кулаками.
Когда и эти трое легли на асфальт, Игорёк вспомнил о девице.
— Ну, а с тобой как быть?
— Я тебе денег дам, — сдавленным голосом ответила та, вставая со спины поверженного Гоши. — Мне сейчас умирать нельзя. В розыске я.
Гоша массировал шею и кашлял.
— А тебя не Катька послала? — отдышавшись, спросил он.
— Не. Оттопыривались мы.
— Если не Катька — это хорошо.
Гоша медленно, со стоном поднялся.
— Слушай, Гоша, ты ведь здоровый мужик, зачем ты ей поддался?
— Дурак. Она же блатная, приёмы всякие знает. Мизинец мне чуть не поломала…
— Вот эта школьница — блатная?
— Какая я тебе школьница, — обиделась та. — Короче, держи деньги, и разбегаемся.
Девица достала из заднего кармана джинсов пачку разноцветных бумажек и протянула Игорьку.
— Это что?