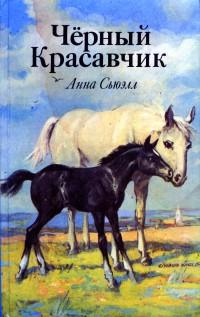Гений Драйзер Теодор
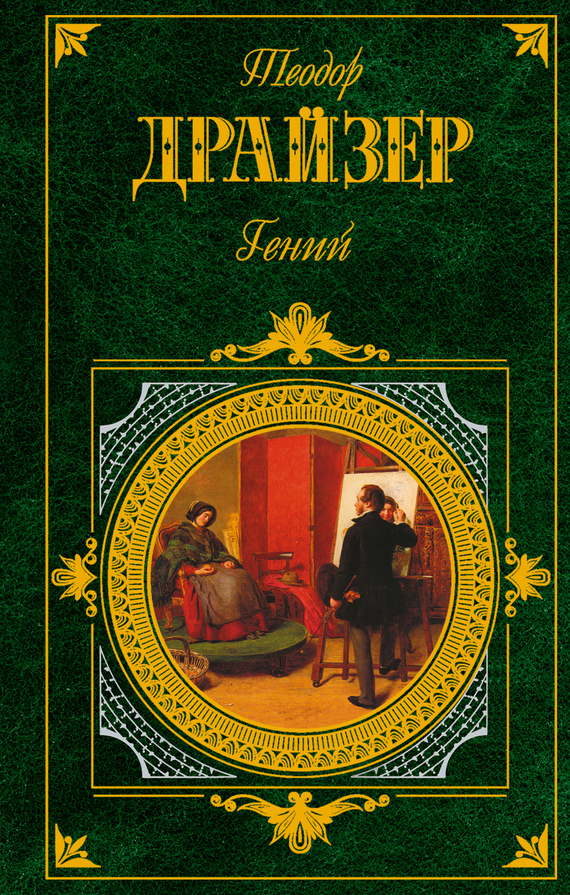
Она недоверчиво улыбалась. Конечно, это только мальчишеская выходка, не больше.
– Я еду сегодня же, – сказал он. – И хочу поспеть к четырехчасовому поезду.
Теперь на лице матери появилась тревога.
– Быть не может, – повторила она.
– Ведь я в любое время могу вернуться, если захочу, – сказал Юджин. – Пора мне поискать себе другое занятие.
Вошел отец. У него была маленькая мастерская в сарае, где он иногда чистил машины и чинил фургоны. Он все утро копался там.
– Что случилось? – спросил он, увидев их взволнованные лица.
– Юджин уезжает в Чикаго.
– Это когда же? – иронически спросил отец.
– Сегодня. Он говорит, что едет сейчас.
– Ты это, надеюсь, не всерьез? – сказал пораженный Витла. Он ушам своим не верил. – Что это тебе загорелось? Такой шаг надо хорошенько обдумать! На какие же средства ты будешь там жить?
– Проживу как-нибудь, – сказал Юджин. – Я еду. Хватит с меня Александрии. Я хочу выбраться отсюда.
– Ну что ж, – сказал отец, веривший в инициативу. Оказывается, он плохо знал своего сына. – Ты уложил чемодан?
– Нет, пусть мама вышлет мне вещи.
– Не уезжай сегодня, – стала упрашивать миссис Витла. – Подожди, Юджин, пока у тебя будет хоть что-нибудь на примете. Это слишком серьезный шаг. Подожди до завтра.
– Я поеду сегодня, мама. – Он обнял ее одной рукой. – Мамочка!..
Он был уже сейчас выше ее ростом и продолжал расти.
– Хорошо, Юджин, – тихо сказала она. – Но напрасно ты уезжаешь.
Ее мальчик покидал ее – сердце матери обливалось кровью.
– Я всегда могу вернуться. Ведь это всего лишь сотня миль.
– Что ж, поезжай, – сказала она наконец, стараясь держаться бодро. – Я уложу твой саквояж.
– Я уже все уложил.
Она пошла проверить.
– Ну что ж, скоро пора ехать, – сказал Витла, думавший, что Юджин еще колеблется. – Очень жаль. Хотя это, разумеется, пойдет тебе на пользу. Во всяком случае ты знаешь, что здесь тебе всегда будут рады.
– Знаю, – сказал Юджин.
Они отправились к поезду все вместе – Юджин, отец и Миртл. Мать не пошла с ними. Она осталась дома плакать.
По дороге на вокзал они зашли к Сильвии.
– Что ты, Юджин! – воскликнула она. – Что за странная фантазия! Не надо ехать!
– Он твердо решил, – сказал Витла.
Наконец Юджин вырывался на свободу. Любовь, семья, все близкое, родное крепко держало его в своих объятиях, и с каждым шагом он словно рвал эти узы. Они добрались до вокзала. Подошел поезд. Отец ласково и крепко пожал сыну руку.
– Будь молодцом, – сказал он и судорожно глотнул.
Миртл поцеловала брата.
– Какой ты чудила, Юджин! Пиши мне.
– Ладно.
Он поднялся в вагон. Прозвонил звонок, и поезд тронулся. Юджин смотрел на знакомые места, и боль, настоящая боль сжала его сердце… Стелла, мать, отец, Миртл, их милый домик… Все это уходило из его жизни.
– Гм-м! – чуть ли не застонал он, прочищая горло. – Черт побери!
Он откинулся на спинку скамьи и заставил себя ни о чем не думать. Он должен пробить себе дорогу. Это и есть жизнь. И это должно быть его целью. Он добьется своего.
Глава IV
Чикаго – кто его опишет! Кто опишет этот гигантский муравейник, выросший словно по мановению жезла на гнилых болотах приозерья! На целые мили протянулись мрачные домишки, на целые мили ушли вперед улицы с торцовыми мостовыми, газовыми фонарями, водопроводными магистралями и пустынными деревянными тротуарами, по которым скоро заснуют толпы прохожих. Стук сотен тысяч молотков, звонкие удары зубил в руках каменщиков! Длинные, смыкающиеся вдали ряды телеграфных мачт; тысячи и тысячи стоящих вразброс, словно часовые, домиков, заводов, устремленных ввысь фабричных труб, и среди них вдруг одинокая невзрачная церковка, смиренно приткнувшаяся на голом пустыре. Нетронутая целина прерии с выгоревшей на солнце травой. Широкие железнодорожные насыпи, по которым ползут стальные пути – десять, пятнадцать, двадцать, тридцать в ряд, – унизанные, словно бусинками, тысячами и тысячами грязных вагонов. Громыхающие паровозы, бегущие поезда, люди у переездов – пешеходы, возчики, кучера, подводы с пивом, платформы с углем, кирпичом, камнем, песком – зрелище новой, неприкрашенной, неукротимой жизни!
По мере приближения к Чикаго Юджин начинал все больше и больше понимать существо и значение огромного города. Какими невнятными казались ему теперь слабые газетные отголоски по сравнению с этой яркой, красноречивой, полнокровной жизнью! Перед ним раскрывался новый мир – мощный, влекущий, совсем особенный. Когда поезд стал подъезжать к городу, внимание юноши привлекла красивая пригородная станция – такой он еще никогда не видел. Никогда не приходилось ему видеть и такого скопления рабочих-иностранцев – целые толпы литовцев, поляков, чехов дожидались пригородного поезда. Никогда он не видел и настоящего большого завода, а здесь они вырастали перед ним один за другим – сталелитейные, фаянсовые, мыловаренные, чугунолитейные заводы, мрачные и неприступные на фоне вечереющего неба. Несмотря на воскресенье, что-то юное, энергичное, оживленное чувствовалось в атмосфере этих улиц. С интересом смотрел Юджин на конки, дожидавшиеся пассажиров. В одном месте переправа через реку производилась на канатном пароме; это была грязная, неприглядная речонка, но во всю ее ширь теснилось множество судов, а по обоим берегам тянулись огромные амбары, зерновые элеваторы, угольные склады – архитектура насущных нужд большого города. Воображение Юджина разыгралось. Как хорошо было бы передать эту картину в черных тонах, лишь кое-где тронув красным или зеленым огни вдоль мостов и на судах. В некоторых журналах художники делают такие вещи, но у них это получается недостаточно живописно.
Поезд, пробираясь среди длинных составов, подошел к бесконечной крытой платформе, где под гигантской выпуклой крышей из стекла и стали шипело штук двадцать дуговых фонарей. Толпы людей сновали взад и вперед, пыхтели паровозы, гулко звонили колокола.
У Юджина не было в этом городе ни родных, ни знакомых – никого, к кому он мог бы обратиться, но он не испытывал одиночества. Новая, невиданная картина жизни захватила его целиком. Он вышел из вагона и неторопливым шагом направился к выходу, гадая, куда идти. На углу, в свете зажженного фонаря, ему бросилась в глаза дощечка с надписью «Мэдисон-стрит». Он взглянул вдоль улицы: по обе стороны ее, уходя вдаль, выстроились магазины, тащились конки, торопливо сновали пешеходы. «Какое зрелище!» – мелькнуло у него в голове, и он повернул на запад. Погруженный в размышления, прошел он мили три, и только когда совсем стемнело, спохватился, что не позаботился о еде и ночлеге. Добродушный толстяк, сидевший на стуле с плетеным сиденьем у ворот извозного двора, казалось, сулил все необходимые сведения.
– Вы не знаете, где здесь поблизости сдается комната? – спросил Юджин.
Человек, наслаждавшийся вечерним воздухом, внимательно оглядел его. Это был владелец двора.
– Вон там, через улицу, в доме семьсот тридцать два, живет одна пожилая женщина, – сказал он. – У нее как будто есть комната. Может, она пустит вас.
Молодой человек явно внушал ему доверие.
Юджин перешел на ту сторону и позвонил у двери первого этажа. Ему открыла высокая приветливая женщина. В ее облике было что-то материнское. Волосы ее были белы.
– Что вам угодно? – спросила она.
– Джентльмен вот там, у извозного двора, сказал мне, что у вас можно снять комнату.
Женщина ласково улыбнулась. Растерянность юноши, его сияющие от возбуждения глаза, а также одежда и манеры выдавали провинциала.
– Да, войдите, – сказала она. – У меня есть комната. Можете ее посмотреть.
Это была маленькая спальня, совершенно изолированная, окнами на улицу – опрятная, скромная, удобная.
– Она мне нравится, – сказал Юджин.
Женщина снова улыбнулась.
– Платить мне будете два доллара в неделю, – сказала она.
– Хорошо, – сказал Юджин, ставя на пол свой чемодан. – Я беру ее.
– Вы ужинали? – спросила женщина.
– Нет, но я скоро пойду прогуляться, посмотреть город и найду, где поесть.
– А то я накормлю вас, – предложила хозяйка.
Юджин поблагодарил ее, и она опять улыбнулась. Вот что Чикаго делает с провинцией – забирает у нее молодежь.
Юджин открыл ставни, стал на колени и облокотился на подоконник. Он смотрел на улицу, где все казалось ему необыкновенным. Витрины залиты огнями. Люди спешат, – как гулко раздаются их шаги! И куда ни глянешь, – на восток, на запад, – везде то же самое, повсюду большой, огромный, изумительный город. Как хорошо здесь! Теперь он это знает. Ради этого стоило приехать. Как мог он так долго сидеть в Александрии! Он здесь устроится, непременно устроится. Он был глубоко уверен. Он знал это.
Чикаго в то время действительно представлял для новичка целый мир возможностей и надежд. Тут было столько нового, еще не тронутого – все находилось в стадии созидания. Протянувшиеся длинными рядами дома и магазины были по большей части временными постройками – одноэтажными и двухэтажными бараками, но кое-где попадались уже и трехэтажные и четырехэтажные кирпичные здания, возвещавшие лучшее будущее. Торговый центр, расположенный между озером и рекой, – между Северной и Южной сторонами, – таил в себе неограниченные возможности, так как здесь были сосредоточены магазины, обслуживавшие не только Чикаго, но и весь Средний Запад. Тут были внушительные банки, конторы, огромные розничные магазины, отели и постоянно бурлил людской поток, олицетворяющий юность, иллюзии, безыскусственные мечтания миллионов людей. Попав сюда, вы начинали чувствовать, что Чикаго – это неудержимый порыв, это людские надежды, людские желания. Это был город, вливавший жизненные силы в каждую колеблющуюся душу; новичка он заставлял грезить, пожилым внушал, что нет такого тяжелого положения, которое не могло бы измениться к лучшему.
За всем этим скрывалась, конечно, борьба. Юность, надежды и энергия вступали в бешеную гонку. Здесь надо было работать, не отставая, живей поворачиваться, не зевать. Здесь необходимо было обладать инициативой. Город требовал от человека самого лучшего, что было в нем, – иначе он просто от него отворачивался. Как юность в своих смутных исканиях, так и зрелость испытывали это на себе. Здесь не было места лежебокам.
Юджин, едва обосновавшись, понял это. На профессию наборщика он как-то махнул рукой. С этим у него было покончено. Ему хотелось быть художником или чем-то в этом роде, но он понятия не имел, как приступить к делу. Лучше всего устроиться в газету, да вряд ли там принимают начинающих. А ведь он ничего не умеет. Правда, его сестре Миртл очень нравились его наброски, но что она понимает? Если бы он мог где-нибудь подучиться, найти кого-нибудь, кто поучил бы его… А пока придется работать…
Прежде всего он, разумеется, попытал счастья в газетах, в этих великолепных учреждениях, куда тянет всякого, кто хочет проложить себе дорогу. Но Юджина испугали шумные редакции, хмурые заведующие художественными отделами и заносчивые редакторы. Один из этих власть имущих нашел небезынтересными те три-четыре наброска, которые показал ему Юджин, но он был в дурном расположении духа, и – нет, ему никто не нужен. Он так и сказал: «Нет, нам никого не надо». Юджин с горечью подумал, что, очевидно, его и на этом поприще ждет провал.
Вся беда юноши заключалась в том, что его способности еще дремали. Красота жизни, то изумительное, что есть в ней, уже держало его в своей власти, но он еще не в состоянии был передать это в линиях и красках. Он без конца бродил по шумным улицам, подолгу простаивал у витрин и часами глядел на лодки, скользившие по реке, и на сновавшие по озеру суда. Как-то днем, когда Юджин стоял на берегу озера, на горизонте показалась шхуна, плывшая под всеми парусами, – первый корабль, который он увидел в своей жизни. Чуткая душа его встрепенулась. Руки нервно сжались в кулаки, дрожь пробежала по телу. Он сел на парапет и все смотрел и смотрел, пока шхуна не скрылась из виду. Так вот они, великие озера! Каковы же должны быть великие моря – Атлантический, Тихий, Индийский океаны. О море! Когда-нибудь он, быть может, попадет в Нью-Йорк и увидит там море. Но оно и здесь перед ним – в миниатюре, и какое оно изумительное!
Однако человек не может жить праздно, проводя время в мечтаниях на берегу озера, у паромов и витрин, если у него нет средств к существованию, а у Юджина их не было. Покидая отчий дом, он твердо решил добиться самостоятельности. Он хотел иметь заработок, на который можно было бы кое-как жить. Он хотел иметь возможность написать домой, что неплохо устроился. Прибыли его вещи, от матери пришло ласковое письмо и немного денег, однако деньги он отослал обратно – всего лишь десять долларов, но он не так думал начинать новую жизнь. Он считал, что должен жить на собственные средства – во всяком случае он решил попытаться.
Прошло десять дней, капиталы Юджина сильно поубавились, – у него оставался доллар семьдесят пять центов, – надо было браться за любую работу. Нечего было сейчас и думать о месте художника или даже наборщика. Наборщик должен быть членом профессионального союза, а потому приходилось брать, что подвернется, – и он стал ходить из магазина в магазин, предлагая свои услуги. Убогие мастерские, в которых он справлялся о работе, были до того неприглядны, что Юджин внутренне морщился; но он подавил свою брезгливость. Он готов был взяться за какой угодно труд, хотя бы приказчика в булочной, кондитерской или мануфактурном магазине.
Однажды он зашел наугад в большую скобяную лавку. Человек, к которому он обратился, посмотрел на него с любопытством.
– Я могу вам предложить работу по ремонту печей, – сказал он.
Юджин не понял его, но охотно согласился. Ему положили шесть долларов в неделю, – на это все же можно было существовать. Юджина проводили на чердак, находившийся в ведении двух верзил-рабочих, мастеров по сборке, окраске и починке печей. Они сердито объяснили своему новому помощнику, что он должен будет счищать ржавчину со старых печей, а также помогать собирать их, красить и переносить на склад, – в этой лавке ремонтировались для продажи старые печи, которые хозяин скупал у старьевщиков по всему городу. Юджину была отведена низкая скамья у окошка, где ему полагалось чистить ржавые печи, но он часто забывал о работе, глядя вниз, в переулок, где во дворах густо росла зеленая трава. Город был для него полон чудес, он манил его каждой мелочью. Когда мимо проходил тряпичник, выкрикивая: «Тряпки, железо покупаю!» – или торговец овощами зазывал: «Вот помидоры, картошка, молодая кукуруза, зеленый горошек!» – Юджин поднимал голову и прислушивался: эта своеобразная музыка находила в нем живой отклик. В Александрии ничего похожего не услышишь. Все это было так непривычно. И Юджин представлял себе, как он стал бы делать наброски, и мысленно зарисовывал белье, развешанное во дворе на веревках, девушек с корзинками и тому подобное.
Однажды, когда ему казалось, что он усердно трудится (он работал в лавке уже две недели), один из мастеров крикнул ему:
– Эй ты, там, пошевеливайся! Не за то тебе платят, чтобы ты в окно глазел.
Юджин застыл на месте. Он и не заметил, что бездельничает.
– А вам что за дело? – сказал он обиженно и вызывающе. До сих пор он считал, что работает с этими людьми, как равный, и вовсе не подчинен им.
– Я тебе покажу, дерзкий мальчишка! – отозвался мастер постарше, грубый малый, вылитый Билл Сайкс из «Оливера Твиста». – Ты у меня узнаешь, кто твой начальник. Живей, говорю, и не нахальничать!
Эта неожиданная вспышка звериной грубости поразила Юджина. Зверь, за которым он наблюдал на расстоянии, как мог бы наблюдать художник, и который интересовал его как явление, теперь показал себя.
– Убирайтесь вы к дьяволу! – крикнул Юджин, лишь наполовину сознавая, какой опасности он себя подвергает.
– Что такое? – заорал мастер и кинулся на него.
Он оттолкнул Юджина к стене и хотел было пнуть носком своего тяжелого, подбитого гвоздями башмака. Юджин схватил с пола железную ножку от печки. Он был бледен как полотно.
– Лучше не пробуйте! – угрожающе сказал он, крепко зажав в руке железную ножку.
– Брось, Джим, – сказал другой мастер, понимавший всю неуместность такой вспышки. – Не тронь его. Гони его лучше вон, если он тебе не нравится.
– В таком случае проваливай ко всем чертям! – сказал великодушный начальник Юджина.
Все еще держа в руке печную ножку, Юджин подошел к гвоздю, на котором висели его пиджак и шляпа. Боясь, что нападение может повториться, он осторожно прошел мимо противника. Тот склонен был снова дать ему тумака в наказание за упрямство, но воздержался.
– Много понимаешь о себе, щенок. Проснись, сонная харя! – сказал он, когда Юджин направился к выходу.
Юноша тихонько проскользнул за дверь, чувствуя себя униженным и опозоренным. Какая сцена! Его, Юджина Витла, чуть не пнули ногой, чуть не вытолкали пинками вон, – и это на работе, за которую платят шесть долларов в неделю! На секунду острая спазма сдавила ему горло, но постепенно отлегло. Ему хотелось плакать, но он не мог. Он спустился вниз и подошел к конторке – лицо и руки у него были измазаны краской.
– Я ухожу, – сказал он нанявшему его человеку.
– Ладно. А что случилось?
– Эта скотина мастер хотел ударить меня ногой, – объяснил Юджин.
– Да, они довольно наглые ребята, – согласился хозяин. – Я так и думал, что вы с ними не поладите. Тут нужен человек покрепче вашего. Получите.
Он выложил на стол три с половиной доллара. Юджин с удивлением выслушал этот странный ответ. Он должен был поладить с этими людьми! А они не обязаны ладить с ним? Так вот какую жестокость таит в себе большой город!
Юджин вернулся домой, умылся и снова вышел на улицу, так как теперь не время было сидеть без работы. Неделю спустя он нашел место агента в конторе по продаже недвижимого имущества; он должен был узнавать и сообщать номера пустующих домов и наклеивать на окна ярлычок с надписью: «Сдается». Это приносило восемь долларов в неделю и открывало кой-какие перспективы. Юджина это место вполне устраивало, но не прошло и трех месяцев, как контора обанкротилась. Близилась осень, и надо было думать о зимнем костюме и теплом пальто, но Юджин не писал родным о своих злоключениях. Что бы ни было на самом деле, ему хотелось, чтобы они думали, будто он преуспевает.
Остроту и некоторую горечь его впечатлениям придавало зрелище роскоши, подступавшей к нему с разных концов. Его восхищали такие улицы, как Мичиган, Прери и Эшленд-авеню, а также бульвар Вашингтона, – районы, застроенные прекрасными домами, каких Юджин до сих пор никогда не видел. Он был поражен их великолепием, красотой окружающих газонов, зеркальными окнами, блеском выездов и слуг. Впервые в жизни увидел он швейцаров в богатой ливрее, стоящих у дверей. Он видел издали молодых девушек и женщин, казавшихся ему чудом красоты и таких изысканных в своих нарядах, видел молодых людей с горделивой осанкой. Должно быть, это и были представители «общества», о которых постоянно писали в газетах. Юджин еще не умел разбираться в этом. Красивая одежда и изысканная роскошь были для него свидетельством высокого общественного положения. Впервые у него открылись глаза, и он увидел бездонную пропасть между тем, что ждет новичка из провинции, и теми благами, которыми располагает мир, – вернее, теми, что щедро сыплются на немногих, стоящих на самом верху. Все это несколько отрезвило, но и огорчило его. Жизнь была полна несправедливости.
В эти осенние дни, когда листва на деревьях стала бурой и пронизывающий ветер гнал перед собой клубы дыма и тучи пыли, он убедился, что город умеет быть жестоким. Навстречу попадались люди в потрепанной одежде, угрюмые и изможденные, с запавшими глазами, из которых глядело глубокое отчаяние. Очевидно, их довела до этого тяжелая жизнь. Если они просили милостыню, – правда, к Юджину обращались редко, так как вид его отнюдь не говорил о довольстве, – то обычно жаловались на жизненные неудачи. Ведь так легко потерпеть крушение. Можно попросту умереть с голоду, если не глядеть в оба, – город быстро научил этому Юджина.
В эти дни его грызла тоска. Юджин был не очень общителен и к тому же склонен к самоанализу. Он не имел возможности обзавестись друзьями, по крайней мере так он думал, и потому либо одиноко бродил вечерами по улицам, наблюдая жизнь большого города, либо сидел дома в своей комнатушке. Миссис Вудраф, его квартирная хозяйка, была добра и достаточно заботлива, но уже не молода, – не о таком обществе мечтал Юджин. Он думал о девушках и о том, как грустно, что нет ни одной, с кем можно было бы перемолвиться словом. Стеллы нет – с этой мечтой покончено. Когда-то он встретит другую, похожую на нее?
В конце месяца, в течение которого он вынужден был истратить часть денег, присланных матерью для покупки в рассрочку костюма, Юджин, наконец, устроился возчиком в прачечную, и эта работа, за которую платили десять долларов в неделю, представлялась ему очень хорошей. Время от времени, когда он чувствовал себя не слишком усталым, он брался за карандаш и делал наброски, но все они казались ему бездарными. А потому он продолжал работать в прачечной и развозить белье, тогда как ему следовало бы искать места в какой-нибудь редакции или учиться живописи.
В ту зиму Миртл написала ему, что Стелла Эплтон уехала в Канзас, куда перебрался ее отец, что мать хворает и просит Юджина хоть на неделю приехать домой. Незадолго перед этим Юджин познакомился с одной девушкой-шотландкой, по имени Маргарет Дафф, работавшей в той же прачечной; он быстро сошелся с ней, и эта связь положила начало его отношениям с женщинами. До этого он не знал женщин и с тем большей горячностью отдался теперь переживаниям, которые пробудили в его характере новую черту, если не порочную, то во всяком случае разрушительную и дезорганизующую. Он любил женщин, любил красивые линии их тела, их внешнее очарование, а впоследствии должен был полюбить и душевную красоту (он и сейчас ее любил, только смутно, бессознательно), но его идеал женщины еще не был ему ясен. Маргарет Дафф была непосредственна, добра и обладала некоторой грацией и миловидностью. Вот, пожалуй, и все. Но, найдя для себя благоприятную почву, чувственность Юджина стала быстро расти и за несколько недель почти целиком завладела им. Он дня не мог прожить без этой девушки, а она охотно шла ему навстречу, лишь бы их связь не слишком бросалась в глаза. Маргарет слегка побаивалась родителей, но они, люди рабочие, рано ложились и спали крепко. Они, по-видимому, ничего не имели против ее встреч с молодыми людьми. Юджин был у нее не первый.
В продолжение трех месяцев страсть их была безудержна. Юджин проявлял жадность, ненасытность, а девушка, хоть и более холодная, рада была угодить возлюбленному. Ей льстил его пыл, жаркое пламя, которое она в нем зажгла; вскоре, однако, она почувствовала утомление. Затем стала сказываться разница натур, противоположность вкусов, взглядов, стремлений. Юджину в сущности не о чем было говорить с Маргарет, он не мог найти в ней отклика на свои более тонкие переживания. Она же не встречала в нем интереса к тем пустякам, которые ее занимали, – к остротам, услышанным с эстрады, к забавным замечаниям знакомых молодых людей и девушек. Маргарет умела одеться, но во всем, что касалось искусства, литературы, социальных проблем, была совершеннейшей невеждой, тогда как Юджин, при всей своей молодости, горячо отзывался на все, что происходило в мире. Ему были близки имена великих людей – Карлейля, Эмерсона, Торо, Уитмена, – дороги отзвуки их великой славы. Он читал о гениальных философах, художниках, композиторах, которые метеорами пронеслись по небу западного мира, и размышлял. Его волновало смутное предчувствие, что и он призван совершить нечто великое, и в своем юношеском энтузиазме он уже наполовину верил, что это будет очень скоро. Он знал, что девушка, с которой он сошелся, не удержит его надолго. Она увлекла его, но, увлеченный, он оставался господином, критиком и судьей. У него не раз мелькала мысль, что она ему не нужна, что он может найти кого-нибудь получше.
Естественно, что такие мысли неизбежно должны были убить страсть, как пресыщение неизбежно должно было породить такие мысли. Маргарет постепенно охладевала к Юджину. Ее злило его высокомерие, его порой надменный тон. Они ссорились из-за пустяков. Как-то вечером он с обычной заносчивостью заметил, что ей следовало бы сделать то-то и то-то.
– Брось, пожалуйста, командовать, – сказала она. – Ты всегда со мной разговариваешь, будто я твоя собственность!
– Так оно и есть, – сказал он шутя.
– Ты так думаешь! – вспыхнула она. – Найдутся и другие.
– Ну и отправляйся к ним, когда тебе будет угодно. Я не возражаю.
Его тон задел ее за живое, хотя Юджин сказал это больше в шутку, чем всерьез, и в действительности ничего такого обидного не имел в виду.
– Мне сейчас угодно! Незачем ходить ко мне, раз ты этого не хочешь. Обойдусь и без тебя.
Она вызывающе вскинула голову.
– Не дури, Маргарет, – сказал он, поняв, какое вызвал озлобление. – Ты вовсе этого не думаешь.
– Не думаю? А вот посмотрим!
Она отошла в противоположный угол. Он последовал за нею, но ее гнев снова пробудил в нем раздражение.
– Впрочем, как хочешь, – сказал он, постояв в нерешительности. – Я пойду, пожалуй.
Она ничего не ответила, ни о чем не просила, ничего не предлагала. Юджин пошел за шляпой и пальто.
– Хочешь поцеловать меня на прощание? – спросил он вернувшись.
– Нет, – холодно ответила она.
– Покойной ночи, – сказал он.
– Покойной ночи, – равнодушно отозвалась она.
Они так и не помирились окончательно, хотя отношения их и продолжались еще некоторое время.
Глава V
Связь с этой девушкой возбудила в Юджине почти неудержимый интерес к женщинам. Большинство мужчин втайне гордятся своими любовными успехами, и всякое доказательство умения покорить женщину, увлечь и удержать ее рождает в них уверенность и смелость, которой порой не хватает тем, кто не избалован подобными победами.
Для Юджина это была первая победа такого рода, и она доставила ему огромное удовлетворение. Он чувствовал больше уверенности в себе и совсем не испытывал стыда. Что знали, размышлял он, глупые мальчики в Александрии о той жизни, какую он ведет здесь? Он, Юджин, живет в Чикаго. Это совершенно иной мир. Он стал мужчиной, человеком независимым, с установившейся индивидуальностью, представляющей интерес для других. Маргарет Дафф говорила ему много лестного о его особе. Она восхищалась его внешностью, манерами, его вкусом. Он испытал, что значит обладать женщиной. Все это вскружило голову Юджину, и даже то, что ему так бесцеремонно была дана отставка, не произвело на него никакого впечатления, – ведь он был готов ее принять. Теперь он стал тяготиться своей работой, так как десять долларов в неделю не могли удовлетворить уважающего себя молодого человека, особенно если он задался целью при первой же возможности вступить в новую связь, вроде только что оборвавшейся. Юджин решил искать место получше.
И вот однажды женщина, которой он доставлял белье на Уоррен-авеню, остановила его вопросом:
– Сколько вы, возчики, получаете в неделю?
– Я получаю десять долларов, – сказал Юджин. – Но некоторые, возможно, зарабатывают больше.
– Из вас вышел бы хороший инкассатор, – предложила она. Это была рослая женщина, с виду простая, но проницательная и прямая. – Хотели бы вы перейти на такую работу?
Юджину давно опротивело развозить белье. Рабочий день был убийственно длинный. В субботу, например, он кончал в час ночи.
– Еще бы не хотеть! – воскликнул он. – Я не знаю, что это за должность, но в моей теперешней веселого мало.
– Мой муж служит управляющим в компании «Дешевая мебель», – продолжала женщина. – Там нужны хорошие инкассаторы. Сейчас у них, кажется, есть вакантное место. Хотите, я поговорю с ним?
Юджин обрадовался и поблагодарил ее. Вот уж действительно как с неба свалилось! Ему очень хотелось узнать, сколько получает такой инкассатор, но он решил, что спрашивать неудобно. Однако женщина, по-видимому, угадала его мысли.
– Если он вас возьмет, вы будете, вероятно, получать для начала долларов четырнадцать, – сказала она.
Юджин был в восторге. Вот это действительно шаг вперед! На четыре доллара больше! При таком жалованье он мог бы одеться и иметь свободные деньги. Он мог бы учиться живописи. Его мечты росли и множились. Да, можно пробить себе дорогу, стоит только захотеть. Добросовестность, с какою он обслуживал клиентов прачечной, получила должную награду. А дальнейшие труды на новом поприще принесут ему, возможно, и больший успех. Ведь он еще так молод.
К тому времени он уже проработал в прачечной полгода. И вот полтора месяца спустя на его имя пришло письмо от мистера Генри Митчли, управляющего компанией «Дешевая мебель», с просьбой зайти к нему на дом в любой вечер после восьми. «Мне порекомендовала вас моя жена», – сообщал он в заключение.
Юджин отправился по адресу в тот же день, и там его встретил и внимательно оглядел худощавый, подвижный, обходительный до слащавости человек лет сорока, который задал ему множество вопросов относительно его родителей, работы, получаемого жалованья и так далее. Наконец он сказал:
– Мне нужен дельный молодой человек. Для солидного, честного и трудолюбивого работника у нас очень хорошее место. Моя жена хвалит вас, и я готов вас испробовать. Я могу предложить вам должность на четырнадцать долларов. Зайдите ко мне в следующий понедельник.
Юджин поблагодарил его. По совету мистера Митчли, он решил за неделю предупредить управляющего прачечной о своем уходе. Он рассказал Маргарет о своих планах, и она, по-видимому, была рада за него. Управляющий расстался с ним не без сожаления, так как Юджин работал добросовестно. За неделю он помог ввести в дело нового человека, взятого на его место, и в понедельник явился к мистеру Митчли.
Последний радушно встретил Юджина, так как угадывал в нем энергичного и способного работника. Он объяснил ему несложные обязанности инкассатора, которые заключались в том, чтобы взыскивать с клиентов текущие взносы за проданные им в рассрочку товары – часы, серебро, ковры и прочее, что составляло в среднем от семидесяти пяти до ста двадцати пяти долларов в день.
– В таком деле, как наше, у служащих обычно берут залог, – пояснил мистер Митчли, – но мы обходимся без этих новшеств. Мне кажется, я всегда отличу честного человека. К тому же у нас существует контроль. И если у человека дурные наклонности, с нами он не больно разживется.
Юджин никогда особенно не задумывался над тем, что значит быть честным. Дома ему не отказывали в небольших карманных деньгах, а служа в газете, он достаточно зарабатывал на свои нужды. С другой стороны, в его кругу быть честным считалось чем-то обязательным, само собой разумеющимся. Кто не был честен, попадал в тюрьму. Он отлично помнил один прискорбный случай в Александрии, когда его знакомого арестовали за то, что он забрался ночью в какой-то магазин. На Юджина это происшествие произвело огромное впечатление. Впоследствии он немало думал об этих вопросах, но так ни до чего и не додумался. Он знал, что от него могут в любую минуту потребовать отчета в сумме, предоставленной в его распоряжение, и был готов к этому. Его заработка, считал он, должно хватать на жизнь, тем более что ему не нужно никого содержать. Он, в сущности, легко скользил по поверхности жизни, и честность его оставалась неиспытанной.
Юджин взял приготовленные для него счета и стал добросовестно обходить дом за домом. Одни клиенты платили с готовностью, и он выдавал им расписки, другие просили об отсрочке или совсем отказывались платить, ссылаясь на какие-то недоразумения с компанией. Нередко выяснялось, что люди, которых он разыскивал, съехали, не оставив адреса и захватив с собой неоплаченные вещи. В таких случаях он был обязан, как объяснил ему мистер Митчли, расспросить о них соседей.
Юджин сразу понял, что эта служба по нем. Пребывание на свежем воздухе, всегда в движении, сравнительная простота обязанностей – все нравилось ему. Эти обязанности заводили его в незнакомые части города и сталкивали с незнакомыми дотоле типами и характерами. Если работа возчика – необходимость ездить от дома к дому – действовала на него освежающе, то и новая его служба была в таком же роде. Он наблюдал сценки, которые могли в будущем послужить ему прекрасным материалом для картин. Темные массивы фабрик, высящиеся в светлом небе; широкое железнодорожное полотно, скрещивающиеся, переплетающиеся пути под дождем, под снегом, на ярком солнце; гигантские черные трубы, устремленные навстречу утренним или вечерним облакам. Особенно нравились ему эти трубы под вечер, когда они рельефно выделялись на фоне красного или тускло-фиолетового заката. «Изумительно!» – восклицал он про себя и думал о том, как будет поклоняться мир ему, Юджину, если он когда-нибудь создаст такие же великие произведения, как Гюстав Доре. Он восхищался грандиозным воображением этого мастера. Юджин никогда не представлял себя пишущим маслом, акварелью или мелом, – только тушью, и притом большими, грубыми пятнами черного и белого. Вот как нужно писать. Вот чем достигается сила впечатления.
Но он еще не мог создавать образы. Он мог только мыслить ими.
Больше всего восхищала его река Чикаго, ее черная, невероятно грязная вода, которую тяжело вспенивали пыхтящие буксиры, ее берега, где выстроились огромные красные элеваторы, черные желоба для погрузки угля и отливающие яркой желтизной склады лесных материалов. Вот где были настоящие краски, настоящая жизнь – вот что следовало писать. И другой пейзаж: приземистые, исхлестанные дождем сиротливые коттеджи, их серые унылые ряды на фоне голой прерии и одинокое корявое деревце где-нибудь сбоку. Он брал первый попавшийся конверт и силился запечатлеть главное, – передать ощущение, как он выражался, – но у него ничего не выходило. Все, что он рисовал, казалось ему жалким и шаблонным, – одни ничего не говорящие линии и безжизненные, тяжеловесные массы. Как достигали великие художники естественности и простоты рисунка? – спрашивал себя Юджин.
Глава VI
Юджин добросовестно работал – собирал взносы по счетам, сдавал собранные деньги – и уже успел кое-что скопить для себя. Маргарет была для него теперь далеким прошлым. Квартирная хозяйка Юджина, миссис Вудраф, уехала к дочери в Сидейлию, штат Миссури, и он перебрался в другой дом, поприличнее, на Двадцать первой улице, в восточной части города. Перед домом на лужайке в пятьдесят квадратных футов росло дерево, это-то и привлекло Юджина. Его новая комната, как и первая, стоила недорого, и он жил в семье. Он договорился платить двадцать центов за каждый завтрак, обед или ужин, который будет получать от хозяев, и, таким образом, расходовал на питание всего пять долларов в неделю. Из остальных девяти он тратил какие-то суммы на одежду, проезд и развлечения – на последние почти ничего. Как только у него появились кое-какие сбережения, он стал подумывать о том, чтобы наведаться в Институт искусств, который представлялся ему дорогой к успеху, и узнать условия поступления на вечерние курсы по рисунку. Юджин слышал, что плата там умеренная, всего пятнадцать долларов в семестр, и решил туда зачислиться, если к поступающим не предъявляют слишком строгих требований. Он постепенно приходил к убеждению, что рожден быть художником и рано или поздно им будет.
Старое здание Института искусств на углу Мичиган-авеню и Монро-стрит, еще до переезда Института в нынешнее внушительное помещение, являло образец изящества, которого так не хватает большинству общественных зданий того времени. Большое, шестиэтажное, из бурого песчаника, оно, помимо залов для выставок и классов, вмещало ряд рабочих студий отдельных художников, скульпторов и преподавателей музыки. Курсы были утренние и вечерние, и они уже в то время привлекали немало учащихся. Красота, таящаяся в искусстве, до некоторой степени расшевелила западного американца. Так мало красоты было в жизни этого народа, а между тем какой славы достигли те, кто сумел проявить себя на этом поприще и жил в этой изысканной атмосфере. Уехать в Париж! Поучиться там в какой-нибудь прославленной мастерской! Или в Мюнхен, Рим! Познакомиться с художественными сокровищами Европы, с жизнью артистических кварталов – одно это чего стоило! В груди многих неискушенных юношей и девушек горело поистине непреодолимое желание вырваться из болота будничной жизни, воспринять вкусы и нравы, присущие – как тогда считали – служителям искусства, усвоить их отчасти изысканные, отчасти небрежные манеры; поселиться в студии, пользоваться известной свободой, недоступной для простых смертных, – вот что надо делать, к чему стремиться. Разумеется, некоторая роль во всем этом отводилась и самому искусству. Предполагалось, что когда-нибудь вы обогатите мир замечательными полотнами и великолепными статуями, а пока вам можно и должно жить жизнью художника. Какая прекрасная, привольная жизнь!
Юджину давно уже грезилось нечто подобное. Он знал, что в Чикаго немало известных мастерских, что есть художники, создающие, судя по отзывам газет, превосходные произведения. В печати то тут, то там попадались сообщения о выставках, по большей части бесплатных, ибо публику и так было довольно трудно туда залучить. Однажды Юджин прочел о выставке картин Верещагина, прославленного русского баталиста, какими-то судьбами оказавшегося в западном полушарии. В одно из воскресений Юджин отправился посмотреть его картины и был потрясен великолепной передачей деталей боя, изумительными красками, правдивостью образов, ощущением трагизма, мощи, опасности, ужаса и страданий, которое исходило от этих полотен. Они свидетельствовали о зрелости и глубине таланта русского художника, об исключительном богатстве его воображения и темперамента. Юджин смотрел и думал о том, как достигнуть такого совершенства. И в течение всей дальнейшей жизни имя Верещагина было для него величайшим стимулом. Если быть художником, то только таким.
В другой раз Юджин увидел картину, которая затронула в нем иные струны, хотя природа впечатления и на этот раз была художественной. Это была картина французского художника Бугро – крупное, теплое по колориту нагое женское тело. Совсем недавно этот художник произвел сенсацию своими смелыми изображениями обнаженной натуры. Излюбленными образами Бугро были не жеманные, миниатюрные, хрупкие существа, лишенные силы и страсти, а прекрасные, полнокровные женщины, со сладострастными линиями шеи, рук, груди, бедер и ног, женщины, созданные для того, чтобы зажечь лихорадочный огонь в крови молодого мужчины. Художник, несомненно, понимал и знал страсть, любил форму, чувственность, красоту. За его прекрасными образами угадывалось брачное ложе, материнство и пухлые, цветущие младенцы, радостно прижимаемые к груди. Его женщины вставали во всей своей красе и притягательной силе: с полуоткрытыми сочными губами, с румянцем страсти на щеках, с манящим желанием в глазах. Нечего и говорить, что консерваторы и пуритане, люди религиозного и строгого воспитания, предавали такие картины анафеме. Уже одного того, что это полотно было привезено в Чикаго для продажи, оказалось достаточно, чтобы вызвать бурю возмущения. Нельзя рисовать такие вещи, кричали газеты, во всяком случае незачем показывать их публике. Многие хотели видеть в Бугро одного из тех, кто сеет соблазн и пытается своим талантом внести разложение в общественные нравы. Поднялся вопль, что картину надо убрать, и, как всегда бывает при взрывах общественного протеста, она вызвала в публике огромный интерес.
Юджин тоже заинтересовался дискуссией. Он не только не видел раньше полотен Бугро, он вообще никогда не видел ни одной настоящей картины, изображающей обнаженное тело. Освобождаясь обычно в три часа, он успевал посещать выставки, тем более что его теперешняя работа позволяла ему всегда носить хороший костюм. Юджин выглядел серьезным, солидным молодым человеком, и его просьба показать что-либо в художественном салоне не должна была вызвать недоумения. По внешнему виду он вполне мог принадлежать к интеллигенции или к племени художников.
Не будучи уверен в том, какой прием будет оказан столь молодому человеку (ему еще не исполнилось и двадцати лет), Юджин тем не менее рискнул зайти в магазин, где был выставлен Бугро, и попросил показать ему картину. Служитель с любопытством оглядел его, но все же проводил в глубь магазина, в комнату с темно-красными портьерами, включил электрическую люстру в нише, затянутой красным бархатом, и отдернул занавес, скрывавший картину. Юджин никогда не видел такого тела, такого лица. Это была красота, которая является только в мечтах, – его идеал, воплощенный в жизнь. Он смотрел, не отрываясь, на это лицо и шею, на пышный узел чувственных каштановых волос, на губы, раскрытые, словно лепестки, на нежные щеки. С изумлением разглядывал он мягко намеченные груди и живот – это обещание материнства, которое так воспламеняет мужчин. Он мог бы часами стоять, созерцая и наслаждаясь, но служитель, оставивший его одного на несколько минут, вернулся.
– Сколько она стоит? – спросил Юджин.
– Десять тысяч долларов, – последовал ответ.
Юджин понимающе усмехнулся.
– Да, вещь замечательная, – сказал он и направился к выходу. Служитель выключил свет.
Эта картина, как и полотна Верещагина, оставила глубокий след в душе Юджина. Но, как ни странно, у него не было желания создать что-либо в этом роде. Он лишь испытывал радостное волнение, разглядывая ее. Эта картина воплотила его идеал женщины – идеал красоты, и он всем существом жаждал найти подобное создание, которое отнеслось бы к нему благосклонно.
Были и другие выставки (на одной он, между прочим, увидел подлинного Рембрандта), которые произвели на него немалое впечатление, но ни один художник не взволновал его так глубоко, как Верещагин и Бугро. Юджина все неудержимее влекло к искусству; ему хотелось побольше узнать и самому испытать свои силы. Однажды, набравшись смелости, он зашел в Институт искусств и навел справки у секретарши. Это была женщина с весьма практическим складом ума. Она сообщила ему, что занятия продолжаются с октября по май, что он может записаться в класс живой натуры, или гипсов, или в тот и другой – хотя гипсы для начала целесообразнее, – или в класс иллюстрации, где натурщиков и натурщиц пишут в костюмах различных эпох, а также сказала, сколько ему придется платить за это. Он узнал, что в каждом классе свой преподаватель (человек с именем и весом), – но Юджину пока нет надобности обращаться к кому-либо из них, – а также свой староста. От учащегося требуется добросовестная работа – ради его же собственного блага. Юджин не видел самые классы, но вынес впечатление, что здесь каждый уголок насыщен искусством; даже коридоры и служебные комнаты были изящно отделаны, и всюду висели гипсовые слепки – руки, ноги, торсы, бедра и головы.
Юджину казалось, что он постоял у открытой двери и заглянул в новый мир. Он с радостью узнал, что ему предоставляется возможность учиться рисовать пером или кистью в классе иллюстрации, а также, если он пожелает, заниматься вечерами по классу живой натуры и посещать, без особой доплаты, от пяти до шести класс эскиза. Он несколько удивился, узнав из врученного ему печатного проспекта, что в классе живой натуры пишут с обнаженных моделей – мужчин и женщин. Он и впрямь был на пути в новый мир. Этот мир казался ему естественным и необходимым, но вместе с тем от него веяло чем-то неприступным, наводившим на мысль о священном храме, куда доступ открыт лишь избранным и одаренным. Одарен ли он? Погодите! Он еще покажет себя, хоть он и неотесанный провинциал!
Юджин решил записаться, во-первых, в класс живой натуры, где занятия происходили по понедельникам, средам и пятницам от семи до десяти, и, во-вторых, в класс эскиза, который работал ежедневно с пяти до шести. Он понимал, что знает очень мало – вернее, ничего не знает – о строении и анатомии человеческого тела и что ему лучше всего поработать над этим. Костюм и иллюстрация подождут, а что касается пейзажей, тех самых видов города, которые его особенно увлекали, то с этим надо повременить, пока он не постигнет основного.
До сих пор Юджин никогда не пытался рисовать лицо или человеческую фигуру – разве только очень мелким планом, как деталь более крупной композиции. Теперь ему предстояло делать углем наброски головы или тела с живой натуры, и это его пугало. Он знал, что придется работать в одном классе с пятнадцатью – двадцатью другими студентами, которые увидят его работы и будут критиковать их. Дважды в неделю их будет просматривать преподаватель. Как он узнал из проспекта, тот, кто в течение месяца обнаружил наибольшие успехи, получает право выбирать себе лучшее место всякий раз, когда группа приступает к новой работе. Преподаватели представлялись Юджину людьми хорошо известными среди американских художников – все это были «Н. А.», «национальные академики». Он и не подозревал, с каким презрением относились к этому званию в некоторых кругах.
Однажды вечером, в один из октябрьских понедельников, запасшись несколькими листками бумаги, которую он приобрел, следуя указаниям все того же всеведущего проспекта, Юджин приступил к занятиям. Он слегка нервничал, оглядывая ярко освещенные коридоры и классы, и вид проходивших мимо молодых людей и девушек отнюдь не способствовал его успокоению. Ему сразу бросились в глаза их веселость и непринужденные манеры. Студенты производили впечатление интересных, мужественных и в большинстве красивых мужчин, а студентки – изящных, бойких и уверенных в себе молодых особ. Одна или две из них, как мысленно отметил Юджин, выделялись какой-то своеобразной, непонятной ему красотой. О, это был прекрасный мир.
Классные комнаты поразили его не меньше. Они так давно служили своему назначению, что все стены их были измазаны краской, соскобленной с палитр. Не было даже мольбертов, одни только стулья и маленькие скамеечки; стульями, как узнал Юджин, студенты пользовались вместо мольбертов, перевернув их ножками кверху, скамеечки заменяли им стулья. Посередине класса были устроены подмостки высотой с обыкновенный стол, где позировали натурщицы или натурщики, а в одном углу комнаты стояла ширма, за которой они одевались. Ни картин, ни статуй – голые стены, и у одной из них почему-то рояль. В коридорах и в общем зале висели изображения нагого тела или его частей во всевозможных положениях, и для Юджина, при его непосредственности и молодости, это служило немалым соблазном. Он посматривал на них с тайным удовольствием, но понимал, что никому не должен признаваться в таких мыслях. Люди искусства, говорил он себе, должны казаться равнодушными к подобным искушениям, они должны быть выше таких чувств. Ведь они приходят сюда работать, а не мечтать о женщинах.
Когда настал час, назначенный для занятий, студенты засуетились и забегали, некоторые стали совещаться между собой, и вскоре мужчины заняли один ряд комнат, а женщины – другой. В своем классе Юджин увидел молоденькую девушку, которая сидела у самой ширмы и со скучающим видом смотрела по сторонам. Черноволосая и черноглазая, она была хороша собой; ее лицо выдавало ирландское происхождение. На ней была шапочка, напоминавшая национальный головной убор польских женщин, и красный плащ. Юджин подумал, что это натурщица, и втайне спрашивал себя, неужели он и в самом деле увидит ее нагой. Спустя несколько минут, когда все расселись, по рядам прошло легкое движение, и в класс неторопливо вошел высокий мужчина лет тридцати шести, весьма живописной внешности. Он гуляющей походкой прошел через всю комнату и потребовал внимания. На нем был поношенный серый шерстяной костюм и небрежно сдвинутая набекрень коричневая шляпа с небольшими полями, которую он не нашел нужным снять. Под пиджаком виднелась голубая в полоску рубашка с отложным воротником и без галстука – все вместе придавало ему чрезвычайно самодовольный вид. Это был высокий, стройный мужчина, с длинным, узким лицом, твердо очерченной линией большого рта, крупными руками и ногами; ходил он вперевалку, как моряк. Юджин догадался, что это и есть «м-р Темпл Бойл, Н. А.», их преподаватель, и ожидал, что сейчас будет произнесено нечто вроде вступительной речи. Но тот лишь заявил, что старшим по классу назначен мистер Уильям Рэй, и выразил надежду, что не услышит жалоб на беспорядок и напрасную трату времени. По средам и пятницам он будет регулярно просматривать работы и надеется, что все студенты постараются заниматься успешно. Затем он предложил классу приступить к делу и так же неторопливо удалился.
Юджин узнал от одного из студентов, что это действительно был мистер Бойл. Молодая ирландка прошла за ширму, и Юджин со своего места увидел, что она раздевается. Это смутило его, но он взял себя в руки, чтобы не опозориться в присутствии стольких студентов. Он перевернул стул ножками кверху, как это сделали другие, и сел на скамеечку. Уголь в маленькой коробочке лежал рядом. Он разгладил бумагу, натянутую на доску, и нетерпеливо ждал, сохраняя внешнее спокойствие. Некоторые студенты переговаривались между собой. Наконец натурщица сбросила с себя тонкую, прозрачную сорочку, и в следующее мгновение показалась из-за ширмы нагая и совершенно спокойная. Поднявшись на помост, она стала в позу лицом к студентам, опустив руки вдоль бедер и запрокинув голову. У Юджина зазвенело в ушах, краска залила лицо, сначала он даже боялся посмотреть на девушку. Потом, взяв уголь, он начал наносить на бумагу какие-то робкие штрихи, пытаясь хотя бы отчасти передать ее позу и черты лица. Все происходившее казалось ему необыкновенным – и то, что он в этой комнате, и то, что перед ним натурщица, – словом, что он учится живописи. Так вот каков этот мир, столь не похожий на тот, который он знал до сих пор. И он вступил в него, так как нашел свое призвание.
Глава VII
Только окончательно решив поступить в Институт искусств, Юджин впервые навестил свою семью. Несмотря на то, что его родной дом находился в каких-нибудь ста милях от Чикаго, у него никогда не возникало желания поехать туда, даже на рождественские праздники. Но теперь у него есть что сказать родным – он будет художником. А что до его службы, тут все обстояло как нельзя лучше. Мистер Митчли был им, по-видимому, доволен. Юджин ежедневно сдавал ему деньги и неоплаченные счета. Тот проверял наличность, а на неоплаченных счетах делал пометку «Ко взысканию». Случались у Юджина и просчеты: денег оказывалось то слишком много, то слишком мало. Но так как излишками покрывались недостающие суммы, то в конечном итоге счет выравнивался. В денежных вопросах Юджин не был способен к обману. Ему многое хотелось бы приобрести, но он готов был терпеливо ждать, пока это достанется ему честным путем. Именно эта черта в его характере и нравилась мистеру Митчли. Он стал подумывать, что из Юджина, пожалуй, выйдет толк.
Юджин выехал из Чикаго в пятницу вечером, перед Днем труда – праздником, который, как известно, приходится на первый понедельник сентября и который неукоснительно отмечался в городе всеми. Он сообщил мистеру Митчли о своем желании выехать в субботу после рабочего дня, чтобы провести дома воскресенье и понедельник, но тот предложил ему сделать за четверг и пятницу все, что у него намечено на субботу, и выехать в пятницу вечером.
– Тем более что в субботу мы работаем только полдня, – добавил он. – Таким образом, вы и с делами справитесь и дома пробудете не два, а три дня.
Юджин поблагодарил мистера Митчли и последовал его совету. Он уложил в чемодан все лучшее, что у него было из одежды, и сел в поезд, думая о том, что его ждет дома. Многое изменилось за это время! Стелла уехала. Его юношеская наивность и неопытность отошли в прошлое. Теперь он едет домой как человек бывалый, с кое-какими перспективами на будущее. Он и не догадывался, каким мальчиком он еще выглядел, как мало еще знал жизнь и как далеко было ему до того трезвого благоразумия, которое так высоко ценит мир.
На вокзале в Александрии Юджина встретили отец, Миртл и Сильвия со своим двухлетним сынишкой. Они приехали в семейной коляске, в которой было место и для него. Юджин ласково поздоровался со всеми и с подобающей скромностью принял их восторженные похвалы своей внешности.
– Здорово ты вырос! – воскликнул отец. – Оказывается, Юджин, ты будешь высоким мужчиной. Я уже боялся, что ты перестал расти.
– А мне и не заметно, что я сколько-нибудь вырос, – сказал Юджин.
– Нет, правда, – вставила Миртл. – Ты стал гораздо выше, Джин. И потому кажешься похудевшим. Ну как ты, поздоровел, окреп?
– Еще бы мне не окрепнуть, – смеясь, ответил Юджин, – когда я за день делаю миль пятнадцать – двадцать и все время на свежем воздухе!
Сильвия справилась насчет его желудка. В общем, все то же самое, ответил Юджин. То как будто лучше, то опять хуже. Один врач посоветовал ему выпивать утром стакан горячей воды, но он никак себя не заставит. Противно глотать эту гадость.
Так, за разговорами и расспросами, они и не заметили, как доехали до дому, где миссис Витла ждала их на крыльце. Завидев ее в поздних сумерках, Юджин соскочил на ходу и бросился к ней.
– Мамочка! – воскликнул он. – Не ждала меня так скоро, правда?
– Скоро, говоришь?.. – только и вымолвила она и припала к его груди. Несколько секунд она не выпускала его из объятий, а потом сказала: – Ты стал совсем взрослым, Юджин!
Юджин прошел в гостиную и огляделся. Все здесь было по-прежнему. Те же книги, тот же стол и стулья, та же лампа, спускающаяся на блоке с потолка. Ничего нового не прибавилось ни в другой, парадной, гостиной, ни в спальных комнатах, ни в кухне. Мать немного постарела, отец – нисколько. Сильвия заметно изменилась. Ее круглое личико слегка осунулось и заострилось. «Печать материнства», – подумал Юджин. Лицо Миртл светилось спокойствием и счастьем. У нее был теперь жених, некий Фрэнк Бэнгс, управляющий местной мебельной фабрикой. Он был совсем еще молод и недурен собой. В семье считали, что со временем он будет состоятельным человеком. Старый Билл – одна из двух рабочих лошадей – был продан. Не было в живых Бродяги – одной из овчарок, и кот Джек погиб где-то во время ночных прогулок.
Юджин стоял в кухне и наблюдал за матерью, которая жарила для него увесистый бифштекс и готовила в честь его приезда бисквит со сладкой подливкой, и у него было такое ощущение, словно этот мир стал ему чужим. Он был еще теснее и меньше, чем ему представлялось. Да и самый город, когда он проезжал по улицам, показался ему меньше, меньше стали и дома. Конечно, здесь было хорошо. Но эти уютные, тихие дворики чересчур уж напоминали деревню. А отец, со своей торговлей швейными машинами, – до чего же он ограничен. Типичный провинциал. Как это дико, вдруг подумал Юджин, что у них в доме никогда не было рояля. А ведь Миртл любит музыку. И сам он тоже обнаружил в себе страстную любовь к музыке. В Центральном музыкальном зале в Чикаго по вторникам и пятницам давались органные концерты, и он иногда успевал попасть на них после работы. Кроме того, выступления некоторых видных проповедников, – людей, известных своими либеральными взглядами, как, например, профессор Суинг, преподобный Г. У. Томас, преподобный Гансолус, профессор Солтас, – всегда сопровождались прекрасной музыкой. Все это Юджин открыл для себя в своем стремлении узнать жизнь и бежать от одиночества. И теперь он понимал, что старый мир, в котором он жил когда-то, был просто глухим, захолустным городишкой. Никогда он не вернется к такой жизни.
На другой день, отлично выспавшись в своей прежней спальне, Юджин пошел в «Морнинг Эппил» повидаться с мистером Калебом Уильямсом и мистером Берджесом, с Джонасом Лайлом и Джоном Саммерсом. На площади возле суда он повстречал Эда Митчела и Джорджа Тэпса, а потом Билла Грониджера и еще четырех или пятерых товарищей по школе. От них он узнал все новости. Джордж Андерсон женился на здешней девушке и теперь живет в Чикаго – работает там на бойнях. Эд Уотербери уехал в Сан-Франциско. Хорошенькая дочка мистера Сэмпсона, Бесси Сэмпсон, когда-то так дружившая с Тэдом Мартинвудом, сбежала с приезжим из Андерсона, что в штате Индиана. Об этом в свое время было много разговоров.
Юджин слушал. Но каким все это казалось ему ничтожным по сравнению с той новой средой, в которую он попал. Ни один из этих молодых людей и не догадывался, какие виды на будущее рисовались ему, Юджину. В Париж! Ни в коем случае не меньше! И в Нью-Йорк! Хотя он не мог бы сказать, какой дальней дорогой туда доберется. А Билл Грониджер устроился на службу в багажное отделение одного из местных вокзалов и рад. Бог ты мой!
В редакции «Морнинг Эппил» все было по-старому. Юджин после двух лет думал найти здесь большие перемены, а между тем изменился он сам. Это он попал в круговорот всяких ломок и превращений. Он чистил ржавые печи, он был помощником агента по продаже недвижимого имущества, возчиком, инкассатором. Он узнал Маргарет Дафф, и мистера Редвуда, заведующего прачечной, и мистера Митчли. Большой город озарил его своим светом – Верещагин, Бугро, Институт искусств. Он шел вперед семимильными шагами, а этот городок тоже двигался, но так же, как раньше, понемножку, не торопясь.
Калеб Уильямс, как и встарь, носился по комнате веселый, разговорчивый, исполненный участия.
– Рад тебя видеть, Юджин, – заявил он, уставившись на него своим единственным, слезящимся глазом. – Рад, что ты делаешь успехи. Это хорошо. Со временем будешь художником, а? Что ж, я лично считаю, что ты для того и создан. Я не всякому молодому человеку посоветовал бы ехать в Чикаго, но ты будешь там как раз на месте. Если б у меня не было жены и троих детей, ни за что бы оттуда не уехал. Но когда у человека семья… – Он сделал выразительную паузу и покачал головой. – О-хо-хо! По одежке протягивай ножки.
И ушел искать запропастившуюся куда-то заметку.
Джонас Лайл был все так же осанист, флегматичен и философски настроен. Он приветствовал Юджина серьезным, испытующим взглядом.
– Ну-с, как дела?
Юджин улыбнулся.
– Неплохо.
– Наборщиком, значит, не собираетесь быть?
– Как будто нет.
– Что ж, это, пожалуй, к лучшему. Их и без того слишком много.
Пока они разговаривали, подошел бочком Джон Саммерс.
– Как поживаете, мистер Витла? – спросил он.
Юджин посмотрел на него. Джон был уже отмечен печатью смерти. Он еще больше исхудал, лицо приняло мертвенный оттенок, плечи ссутулились.
– Очень хорошо, мистер Саммерс, – сказал Юджин.
– А я не могу похвастаться, – сказал старый печатник. Он многозначительно постучал себя по груди. – Эта штука скоро меня доконает.
– Не верьте ему, – вмешался Лайл. – Джон вечно ноет. Он здоров, как никогда. Я ему говорю, что он еще лет двадцать проскрипит.
– Нет, нет, – сказал Саммерс, качая головой. – Я-то знаю.
И он тут же куда-то исчез, пояснив предварительно: «Это здесь рядом, через дорогу», как всегда говорил, когда шел выпить.
– Он и года не протянет, – сказал Лайл, едва за ним закрылась дверь. – Берджес только потому его терпит, что стыдно выгонять больного на улицу. Но его песенка спета.
– Это сразу видно, – сказал Юджин. – Выглядит он ужасно.
И они продолжали беседовать в том же духе.