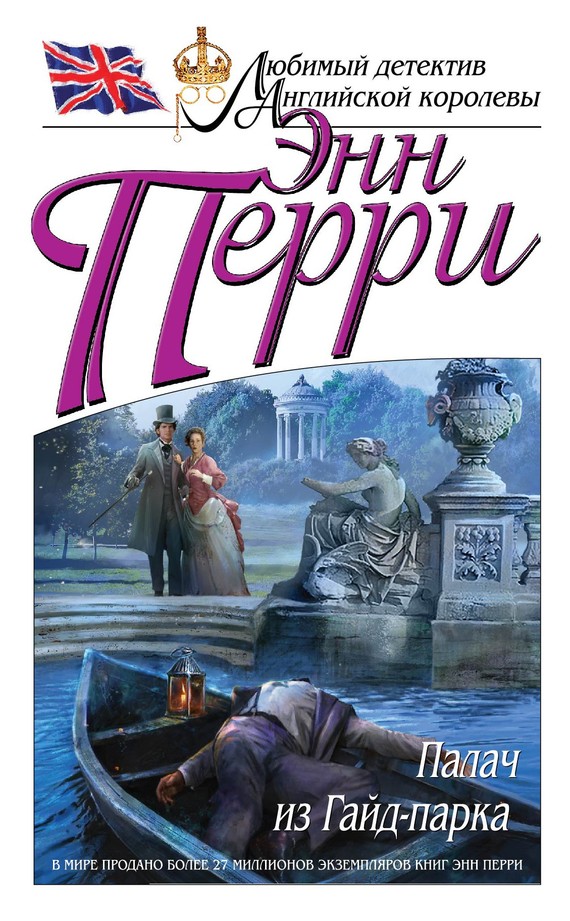Капитал (сборник) Жаров Михаил
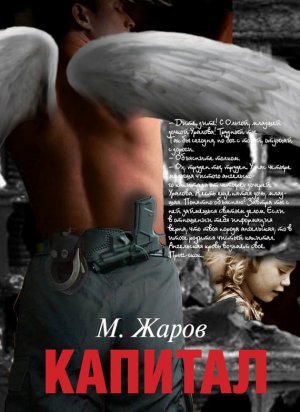
– Хуян! – сверкнул собачьими глазами Хренов. – Хуйпампендрян! Ты зачем согласился? А?! Много пожил?
– Во-первых, никто меня не спрашивал, – тугим, напряжённым голосом ответил я. – Во-вторых, откуда было знать?..
– А теперь знаешь? Хав-хав-хав! – Хренов засмеялся, как залаял. – Ладно, не злись. Но ты попал туда, куда врагу не пожелаешь.
– Понял уже, – сказал я и без желания налил снова.
– Надеюсь, заводом не интересовался?
– В том-то и дело, – протянул ему стакан. – Даже ходил ночью.
– Муд-дак! – Хренов грохнул по столу кулаком. – Осссёл!
– Хвать орать, – на всякий случай я привстал со стула. – Откуда мне было знать? Я и сейчас ни в зуб ногой. Поэтому и пришёл.
Хренов сел, выпил, успокоился.
– Чёрт его знает. Может быть, простят. Посмотрят, что больше не суёшься, и простят. Им ведь тоже неудобно резать иногородних. Для них начальник ЛПМ, как бельмо на глазу. Чёрт знает… Или пропади! Покупай больничный, ложись в госпиталь, и в это время увольняйся. Хотя…
– А вы как проработали там пятнадцать лет?
– Как? Тише мыши. Пил вино, смотрел телевизор. Никогда носом не рыл.
– И не увольняли?
– Ваня ты, Ваня! Послушай, если пришёл, – он протянул через стол руку и похлопал меня по плечу. – Издавна было заведено, что начальника ЛПМ никто не напрягает, показатели с него не требуют, лишь бы кто-нибудь занимал должность. Поэтому и ставили таких, как я, чтобы только числились. Ты, чую, тоже бездарь?
– Почему? – возмутился я. – Пятьдесят уголовных дел в год. Лучший опер по итогам две тысячи восьмого года. Девяносто шесть процентов раскрываемости.
– Да ладно! – махнул рукой Хренов. – Засунь свои проценты… Вижу, тебя, коммуниста, послали наводить в Ерусалимске порядок.
– Почему коммуниста?
– Сиди! – снова махнул он рукой. – Ты видел стенд с погибшими? Видел, как там мало из Ерусалимска?
– Мало?!
– Ну, конечно. Поначалу, в пятидесятых, в Ерусалимске было целое отделение транспортной милиции. Местные вырезали его, и после этого руководство оставило одну должность начальника и несколько формальных, на бумаге, сержантских должностей.
– Что же это за город? Вы что-нибудь знаете про него?
Хренов интимно наклонился ко мне и прошептал:
– О городе я слышал урывками. Может быть, и враньё всё…
5. История
В двадцати километрах от Нового Ерусалимска издревле живёт городок Иерусалимец. Достопримечательностями не богат, разве что, как говорят старожилы, в нём родился певец Валерий Леонтьев. Не ровня Пушкину, но всё равно приятный факт.
Другое, чем замечателен Иерусалимец, это то, что в его честь, немного осовременив имя, назвали город, строительство которого началось посреди чистого поля в 1946 году.
Начало строительства могли оценить лишь птицы и лётчики. Со своей высоты они получили радость видеть грандиозную пятиконечную звезду. То был бетонный забор, огородивший территорию, которой хватило бы для воинской дивизии.
Затем внутри трёх звёздных лучей возникли приземистые кирпичные здания с крохотными келейными окошками – психиатрические диспансеры. Оставшиеся два луча заняли казарма, котельная, клуб, сосновая роща, а также памятники волку, мишке и Иосифу Сталину. В центре звезды выросла угрюмая громада завода.
Комплекс диспансеров был задуман для непростых больных. Сюда свозились люди, в ком Великая Война разбудила тяжелейшие психические недуги, и что важно, свозились не только советские граждане, но и пленные немцы, венгры, итальянцы, румыны и прочие европеоиды, сведённые Войной с ума. Кроме лечения, для них предполагалась работа на заводе. Охрану порядка внутри звезды обеспечивала рота Внутренних войск.
По большому замыслу внутри звезды должны были жить и трудиться одно за другим поколения умалишённых, и сменяться они могли лишь новенькими извне. Однако после смерти Вождя порядки в корпусах смягчились, и половина контингента получила статус свободной рабсилы.
Поначалу ударились в бега. Соблазнённые шумом поездов, больные спешили прямиком на станцию, где их шашками наголо встречала транспортная милиция. В то время сотрудники вместо резиновых палок носили шашки, а на головах их красовались каракулевые папахи. Недавние фронтовики, рубаки-парни, красота. Беглецы люто ненавидели их, и если не получалось убить, то старались хотя бы вырвать им пальцами глаза. Так зародилась традиция вражды с «мусорами-железяками».
С горя, что не убежать, аборигены занялись созданием счастья внутри звезды, и вскоре дали бурное потомство. Пришлось дополнительно строить детский сад, школу, библиотеку и загодя ПТУ.
Далее показали себя диссиденты. В отличие от своих вольных коллег ерусалимские Галичи и Солженицыны действовали как словом, так и делом. Одно время по заводу ходили самиздатовские книги стихов, страницы которых были изготовлены из кожи солдат и санитаров. Карались местные пииты жестоко, не в пример официальным – утоплением в выгребных ямах.
Однако жертвы их не стали напрасны. Заводчане получили очередные поблажки, а именно возможность тишайшим из них выходить и жить за стенами звезды. Ими-то и был основан ныне известный Новый Ерусалимск.
Тишайшие показали себя чертями из омута. Они шустро организовали ерусалимский ГОРКОМ КПСС, ГОРСОВЕТ, выбили из Москвы средства на строительство домов, школ и клубов.
Возвращаться работать на завод свободные ерусалимцы не пожелали. Они, сродни черкесам, предпочли вылазки в соседние города и на большие дороги, разбойничать и грабить. Верховный Совет СССР поднимал вопрос о вводе в Новый Ерусалимск войск, а также о поголовном переселении жителей в степной Казахстан, но вместо этого 28 августа 1964 года Президиум Верховного Совета отменил все ограничительные акты в отношении депортированных народов. Крутые меры вышли из обихода.
В свете горбачёвской перестройки и гласности свободные ерусалимцы возопили о заводе как об уменьшенной копии «тюрьмы народов». Перед проходной начались манифестации, самосожжения, а 9 ноября 1989 года, когда по телевидению проскочили кадры сноса Берлинской стены, к заводскому забору поползли бульдозеры и повалил мятежный народ. Впереди уверенно и враскачку, как пьяный задира, катился ЗИЛ-130. Из установленного на нём громкоговорителя трескуче пел Цой, «В наших глазах». Город восстал.
Открыли с вышек огонь часовые. Ерусалимцы сгрудились за бульдозерами, попадали в холодную грязь, удивились. Минута им потребовалась для того, чтобы выругаться и вновь поверить в свои силы, но подлетевший БТР-80 ударил из двух пулемётов. Цой смолк.
Следом поднялось восстание внутри звезды. Действовали внуки первых заводчан, безумные и сильные настолько, что мышцы их и связки во время напряжения трещали, как корабельные канаты.
Страшной неожиданностью для роты охраны стало вооружение мятежников, под которое они приспособили заводское оборудование. Паровые котлы и канализационные люки послужили в качестве доспехов и щитов, выдерживавших прямые попадания из автомата Калашникова. Дрались мятежники карданными валами, связками шестерёнок, кувалдами, железными пиками.
Рота солдат полегла в течение часа.
Заводчане вышли из ворот торжественными колоннами. В руках они держали шесты с головами солдат и санитаров. Городские встретили их цветами и хлебом-солью.
И снова Москва умыла руки. Кто-то невидимый, с чьей руки полетела в пропасть советская страна, остался доволен городом – новым героем. Прибывшие в Ерусалимск несколько взводов спецназа Внутренних войск были отозваны, и никто не помешал ерусалимцам праздновать свой первый День города. На улицах стоял непроглядный смог от жаровен. Триумфаторы пили и закусывали подозрительными шашлыками здесь же, на улицах, одной семьёй.
Завод жгли и громили, громили и жгли, пока он не превратился в руины. В соседних городах даже днём было видно зарево пожаров.
В девяностые годы голод погнал ерусалимцев в Москву. Разбои в обнищавших соседних городах прокормить не могли, а зарабатывать честно у себя было никак и негде. Правда, и в Москве, по вине буйного нрава, ерусалимцы постоянно попадали в передряги. Домой они возвращались либо без денег, либо спустя годы сидки, либо не возвращались вовсе. Тогда наиболее смышлёные решили объединяться и сообща отвечать столичному злу насилием. Самым смышлёным оказался, конечно, Зурбаган. Обладая нечеловеческим везением, только он и его орден дожили до наших дней. Остальные погибли в перестрелках с московскими бандитами, которые быстро поняли, что на ерусалимцев переговоры и дипломатия не действуют.
Со временем брать Москву силой стало себе дороже. Зурбаган вцепился в провинцию, а прочий люд продолжил ездить в столицу за трудовой копейкой, нагоняя жуть на пассажиров поездов и проводниц. «Лучше вся Северокавказская железная дорога, – говорили проводницы, – чем одна новоерусалимская станция».
Рано или поздно город ждала гражданская война, всех против всех. Дурная наследственность зудила в людях, бродила и пенилась, а выплёскивать брожево оставалось друг на друга. Преступность в городе день за днём подходила к тому пределу, за которым начиналась норма. Норма же насилия – война.
Спас Ерусалимск некто Уралов. Он навлёк на себя всеобщую ненависть.
Тёплым майским днём 2000 года напротив городской администрации остановился «Хаммер» с московскими номерами. И без того нервное население, конечно же, обратило своё внимание на грозную машину. Самые нервные встали вокруг неё, рассуждая: «Хули у нас понадобилось? Москвичи страх потеряли?»
Открылась задняя дверь, и вылез сказочный персонаж. Худой, сутулый, и в разные стороны борода. На ногах валенки, в руке банка пива. Он улыбнулся, поставил банку на крышу «Хаммера» и обратился к собравшимся:
– Приехал я! Завод отстраивать! Дурак, да?
Его вспомнили. Ерусалимский сирота, в начале девяностых он уехал в Москву, там разбогател до беспамятства, забыл свою родину напрочь, и на тебе – вернулся.
В город потянулись километровые вереницы строительной техники, а за ними КамАЗы, гружённые стройматериалами и автобусы, из окон которых улыбались гагаринскими улыбками таджики. Замыкали автопоезд загадочные фуры. Изнутри их нёсся несусветный лай. Не иначе, – подумали ерусалимцы, – Уралов скупил московские питомники, чтобы кормить рабочих.
Строительство началось немедленно. Рёв и грохот стройки не умолкал ни на минуту круглые сутки. К забору потянулись любопытные, полезли смотреть, но потом никто из них не мог вспомнить, что видел. Слишком быстро и сильно любопытных били по голове.
С целью проведения проверки по факту травм стройку поочерёдно посетили несколько сотрудников милиции. «Подхожу к воротам, стучусь, – рассказывали они с больничных коек. – Выскакивает ротвейлер…»
Милиция и городская администрация провели совместное совещание и постановили: Уралова выкинуть, а руины завода сравнять с землёй.
Сотрудников выдернули с выходных, отпусков и больничных. К стройке стянулись практически все силы местного ОВД. Создавалось впечатление, что в Ерусалимске ожидается матч «ЦСКА – Зенит».
По громкоговорителю выступил лично Морозов: «Уважаемые руководители строительного объекта! Обращаюсь к вам с убедительной просьбой не препятствовать законным действиям сотрудников милиции и организовать безопасный доступ сотрудников на территорию вашего объекта с целью выяснения некоторых, интересующих нас, обстоятельств!» Вслед за его обращением ворота отворились, и Морозов, не успев выключить громкоговоритель, произнёс: «Йобаноой!»
Подобного в природе, наверное, ещё не происходило – чтобы в одно время и в одном месте оказалось столько собак! Разве что в том же количестве собираются пингвины и морские котики. Из ворот вырвались полчища обозлённых на людей, специально изморенных голодом зубастых тварей. Ротвейлеры, доберманы, овчарки…
Если на ту минуту в небе парили птицы, то они, услышав снизу вопли, рёв и лай, должны были упасть с высоты замертво. Одинаково страшно рычали сильные звери, и вопили слабые люди.
Стрельба загремела, когда уже творилась свалка, трещала одежда и кожа, когда стало поздно успевать думать и целиться. Люди попадали друг другу по ногам, валились на землю и снова стреляли, очищая пространство рядом с собой от собак и от тех, с кем только что курили и смеялись.
Наиболее опасными показали себя автоматчики. Очередями выстрелов они чертили вокруг себя колдовские круги, вступив за которые падали и зверь, и человек.
Бойня ослепла и потеряла смысл после применения КС-23, карабинов специальных. Вооружённые ими сотрудники влупили по четвероногим врагам газовыми снарядами.
Грохот стрельбы распугал собак. Битва закончилась так же внезапно, как и началась. Морозов вылез из УАЗика белый, взъерошенный. Его подчинённые ползали по земле в жгучем дыму, обливаясь слезами, соплями и кровью. Городской отдел милиции пал меньше чем за полминуты.
Через пару дней на стройку прибыли новые лающие фуры. С час они кружили по городу, издевательски сигналя постам ГАИ и охотно не замечая знаки «проезд грузовым автомобилям запрещён». Уралов знал своих земляков и действовал по принципу: пугать, так до смертельного страха.
После сокрушительного поражения милиции показать, кто в городе хозяин, мог и был обязан лишь один человек. Зурбаган.
Его безотказный план предполагал три этапа. Ворота стройки таранит бензовоз – взрыв, пожар. Вокруг забора выставляются меткие стрелки – бежать напрасно. Силы стягиваются на пепелище – противник деморализован и обречён.
Блицкриг был назначен на символические 4 часа утра 22 июня. Разбойничье время, когда добрые люди спят самым глубоким сном, и время нечистой силы, когда ведьмы и черти учиняют друг над другом кровавые ласки, танцуют под популярные шлягеры и, целуясь, грызутся.
Зурбаган лично благословил рискового водителя, обнял его и украдкой поцеловал в губы. Переживал за человека, с которым начинал в девяностых, любил его. Нет никого и ничего ценнее, чем люди, верные делу.
Другие надёжные бойцы заняли позиции для стрельбы ещё с полночи. Четыре прохладных часа они нежно грели в себе желание доказать свою преданность человеку, который умеет любить и убивать так, как дано великим.
Зурбаган хотел видеть пламя победы с высоты. Он расположился на крыше городской телефонной станции и сам держал по рации связь с водителем бензовоза.
– Ахиллес Трояну! Как оно? – спрашивал Зурбаган, блуждая любящими глазами по туманному городу. – Я тебя не вижу, сильный туман. Приём!
– Еду! – лаконично отвечал бензовоз.
– Без одной минуты четыре. Успеваешь?
– Успеваю!
Город сотрясся от взрыва ровно в четыре. Зурбаган закатил глаза и простонал. Женщины, вино, наркотики, да и мужчины, не шли в сравнение с властью над жизнями. Она – вино из яблок бессмертия.
Зурбаган всмотрелся в сторону, откуда поднималось вулканическое пламя, и тихо произнёс: «А почему это?» Горел его кремль.
Уралов показал, что умеет вербовать людей и слышать в любом конце города мышиный пук. Среди ерусалимцев появилась злая присказка: Что смотришь (слушаешь, ходишь)? Не ураловский ли ты?
В октябре того же 2000 года стройка завершилась. Из ворот выехали автобусы с рабочими, труба заводской котельной бойко задымила, вслед за чем очередная неожиданность взбаламутила город. Стали пропадать ерусалимцы. К Новому году население не досчиталось трёхсот человек. Как правило, исчезали врачи, медсёстры и учителя. Обязательно с детьми.
За ними приезжали по ночам чёрные джипы, и люди, счастливо смеясь, сами выбегали из домов. Скрытое наблюдение милиции установило, что джипы заводские.
Ситуацию прояснил хлипкий старичок. Он приковылял в милицию и обратился к постовому, сидевшему на входе:
– Щегол, найди-ка мне Борова. Минуты хватит?
Постовой усмехнулся на хамоватого старичка, но просьбу выполнил. Пусть дольше, чем через минуту, где-то через час, Боров подошёл к центральному входу. Старичок дремал на лавочке, возле его ног стоял старый пластмассовый дипломат.
– Ты, что ли, Боров? – очнулся старичок от шагов. – Дрищеват.
Боров недоумённо поводил бровями.
– Слышал я, что ты шустрый, – продолжил старичок. – И нашим, и вашим…
– Старый! – перебил его Боров. – Тебя в этот саквояж упаковать? – пнул он по дипломату.
– Собери-ка мне народ, – улыбнулся тот. – Депутатов, начальников, всю пиздобратию. И Зурбагана не забудь. А мне охрану дай, человек пять.
Пока Боров хохотал и вытирал слёзы, старичок достал из дипломата массивную папку, на жёлтой картонной обложке которой значилось: Совершенно секретно. Литерное дело № 0001 «Завод». Заведено – 1945. Окончено – …
– Это я тогда прихватил, – сказал старичок.
Боров поперхнулся своим смехом и задышал с натугой, будто получил удар в живот.
Общее совещание состоялось в тот же час и длилось до следующего дня. Участники единогласно проголосовали: завод погубить, любой ценой.
6. Наследственность
– Вас тоже приглашали на совещание? – спросил я Хренова.
– Бог с тобой! – передёрнуло его. – Может быть, и не было никакого совещания, и ничего не было. Может быть, всё, что я рассказал – враньё и байки.
– А если правда, – пробормотал я, – то теперь мне понятно, почему ерусалимцы валят к заводу толпами в полнолуние и почему весной и осенью они выдают вдвойне больше преступлений. Наследственность, обострения. И Ленин в центре города пьяный, идёт вприсядку и нараспашку. Кстати! Сейчас вспомнил. Листал как-то телефонный справочник, и глаза разбегались от немецких фамилий. Альферы, Мюнцеры, Шликкеркампы, Шатцы… А что на заводе производится? Кто работает?
– Не знаю, – скучно вздохнул Хренов.
– А раньше что на нём производилось?
– Ума не приложу. Ни разу не встречал изделий, чтобы на них стояло «Новый Ерусалимск».
– А что было в деле, которое принёс старичок?
– Говорю же, не знаю! – Хренов снова сверкнул собачьими глазами.
– Как же мне теперь? Попробовать затихариться?
– Попробуй. Но запомни правила: не женись, детей не заводи, ни с кем про Ерусалимск не разговаривай. Родители живы?
– Мать, а что?
– Поругайся. Не понарошку, а вдрызг, чтобы прокляла и за сына не считала. Будет жива.
– И зачем такая жизнь?
– Смотри сам. Досадишь им, они не только по тебе пройдутся.
– Ну а вы как? Неужели всегда один?
Хренов повёл рукой, указывая на своё унылое жильё, в котором супружничали пустота и эхо.
– Работать учись по-новому, – продолжил он. – Вернее, на работу забей. Не будь коммунистом. Приехал, заперся в кабинете и занимаешься своими делами. Решай кроссворды, дрочи, пей водку. Отдыхай!
– Вы так пятнадцать лет работали? – спросил я и налил Хренову больше полстакана, чтобы прикончить бутылку.
– Вообще не работал! – рассмеялся он. – Регистрацию происшествий не вёл, будто ничего не происходило, а когда случалось что-нибудь громкое, – например, грузовой состав под откос или пьяный пастух, помню, вёл по путям коровье стадо, и за пять секунд пять тонн свежего мяса, – тогда я от первой до последней строчки все материалы фальсифицировал. У меня ни на единой странице не было живых подписей.
Я курил и смотрел в пол, презирая Хренова. Думал, докурю и пойду.
– А ты хотел! – ему, очевидно, нравилось, что я удручён. – Ушёл бы я, пришёл бы на моё место другой, идейный. Труба! Убили бы его, как тебя.
– Меня пока не убили, – вырвалась из моего горла крепкая, как спирт, злость. – Вот ещё, казнить себя до времени. Да я сам нагоню на Ерусалимск и его выродков такого страха, что заревут!
Хренов карикатурно вытянул лицо. Издевался.
– Что смотрите? – несло меня. – Чего ради хоронить себя заживо? У меня в яйцах дети пищат и вся жизнь впереди. Думаете, послушаюсь и буду гнить в кабинете? Дрочить и одновременно молиться, чтобы не пришли убивать? Обломись ты, начальник Хренов! Есть у них всякие Зурбаганы, Боровы и Ураловы, появится и Столбов.
– Уже есть, – гаденько усмехнулся Хренов. – Прокурора любимчик.
– Знаю! Хватит меня пугать, – встал я из-за стола. – Ерусалимск затрещит. Обещаю!
Смесь из злости и отчаяния после моего ухода от Хренова забродила, вспенилась, стала бить пузырьками в нос, и хотелось смеяться, скаля зубы. Ерусалимцы – психи? Дети и внуки психов? Добро! Моя наследственность тоже с червоточиной. Поглядим, кто больше псих.
До сих пор в посёлке, где мы жили, люди боятся вспоминать моего отца, хотя умер он, когда я ходил в младшую группу садика. Его забили до смерти в милиции, и я, его сын, милиционер, служу и не каюсь. Отец достал всех. Рассказывают, что когда он выходил на улицу, люди прятались по домам и не смотрели в окна, чтобы, упаси бог, не пошевелить занавески. Одно время спускали собак, но собаки стали стремительно кончаться. Отец хватал их и душил. Или садился на псину сверху, если она была большой и сильной, и проворачивал ей вокруг оси голову. Думаю, он славно показал бы себя в ерусалимской битве с собаками.
Мать укладывала меня спать в старинном кованом сундуке и вставляла под крышку клинышек, чтобы шёл воздух. Она и теперь хвалит меня за то, какой я был тихий в детстве, не досаждал отцу ни гвалтом, ни плачем, играл безмолвно, будто совсем не умел говорить. В молчании переставлял солдатиков и танки, проигрывая канонаду выстрелов и взрывов про себя. Золото, а не ребёнок.
Сам я не помню отца плохим. Может, был слишком увлечён своими глухонемыми играми и пропускал отцовы выходки мимо глаз и ушей. Или же он вёл себя плохо, когда я спал в сундуке.
Страшно мне было только в сороковой день после его похорон. Вечером мать неожиданно уставилась на меня сердитыми глазами, погрозила пальцем и наказала: «Сегодня он придёт! Не лезь к двери и окнам! Запомнил?»
Ночью дверь шаталась под ударами и окна дребезжали от чьего-то неугомонного стука. Мать и я сидели посреди большой комнаты на полу и не спали до утра. Мать тискала меня, зажимала мне уши и раскачивалась, надеясь, что я усну.
Сейчас не знаю, что и думать. Вполне возможно, что стучали соседи. Хотели напугать в отместку за отца.
Дурную наследственность во мне открыли медики. Я устраивался в милицию, проходил военно-врачебную комиссию, и первой насторожилась женщина-окулист.
– Что-то у тебя с сетчаткой, милый, – ласково пропела она. – Тяжёлые травмы головы были? На-ка тебе направление в поликлинику МВД, сделаешь энцефалографию и с результатом назад. Ко мне не спеши, сразу шагай к невропатологу.
Сходил. Меня торжественно усадили в кресло, опутали мою, унаследованную от отца, головушку проводами, и я струсил. Ожидал, что подадут зубодробильный разряд, и вместо милиции пойду домой безмолвно играть в танки. К счастью, сеанс прошёл в исключительном комфорте, и даже мужчина-лаборант остался доволен.
– В милицию, значит, устраиваешься? – спросил он. – Возьми, хороший мой, – протянул мне листок с алхимическими знаками и цифрами. – Всех благ!
Прежде чем вернуться на комиссию, я показал загадочный листок соседу, неврологу по специальности.
– Что тут не так?
– Всё!
– А напишите, как должно быть у людей.
Пять минут дел.
Упорствовал я попасть в милицию, потому что с начальных классов школы снискал себе славутошного служителя добра и справедливости.
Прилежный октябрёнок на уроках, перемены я посвящал кровопролитию: бежал попить водички, а затем летал по этажам следить за порядком и спасать наш хрупкий мир. При виде сцены насилия над малышами или обморочными Пьеро, которым на роду было написано страдать, меня начинало трясти. Природный мент шептал изнутри: «Смелее, дружок!» Ни возраст, ни рост, ни правота обидчиков не могли меня остановить.
Синяки и ссадины заменяли мне погоны и звёзды. Благодаря им в школе говорили: «Тихо! Этот идёт!» Однако не могу вспомнить случая, когда я постоял бы сам за себя. Обидные выпады в мой адрес не вызывали во мне ни малейшего протеста. Хуже того, если дело доходило до драки, то я не дрался. Стоял в полный рост, не уклоняясь от ударов, и улыбался. Сердце стучало ровно, в нём не вскипала ярость к врагу, не булькала жалость к себе, хотя холодным умом я понимал, что вот сейчас смогу точно попасть гаду в нос, он растеряется, а дальше ногами в живот. Как правило, моими обидчиками овладевало недоумение, и они прекращали бить, не дожидаясь пока я упаду. У них пропадал интерес ко мне.
В армии получилась та же канитель. С первых дней службы я испытал восторг от обилия несправедливости вокруг и бросился бить-спасать.
Сложилась идеальная схема. Сначала я заступаюсь за свой молодой призыв, безумно вращаю глазами и применяю физическую силу к старшему призыву, а затем последние пытают меня почти до смерти, но унижения и боль я принимаю спокойно, хоть бери и пиши с меня картину святого или большевика.
Любопытно, что не успел закончиться курс молодого бойца, как мои инквизиторы стали здороваться со мной за руку и за глаза прозвали «справедливый чувачелло». А спустя два месяца службы «деды» уже приглашали меня на ночные попойки и задавали Чернышевские вопросы: кто же виноват, раз такая армия, и что же делать, если не бить молодых?
Мудрено ли, что сразу после армии я рванул в милицию. Ей-богу, я желал людям добра, но ерусалимцы разбудили в моей голове импульсы, которые десять лет назад увидел энцелограф.
7. Контратака
Действовать я начал немедленно после встречи с Хреновым. В первую очередь, посвятил три дня хождению по пунктам приёма металла, где со щепетильностью Акакия Акакиевича выписал из бухгалтерских журналов данные о том, кто, когда и в каком количестве сдавал железнодорожные детали. Результат получился превосходным. В моих руках оказалась информация на всех без исключения работников станции Новый Ерусалимск. За той же Татьяной Леонидовной, начальником станции, числились десять грузовых вагонов-хапров и больше двух десятков нефтеналивных цистерн, не считая сотен тонн стыковочных накладок.
Затем я пригласил к себе хозяина самой близкой к вокзалу приёмки, Шатца Николая Николаевича. С его приходом сложилось ощущение, что интерьер моего кабинета пополнился большим и громким музыкальным инструментом.
– Какие жэдэ изделия? Что мне запрещено? Ты кто, пацан? – грянул он, как токката и фуга ре минор Баха.
Листочки с выписками из бухгалтерских журналов подрагивали, и мне приходилось прижимать их к столу рукой.
– Николай Николаевич! Лицензию на предпринимательскую деятельность вы получали в областном центре, правильно? Там же её вас и лишат, обещаю. Родной город не поможет.
– Чего мне бояться? Тебя, считай, уже нет. Пока, мил человек.
Николай Николаевич шагнул к двери.
– Стойте! Материал собран и направлен в другой город на возбуждение, – врал я. – Поздно со мной расправляться.
Николай Николаевич замер, постоял, а когда повернулся, то показал фокус. В руках он держал бутылку виски.
– Где бы ещё встретить хорошего человека! – просиял Николай Николаевич, словно от хороших новостей. – Разрешите к вам?
И спустя минуту:
– Ванюш, ты скажи мне, как другу, чем помочь тебе? Как другу! Друзья мы или нет?
– Резчики, сварщики работают у вас?
– У меня? Да у меня лучшие сварщики! И кузница есть. Хочешь крыльцо, хочешь лестницу витую, говори! А ограды какие мы делаем! А кресты! Для тебя-то!
– Железные ставни с бойницами на окна и железную дверь, чтобы выдержала таран, сможете?
– И всё? – улыбнулся Николай Николаевич. – Обижаешь, будто на пиво попросил.
– Кое-что ещё! – осёк я его, лишь бы он не улыбался.
– Говори, друг, что?
– Гильотину, – выдал я наугад.
Вслед за Шатцем я пригласил Татьяну Леонидовну. Она залпом разрыдалась, и в её дряблой гримасе отобразилось сожаление о молодости, о том, что на красивое имя Татьяна давно наслоилось, подобно чаге, отчество Леонидовна.
– У меня сын… – пуская изо рта пузыри, простонала она. – Школу в следующем году заканчивает.
– Авось закончит, – нагнетал я.
– Он у меня симпатичный, как девочка. Хотите?
– Что ты, мать моя! – привскочил я и швырнул ей чистый лист. – Пишите! Я, фамилия, имя, отчество… написали?.. даю согласие на конфиденциальное сотрудничество… кон-фи-ден-ци-аль-ное… на добровольных началах. Обязуюсь предоставлять… Вытрите слёзы, а то капают, и буквы расплываются! Обязуюсь предоставлять интересующую информацию…
С Натальей Робертовной получился разговор короче. Зная, что у неё тоже есть сын, я сразу принялся диктовать.
Ставни и дверь появились на следующий день, а с гильотиной Николай Николаевич попросил чуток подождать.
Броня воодушевила меня дать бой уличным часовым. Я запасся водкой и, упиваясь ею и злостью, сел ждать ночи.
Заслышав за дверью возню и характерное кряхтенье, я взял телескопическую ПР-89, палку резиновую, изготовленную специально для транспортной милиции, чтобы орудовать ей в тесных поездах.
– Еле дотерпел, весь день хожу, как оловянный, – доносилось из гулкого коридора.
– Помолчи! Сбиваешь меня.
Дверь я распахнул, толкнув её всем телом. Диверсантов оказалось двое. Один, сидевший у самого порога, от удара вылетел из штанов и растянулся по полу в одних ботинках. Второго дверь не задела. Он пребывал в пике биологического процесса и смотрел на моё чудесное появление с той тоской в глазах, с которой смотрят согбенные собаки. С ним я допустил скверную оплошность. Вместо того чтобы развеять его тоску взмахом дубинки, пнул вредителя по выпяченному заду. Творчество, которое утром я бы сгрёб с лица земли лопатой, брызнуло на стены и на мои штаны. Тоскливец же пустился вприсядку, приговаривая: «Чего это он?! Чего это?!»
Обида за штаны, правый ботинок и обгаженный в моём лице Закон переполнила меня. В каждый удар я вкладывал душу, бил с придыханием, метясь исключительно по ляжкам, тем самым отучая диверсантов от позы Роденовского «Мыслителя». Было грустно, что один из них оказался станционным электромонтёром, который накануне подписал расписку о сотрудничестве.
Против часовых на перроне следовало применить верный способ усмирения толпы. Предельно жестоко громить вожака и терпеть, пока тебя бьют остальные.
На перрон я выскочил бодрый, неожиданный. Потоптался, поморгал и бросил ПР на землю. Человек двадцать ерусалимцев гуляли врозь, будто поссорились, и не отличались друг от друга, как лесные тени. Вожаком их была луна.
Оставалось идти ва-банк. Схватить пистолет и стрелять в воздух. Почти что в Луну.
– Лечь на землю! – скомандовал им.
По перрону прокатился мягкий шум упавших тел и лязг оружия.
– Встать!
Озадаченные ерусалимцы снова поднялись на ноги.
– Лечь! Плохо. Очень медленно, бойцы. Встать!
Армейский ген, единственный ген, который приобретается, а не передаётся по наследству, управлял мной, обдавал электрическими импульсами гортань, диктовал слова.
– Упор лёжа принять! Отжимаемся. Рраз! Двва! Трри!..
Среди брошенных ножей, топоров и молотков я углядел обрез двустволки, поднял его и стал вдвойне эффектен.
– Двадцать два! Двадцать три! Закончили. Встать! Приседаем. Рраз! Двва!..
Кто проходил через армейский кач, тот знает, что человека возможно довести до сумрака в глазах, до рвоты и поноса за несколько минут. За несколько минут. Мои бойцы обладали мягко-мебельными фигурами, а призывной возраст перешагнули ещё в XX веке. Поэтому кач на них подействовал как нельзя благотворно. «Пожалей! – надрывались они. – Прости!»
– Сорок три, сорок четыре… Закончили приседать. Вдоль предупредительной полосы в одну шеренгу становись! – показал я на край перрона. – Не толкаться! Отставить драки! Так, теперь сели, и по кругу гусиным шагом – марш!
На первом круге упали без памяти двое. Для того чтобы поднять дух остальных, я громыхнул из обреза.
Со стороны завода подоспели ещё шестеро лунатиков. Они встали кучкой, наблюдая за странным поведением своих земляков.
– Мужики, вы чего съели? – спросил бородач, державший на плече цельнометаллическую кувалду, вылитый Тор.
Мои бойцы покосились на него с ненавистью.
– Не ждём, граждане, не ждём! – обратился я к новеньким, наставляя на них пистолет и обрез. – Присоединяемся! Считаю до трёх. Рраз!..
Пятнадцать минут и никто уже не мог стоять на ногах. Последним упражнением стало передвижение по-пластунски. В свете фонарей асфальт заблестел от пота. Бойцы, словно гигантские улитки, оставляли после себя влажные полосы.
– Благодарю за службу! В следующий раз будем бегать с двенадцатиметровым рельсом в руках. Отбой!
Я повернулся идти в кабинет и вдруг почему-то сел на корточки и выронил оружие. Из носа хлынула, как из перевёрнутой бутылки, кровь. Надо мной стояли двое в форме, с бакенбардами и без.
Тот, что без, держал на вытянутой руке сотовый телефон и снимал видео. С бакенбардами бил меня моей же дубинкой.
– Прикольно, конечно, придумал, – приговаривал он. – Но надо скромнее быть.
Хлоп! – дубинка угодила по темечку, и я, неприятно опьянев, слёг на асфальт.