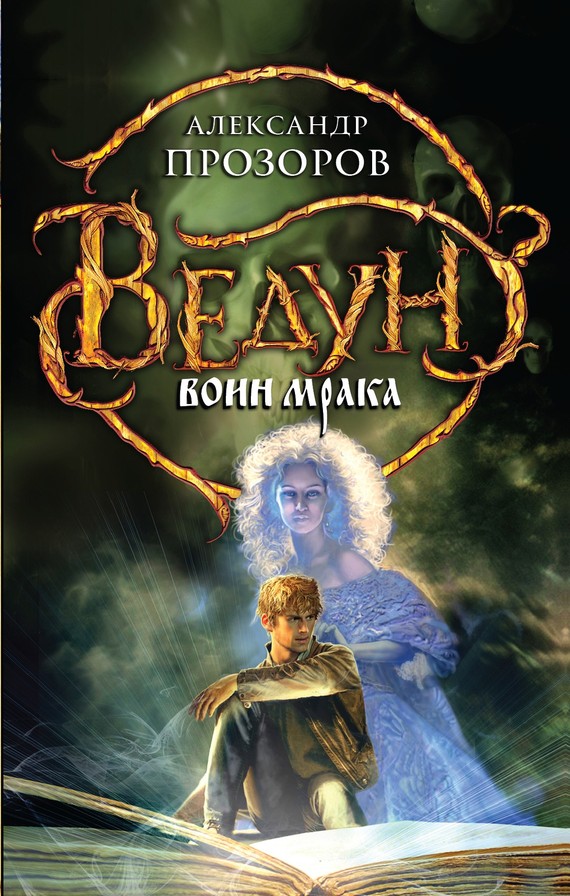Восстание Шишкин Дмитрий

Глава I
Толпа стекалась на Красную площадь заранее «подогретая». Были тому веские причины. Во всяком случае, ни прохожих, ни самих спешивших на концерт, ни, что особенно важно, полицейских это не удивляло. Событие – из ряда вон, не каждое десятилетие такие легендарные музыканты приезжают. На площади бар не откроешь, вот и готовилась публика самостоятельно. И холодно было, несмотря на календарную весну.
Этот первоапрельский холод сыграл важную роль в последующих трагических событиях. И дело было даже не столько в алкогольном подогреве толпы. Как обычно – стечение обстоятельств.
Например, факт установки VIP-трибуны. Он стал следствием мерзкой погоды: не будь холодно настолько, чтобы можно было похвастаться меховыми обновками, потащили бы своих благоверных на концерт дородные матроны с ярким макияжем на расплывшихся лицах? По крайней мере, не в таких количествах точно. Ведь у большей их части кумиры юности были иные: с заунывными песнями на три аккорда, совсем не похожие на этих вопиюще поджарых, в их-то возрасте, британцев с непонятными текстами и столь же непонятной музыкой. Но не прийти на такое громкое событие, по сезону в новой шубке, было бы светским казусом. Так что заявок на «особо важные» места было столько, что пришлось отдельный сектор обустраивать. Кто конкретно распорядился, потом так и не разобрались. Да и не выясняли особо, всё было понятно: не в толпе же випам тереться со своими животами и дамами в горностаях.
Впрочем, все эти рассуждения уже из области более поздних морализаторских генеральских бесед. А фатальное обстоятельство в этой цепочке было определено следствием однозначно: VIP-трибуну сделали, а отдельного входа к ней – нет.
***
Организаторы концерта посчитали, что достаточно установить металлодетекторы всего в двух местах: легче проследить за тем, чтобы безбилетники не пролезали. Всё вроде бы продумали, випам в билетах время пораньше вписали – займут спокойно свои места, поручкаются, пообнимаются, а там уж и остальных запускать можно. Сначала пять тысяч счастливых обладателей билетов на сидячие места. Потом двадцать тысяч «стоячих». В плане всё было чётко.
Но когда публика попроще уже заполнила пространство перед заграждениями, важные персоны всё ещё тянулись. Если кто и подъехал, задержавшись, протиснуться уже было невозможно. А со стороны собора, где готовились музыканты, их заграничный директор строжайше запретил любых посторонних в принципе.
Народ тем временем напирал. Полицейских практически впечатали в ограждения, рации хрипло надрывались матами в адрес организаторов.
Кирилл, худосочный невысокий парень, заметно дрожал, прижав к себе обеими руками огромный, с него размером, прямоугольный чёрный футляр от какого-то музыкального инструмента, скорее всего, синтезатора. Он и сам не знал точно: купил у знакомых музыкантов то, что подошло по размеру.
Молодой человек периодически делал попытки пробраться сквозь толпу подальше от ограждений, но его неизменно сносило людской волной обратно, прямо к ментам. Каждый раз, когда его прижимало к человеку в униформе, дрожь усиливалась, а колени предательски подгибались. Прямо так, на полусогнутых ногах, с поднятым над головой, словно хоругвь, футляром, он вновь бросался в толпу, смешно, как болванчик, выныривая то с одной стороны «гробика», то с другой, пытаясь разглядеть брешь в стене тел.
В один из «приливов» футляр выскользнул из окоченевших от волнения и холода рук, Кирилл попытался остановить его падение коленками, но лёгкий ящик подпрыгнул на них и тюкнул двухметрового полицейского прямо в шлем. Гигант с огромным боевым шрамом через всё лицо и полуживой от страха аспирант биоинженерного факультета МГУ посмотрели друг на друга.
Полицейский не сразу сфокусировался на кирилловском лице, полузакрытом воротником пуховика. Наконец запеленговал подозрительно испуганный блеск карих глаз где-то на уровне своей груди. Омоновец недовольно отодвинул от себя футляр и угрожающе – иначе он не умел – спросил:
– Это чё ещё?
Кирилл хлопнул глазами. Ему показалось, что непозволительно громко.
– Ты из этих, на разогреве, чёль? – Голиаф, окинув взглядом скукоженную фигуру и профессионально оценив уровень представляемой опасности, сменил гнев на милость.
Парень отчаянно закивал, чудесным образом одновременно и утвердительно, и отрицательно.
Мент скептически скривился: гражданин перед ним с каждой секундой всё больше походил на больного. Но испуганный пуховичок, наконец, одолел судорогу и выдавил из себя:
– Да, музыкант.
– Пропуск есть? Ты чё здесь толчёшься? Ваших у собора пропускают, – полицейский окинул взглядом напиравших людей и прикинул шансы плюгавенького пробраться. – Ну теперь уж чё, сам виноват, пройдёшь со всеми.
И, уже отворачиваясь, бросил через плечо:
– Можешь вон к входу протиснуться, по пропуску пустят. Хотя вряд ли ты пролезешь.
Чья-то рука схватила Кирилла за воротник и потянула назад. Оказавшись на безопасном расстоянии от оцепления, футляроносец оглянулся.
– Что там было, что он спрашивал? – Антон, его друг ещё с первого курса, голубоглазый статный блондин, любимец девушек и самого себя, сейчас выглядел непривычно растерянным. У него даже глаз дёргался и уголок рта. Красивое лицо это моментально превращало в карикатуру. Кирилл улыбнулся, и весь ужас последних нескольких минут, когда они оказались разлучены толпой, ушёл плавной тёплой волной, прошедшей от макушки до пяток.
– Нормально всё, – Кирилл сам поразился мужественным ноткам в своём голосе.
***
Рация одного из стоявших в оцеплении офицеров громко хрюкнула и заговорила командным голосом, слышным всем окружающим в радиусе пяти метров:
– Как обстановка?
– Давят, товарищ полковник, еле держим!
– У нас тут тоже… – хрип помех вовремя отцензурировал сообщение, – рокеры эти, итить, уже скандалят. В первый раз, говорят, видим, чтобы музыканты раньше публики пришли, хе-кхе-кхе.
Раздались булькающие, словно предсмертные, хрипы старого нездорового человека. Стоявшие рядом с офицером люди перестали пыхтеть, локтями освобождая себе жизненное пространство. Они застыли, прислушиваясь, и напряжённо следя за развитием аудиоспектакля. Но полицейский никакого беспокойства не проявил, напротив, его физиономия расплылась в лёгкой подобострастной улыбке. Никто, судя по всему, помирать в прямом эфире не собирался. Слушатели тут же потеряли интерес к разговору и принялись с новыми силами топтать друг другу ноги.
– Ладно, знаешь чё, мы тут тоже не абы кто, пошли они на хрен, а то ща тут подавят народ, на… – умиравший от смеха секунду назад старик, судя по всему, заводился на ходу. – Запускай!
Рация издала завершающий хрюк. Офицер зачем-то взял под козырёк, на пятках повернулся в сторону ближайших бойцов из оцепления, без того всё слышавших, и повелительно кивнул, одновременно взмахнув рукой, пропускай, мол.
Кивок и жест по цепочке начали передаваться к входу. Где-то вдалеке скрипнул металл – народ, не дожидаясь особого приглашения, метнулся к ограждениям.
***
Толпа попёрла, сметая и символический забор, и потерявшее мотивацию после приказа «пропускать» оцепление, мимо рамок металлоискателей. Наличие билетов никто уже не проверял. Понятно было, что иначе площадь не заполнить и за пару часов. Двое парней с огромным футляром шли, зажатые в плотном строю. С лицами, как и у всех прорвавшихся, такими, будто штурмовали очередной Смольный: суровыми, решительными, волевыми. Словно не развлекаться собирались, а в последний бой. Непонятный рефлекс заставлял бороться за места в первых рядах, всеми силами заталкивая слабых и споткнувшихся назад, за спины. Хотя места у многих были прописаны в билетах, а для «стоячих» установили экраны, и вид на эти экраны и на сцену отовсюду был одинаковый. Но толпе не присуща логика.
Кирилл закашлялся, пытаясь вернуть к жизни застывший от холодного воздуха и волнения речевой аппарат.
– А ты помнишь, с чего всё начиналось? – просипел он.
– Угу, – так же прокашлявшись, ответил Антон, – конечно. Лекцию эту?
– Да. Про Фёдорова, – молодой человек заговорил уже чисто и довольно бойко. Разговор помогал отвлечься от мыслей о предстоящем и сопутствующего, почти животного страха. – Ты знаешь, нам много чего наш тихий маньяк не рассказал.
– Например? – тревожно спросил Антон, ожидая подвоха, когда они находились в двух шагах от цели.
– Ну… нашего-то дела это не касается, я вообще о философии.
– А-а-а, ну давай, всё равно надо о чём-то говорить. Так расслабляешься хоть чуток.
– Кроме той утопии, что нам препод описал, всечеловеческого единства, победы над смертью и прочего, у него есть и негативный сценарий, прикинь!
Антон с интересом обернулся к другу и едва не упал, поскользнувшись.
– Ты давай не отвлекайся, чапай потихоньку, – с улыбкой напутствовал Кирилл. – И вот, представь себе, мы пока что, похоже, идём именно по этому, другому пути.
– Ну?! – подбодрил Антон.
– Фёдоров говорил, что, возможно, сформируется новый тип человека – животный человек, или горожанин, который будет жениться не ради рождения детей, а исключительно ради секса, который установит господство технологий над духовным, будет пищу себе, ну и там все необходимые материалы синтезировать…
Толпа вынесла их в центр площади и начала рассасываться. Пора было действовать, пока не упустили момент. Кирилл упал на одно колено, как будто споткнувшись, но футляр «уронил» очень аккуратно. Антон присел рядом на корточки.
– И? – спросил он.
– И вот эта духовная деградация сделает человека таким… вечным гедонистом, что ли, – продолжил Кирилл, – он уничтожит всё, что ему станет не нужным: животных, растения, все опасные изобретения, типа дирижаблей и воздушных шаров… Во времена Николая Фёдоровича-то других летательных аппаратов не было. Он перестанет заниматься наукой, экспериментировать с изменением климата и прочим, – последние слова парень произносил, активно распихивая по карманам добытые из футляра боеприпасы – самодельные магниевые хлопушки и дымовые шашки.
Хлопушки были ещё полуфабрикатами, поэтому занимали много места: «гранаты» в виде картонных цилиндров с крышками и фитилями и отдельно «боевые вещества» в пластиковых контейнерах от жевательных конфет. Дымовые шашки были готовы: обрезанные с обеих сторон банки из-под пива, набитые пропитанными селитрой обрывками газет.
– Угу, – показывая, что выслушал, ответил Антон, взглянув исподлобья на толкавшихся вокруг людей.
Никто не обращал на ребят, согнувшихся над раскрытым футляром, ни малейшего внимания.
Антон, также распихавший по всем доступным карманам бомбочки, посильнее натянул ворот пуховика на лицо – в прорези между ним и шапкой были видны только глаза.
Кирилл захлопнул крышку. Присев на корточки друг против друга, парни начали готовить заряды, аккуратно перемешивая в картонных цилиндрах любовно напиленный для них химиками из универа магний с обычной марганцовкой.
– Так что там в конце? – натягивая на очередной цилиндр крышку с фитилём, неожиданно спросил Антон.
– В каком конце? – опешил Кирилл.
– Ну, ты рассказывал про альтернативный путь по Фёдорову…
– А-а-а, да. Человек-горожанин откажется от всего опасного для себя, главной целью сделает самосохранение. И вот тут, как ни парадоксально, стремясь уничтожить все угрозы, люди начнут истреблять друг друга миллионами.
– И?
– Что «и»? Вот и всё, пока не наступит судный день!
Антон усмехнулся:
– Очень кстати. Давай поджигать.
***
На сцену вышли музыканты «разогрева», принялись настраивать гитары. Под первые «ля» грохнули и первые магниевые хлопушки. С концентрацией «начинки» парни немного переборщили, ослепило и оглушило даже их, хотя и кидали в ноги народу, подальше от себя.
– Тера-а-акт! – нечеловеческим голосом заорал Антон, приоткрыв по случаю своё пуховое «забрало».
Пригнувшаяся под звуки хлопков толпа благодарно ответила женскими воплями.
– Бежим, сюда, сюда, к стене! – Антон рванул в сторону Мавзолея и увлёк за собой часть обезумевших зрителей.
А Кирилл всё ещё тёр глаза: одна из хлопушек, которую от неожиданности первых взрывов выронил из рук, сработала рядом с ним. А ведь оставалась куча не разбросанных «дымовух», надо было спешить. Кирилл упал на колени, глаза безостановочно слезились, руки дрожали, зажигалка искрила, но не давала пламени. Несколько раз его с силой ткнули в голову и бока разбегавшиеся в панике люди. С грехом пополам он поджёг и раскидал остатки боеприпасов, нащупал едва не раздавленный футляр и бросился вслед за Антоном.
Оцепления со стороны кремлёвских стен практически не было, организаторы рассудили, что тут защищать концертную площадку не от кого. Легко сметя хлипкое ограждение, толпа растеклась вдоль стен, унося с собою и редких людей в форме. Некрополь остался без охраны.
На шум из Мавзолея выскочил пожилой мужчина – любопытный научный сотрудник решил поглазеть на происходящее.
В тот же миг на него налетел огромный, как он потом рассказывал следователям, мужик в спецназовской чёрной униформе. Голос у него был хриплым и басовитым, с явным акцентом, не то английским, не то кавказским. Лица боевика, опять же, по рассказу потерпевшего, не было видно: то ли шлем такой, то ли маскировочная раскраска, то ли просто так потемнело в глазах от шока. Затащив его в Мавзолей, «спецназовец» достал динамитную шашку и, угрожая поджечь фитиль, потребовал открыть саркофаг и извлечь из него тело. Потом прибежал второй налётчик, с гробом на ручке.
С этого момента показания работника Научно-исследовательского центра биомедицинских технологий стали ещё более путанными. Удалось лишь выяснить, что вообще этот учёный делал в Мавзолее в столь поздний час. Оказалось, вновь – роковое стечение обстоятельств. Именно в этот злополучный день он выпросил у коменданта Мавзолея разрешение остаться на объекте допоздна, якобы какие-то опыты ночные проводить. А на самом деле хитрец собирался вспомнить молодость и бесплатно попасть на концерт. Услышав возросший гул, он решил, что самое время присоединиться к веселью…
Часть произошедшего далее удалось восстановить по записям камер видеонаблюдения.
Трясущийся от страха учёный расторопно, даже чересчур, бросился выполнять требования нападавших. Тот, что помельче, раскрыл свой футляр, а рослый с научным сотрудником аккуратно в него уложили мумию.
Когда оба налётчика удалились, мужчина немного посидел на полу и, спустя полчаса, скрылся в техническом помещении.
Там его и нашли через сутки, когда сняли оцепление и на объект смогли попасть коллеги несчастного. К тому времени он выпил весь запас медицинского спирта и потом ещё две недели отлёживался в стационаре.
Глава II
– Слышала ты? Ильич воскрес! – выпалила с порога Елена Никаноровна и для убедительности страшно выпучила глаза.
– Господь с тобой! – Анна Евгеньевна истово перекрестилась на иконки в красном углу. Потом пошарила взглядом по трюмо и, найдя там бюстик Ленина, на всякий случай перекрестилась и на него.
– Истинно тебе говорю – второе пришествие! – Елена Никаноровна перекрестилась в свою очередь и без приглашения села на табурет сбоку от двери. – Что деется в мире-то, из мёртвых восстал! Выкрали же давеча его из Мавзолея, вызволили из стеклянного гроба – так он и ожил!
Анну Евгеньевну надвое рвали противоречивые и чудным образом уживавшиеся в ней всю сознательную жизнь чувства: религиозная преданность Иисусу и коммунистическая – заветам Ильича. Бабка Ленка сейчас, вот тут, напротив сидящая, обычная бабка с плохим восьмилетним образованием внезапно собрала в одну, простую и понятную, а, главное, спасительную мысль все метания души, терзавшие Анну долгие годы. «Вот, идея-то простая: Он (она украдкой бросила взгляд на иконку) и Он (перевела взгляд на Ленина) – суть одно!» – радостное прозрение билось в висках пожилой женщины и кружило голову, сердце ёкнуло и, казалось, не билось уже минуту.
Вслух она произнесла, однако, совсем иное, да настолько, что сама себя удивила:
– Быть того не может! Шутки какие-то шутят. Скоро найдут да обратно привезут, вот увидишь, аккурат, как лето к нам придёт.
Если верить висевшему на стене отрывному календарю, на дворе было как раз лето, июнь начался. Эта обыкновенная для жителей захудалого сибирского села с чудным названием Захрапнево оговорка – «когда к нам придёт» – многое объясняла. И их сибирский характер, и особое миропонимание… В нём и фатализм, и отрешённость, и скепсис, и ирония. Календарь и времена года никогда там не сходились, как и разные планы и обещания. Для захрапневцев что приход лета, что газопровод до деревни, что второе пришествие были одинаково абстрактными понятиями. Но ни Анна Евгеньевна, ни Елена Никаноровна об этом не думали, всё шло как-то само собою.
– Выходка хулиганская, молодёжь анархистская балуется, – продолжила Анна Евгеньевна, – по всем каналам сто раз говорили!
– Ты же не знаешь главного-то! – Елена Никаноровна быстро оглянулась по углам, будто ища там чужие уши. Странная привычка осталась ещё с советских лет. Хотя ни тогда никому не нужны они были в своём Захрапнево, ни тем более теперь, когда в ходе неуклонного улучшения макроэкономических показателей из села исчезли две трети жителей, газ и водопровод. Тем не менее, баба Лена перешла на заговорщицкий шёпот:
– Вся правда сейчас в Интернете только! В центре-то, в Знаменском, Интернет есть у людей, они же знают!
Анна Евгеньевна подвинула стул ближе к подруге, присела, наклонившись вперёд, а та вдохновенно продолжила:
– И у Арсентьевны, и у батюшки даже, у отца Всеволода! Они все видели, живой он, воистину, сам читал обращение к народу!
Елена Никаноровна ещё раз перекрестилась и прошлась сканирующим взглядом по углам.
– Конец веков настаёт и последняя битва, говорю тебе! В России неспокойно уже, военные шевелятся, народ поднимается. Отец Всеволод говорит, что пришло время для великой миссии России, молится он денно и нощно, и нам велит!
Анна Евгеньевна неожиданно заплакала. Поток информации был столь велик, что с ним не справлялся ни мозг, уже закипавший, ни сердце, только сейчас отошедшее и начавшее громко стучать кровью в висках. Но сочетание слов и имён, перед которыми Анна испытывала безусловный пиетет, сделало своё дело. После «отца Всеволода», «Интернета» и «великой миссии России» рассудок сопротивляться более не мог.
– А в чём миссия-то? – сквозь слёзы спросила она.
Но вопрос остался без ответа. Баба Лена рванула к окошку с несоразмерной возрасту прытью. Приоткрыла его, прислушалась.
– Слышишь? Военные идут!
Анна Евгеньевна осторожно поднялась со стула. Известий за последние полчаса было столько, что, не дай Бог, удар сделается. Тихонько, шажок за шажочком, подошла к окну. Действительно, издалека, откуда-то из-за леса, слышался гул. Там раньше была дорога, военные проложили в начале семидесятых. Говорят, готовили незаметную переброску войск к китайской границе. Гражданским дорога там была ни к чему – ни лес возить, ни ехать куда-то. Она вела из ниоткуда в никуда, исключительно военная забава. И гул был знакомый, лет двадцать с лихом назад такой слышали. Когда военные ещё что-то в лесах своё репетировали, а не сидели на базах, охраняя то имущество, что не успели разворовать после распада Союза.
Анна Евгеньевна улыбнулась. Ей было приятно, что хоть что-то ещё работает. И она с удовольствием различала в этом далёком шуме и рык моторов, и лязг гусениц. Холодок пробежал по её спине, точно как в молодости, когда они, ещё девчонками, мечтательно поглядывали на молодых командиров, верили и в миссию, и в непобедимость, и в построение коммунизма… Да и сейчас, какие они бабки? Лене – шестьдесят восемь, ей – шестьдесят пять. Видела она по телевизору, как их ровесницы, такие же послевоенные дети, немки, отдыхают на курортах с голыми сиськами. Стыдобища, конечно, но зависть брала. Они в платки не кутаются и бабками друг друга, наверняка, не называют. Бывшая сельская учительница Анна Евгеньевна ушла мыслями далеко, она улыбалась и плакала одновременно.
***
В поточной аудитории было как обычно: чуть воняло сыростью, тускло светили, периодически помаргивая, лампы дневного света. Зачем отдавать под такие нудные предметы огромное помещение, непонятно было. Со всего потока, и без того небольшого, на философию ходило от силы человек двадцать. Рассредоточившись по ярусам аудитории парами, тройками, реже четвёрками, они внимали. Пятеро с двух первых рядов, чётко решившие для себя и родителей, что окончат МГУ с красными дипломами, внимали преподавателю. Средние ярусы обычно внимали друг другу. Последние внимали Морфею. А один особо циничный тип, Серёга Журавлёв, забирался на самую верхотуру и читал научные журналы, изредка всхлипывая в истеричном смехе. Наверняка он что-то предварительно принимал для расширения сознания.
Хорошо, что философия ждала студентов факультета биоинженерии и биоинформатики на четвёртом и пятом курсах, когда разум малость окреп, а характер закалился. Молодёжь с иных факультетов, где философию ставили в расписание по старинке, быстро и практически безболезненно для гибкой первокурсной психики миновала это испытание. Студенты отмучились, отписались на форумах и в соцсетях по поводу бесполезного предмета и забыли. А этим без пяти минут биоинженерам кое-что запало в мозг, зацепило осколками сомнений цельную до поры картину мира.
Лекцию потоку Кирилла и Антона в этот день читал Михаил Александрович – редкое исключение из занятной и пёстрой философской компании кривых, косых, алкоголиков, коммунистических старых дев и просветлённых лысеющих молодых мужчин, вечно пахнущих восточными благовониями. В целом адекватный, хотя и любил иногда пуститься в ностальгические воспоминания о временах, когда студенты-философы не занимались ерундой, а периодически сходили с ума и выпрыгивали из окон университетской сталинской высотки.
Он даже выглядел прилично, несмотря на то что взяток не брал. Его единственный костюм ещё советского пошива выглядел безупречно, хотя жены у Михаила Александровича не было. Он жил в общежитии уже лет тридцать, с момента поступления в МГУ. По мере карьерного роста его жилая площадь увеличивалась и сейчас уже достигла пятнадцати квадратных метров при полном отсутствии сожителей. Личная комната практически в центре Москвы, костюм, холодильник, телевизор, подаренный кафедрой на пятидесятилетний юбилей – что ещё нужно человеку, углублённому в докторскую по русской религиозной философии XIX – XX веков?
Было очевидно, что на способности этой «биомассы» к философии он давно поставил жирный крест. И не питал иллюзий даже относительно тех студентов, что сидели в первых рядах и знали, кто написал «Феноменологию духа». «Биомассой», разумеется, вслух он закреплённых за ним биоинженеров не называл – исключительно за глаза, на кафедре. Но студентам это обзывательство было прекрасно известно, благодаря неподдельной атмосфере взаимопомощи и дружбы в преподавательских коллективах, где каждый стремился максимально полно передать подрастающему поколению информацию о своих коллегах, иногда вплоть до интимных подробностей. Но Михаила Александровича бог миловал: кроме несдержанности на язык, других пороков за ним замечено не было.
Со своей аудиторией он отрабатывал номер, играя в свойского рубаху-парня, ведь ему надо было на что-то жить, а чем больше положительных отзывов от студентов, тем выше шансы получить дополнительные академические часы. Поэтому он слушателей старался не утомлять, а развлекать, иногда уж совсем переходя грань и воплощаясь в лечащего врача безнадежных дебилов. Умные мысли он расчётливо оставлял себе и декану – здравому мужику, бывшему своему научному руководителю, закованному нынче в костюм и кресло, но любящему вспомнить лихие научные годы за рюмкой. Только в эти моменты духовного соития в глазах Михаила Александровича пропадала то ли сумасшедшинка, то ли маниакальная ненависть к прожигающим жизнь безмозглым созданиям, и появлялся здоровый пьяный блеск.
Сегодня Михаил Александрович прогуливался чётким мерным шагом от кафедры до выхода и обратно, непрерывно говоря и жестикулируя, периодически бросая безумный взгляд куда-то в центр аудитории. Средние и задние ярусы, увлечённые вопросами последнего секса, последнего фильма и последнего гаджета, самоуверенно думали, что сумасшедший доцент их не замечает. На самом же деле в голове преподавателя всё ещё тлела надежда привлечь внимание скучающей аудитории. В конце концов, проще и доступнее, чем он, с кафедры никто лекций не читал. Михаил Александрович был в запале, спецкурс по философским основам биоинженерии давал простор для авторского подхода.
– Мы привыкли воспринимать лидеров коммунистической революции как воинствующих атеистов, убеждённых в том, что в мире царят законы материализма, и нет места ничему, что не объясняется этими научными законами. Так ведь?
Он обратил распростёртые руки к аудитории и, не дожидаясь никакой реакции, самозабвенно продолжил. Всё это было бы похоже на театр одного актёра, если бы не пять ботанов и неожиданно заинтересовавшийся темой Кирилл. Философией он увлекался со старших классов, но неприязнь к марксизму-ленинизму впиталась сама собой из окружавшей его атмосферы. Поэтому только неожиданный поворот темы мог заставить его слушать про лидеров компартии.
– А между тем вся верхушка большевиков была точно так же маниакально увлечена религиозно-мистическими учениями, – Михаил Александрович указующим перстом ткнул в направлении одной из моргавших ламп, – как и любое другое тайное общество в истории человечества!
Преподаватель остановился и взглядом победителя обвёл скудную аудиторию, с упоением отметив про себя, что двое со средних рядов отвлеклись от своих смартфонов. Одобрительно хмыкнув, он продолжил, совсем войдя в раж, уже почти крича и округляя глаза.
– Они стали с ума сходить после того, как на них вдруг свалилась власть над огромной империей. Им, как и любым тиранам, захотелось стать бессмертными. Но, в отличие от богобоязненных кровопийц прошлого, они думали, что это им по силам.
Всё это настолько не вязалось ни с названием спецпредмета, ни с прослушанным ранее курсом истории философии, плюс тихий маньяк (как между собой ещё с первого знакомства прозвали его студенты) Михаил Александрович так разошёлся, что свершилось чудо: лишь двое пятикурсников продолжали мирно сопеть, а остальные недоуменно пялились в сторону кафедры.
Кирилл уже растолкал увлечённо перекидывавшегося SMS с какой-то новой знакомой Антона и вкратце ввёл его в курс дела.
– Сейчас уже не установить, кто первый из большевиков проникся учением русского философа, основоположника космизма Николая Фёдорова. Но факт, что к моменту смерти Ленина уже вся большевистская номенклатура свято верила в возможность физического воскрешения, которое Фёдоров провозгласил целью человечества! – продолжал Михаил Александрович, в своём воображении уже перенёсшийся в тело Цицерона, вещающего толстым и ленивым сенаторам. – Причём это было тайное знание. Никто из призванных бальзамировать тело Ленина, изымать и консервировать его мозг, никто… – «Цицерон» замер в театральной паузе, – не знал, зачем это было затеяно.
***
Из-за леса показалась голова колонны. Дальше идти можно было только через Захрапнево, военная дорога заканчивалась примерно за километр до села. Непонятно, чем руководствовались армейские строители, наверное, надеялись, что поле меж двумя дорогами введёт противника в заблуждение.
Гражданская дорога тут ранее тоже была ничего, кое-где даже выглядывали из-под разрушенного полотна остатки бетонных плит. Видимо, рассчитывали на проход тяжёлой техники. Но потом забыли. В последний раз танк тут видели в позапрошлом году. Солдатики выпивали, да кончилось не вовремя. Бензина для машины нет, но танки-то всегда заправлены! Приехали за добавкой в сельмаг. Тоже отстали от реалий, сельмага не было уже года три. Но вояк пожалели и продали самогонку, хоть и для себя гнали.
Сегодня же было какое-то невиданное шоу. Грохот нарастал. Колонна уже почти на километр вытянулась из леса, приближалась к селу. Смеркалось, и что-то разглядеть вдали было проблематично, но по звуку угадывалось, что тут далеко даже до её половины. Шла, видимо, целая бригада – остатки мотострелковой дивизии, что стояла в лесах в советские времена, как бы скрывшись от вражеской разведки, хотя уже тогда ясно было, что так ничего не спрячешь.
Население всех двенадцати, оставшихся целыми, домов Захрапнево вывалило на дорогу. Хлеб с солью решили не выносить, ибо цель военного похода была непонятна. Но для командира приготовили здоровенный и совсем не мутный пузырь. Отборная самогонка, чистили и марганцовкой, и активированным углём, даже бросили в бутыль для запаха корицы. Обычно такая шла на стол районному начальству, раз в полгода заезжавшему проверить, не все ли уже померли. Было подозрение, что только этого и ждут, чтобы списать село совсем и отрубить электричество. Отборная самогонка, похоже, тратилась зря, но вера в начальство и светлое будущее была неистребима. Всё равно что-то просили, на что-то надеялись. Начальство напивалось, багровело, добрело, проникалось средневековым раболепием подданных и обещало небесную манну или хотя бы вернуть газ.
От колонны отделился уазик, украшенный, как на параде, российским триколором и флагом бригады.
Командир, выпрыгнувший из машины, был статен, молод и красив, форма сидела, как влитая, волосы русые, глаза почти синие. Бабки вздохнули.
– Чёли, на Омск идёте, иль в Казахстан? – обыденно, хотя волнение и чувствовалось в голосе, спросил Петрович, один из двух оставшихся в деревне мужиков. – Иль война какая?
Командир подошёл вплотную, принял бутыль в объятия, передал подоспевшему адъютанту. Посмотрел строго и внимательно в глаза Петровичу, потом обвёл взглядом бабок и второго мужичка деревни, Михалыча, ещё с похмелья не понявшего, что происходит.
В голове майора Чернова, по стечению обстоятельств возглавившего целую бригаду, кипели и роились, сталкиваясь и мешая друг другу, мысли. Это была первая встреча с населением с того момента, как он принял серьёзнейшее решение, разоружил командира бригады и повёл бойцов спасать Россию. Он с детства мечтал об этом, о высокой миссии. Потом военное училище и замызганные гарнизоны, нищета, мысли о пропавшей стране сильно его дух подломили. Даже воспоминания детства, иногда прорывавшиеся в его голову со знакомыми запахами или предметами, уже не будоражили его, а только больше ввергали в депрессию. Сейчас же наступил тот самый час проверки: перед ним в согбенном и бледном виде народ России, настоящий, а не те особи, что от его имени в Интернете пыхтят злобой и неудовлетворённостью по каждому поводу. И от того, как эти люди его воспримут – способен ли он предстать в образе спасителя нации, будет ли он героем или объявлен предателем – сейчас всё решалось.
– Я… – Чернов захрипел и закашлялся. – Я представляю нейтральные вооружённые силы России.
Бабки вопросительно вытаращили глаза. Майор растерялся.
– Вы новости-то знаете?
Впечатлительная и самая старая из захрапневцев бабка Зина охнула и картинно села в кучу сухой прошлогодней травы, схватившись за сердце.
– Война, чёль?
– Какие новости, сынок? – вступила в разговор Анна Евгеньевна. – По телевизору никаких новостей уже месяц как нет, у нас два канала всего ловит, смотрим развлекательные программы. Уж лет за пять все старые показали.
Чернов замялся, героический образ растворялся на глазах, ещё не успев воплотиться в реальность.
– Сумятица в России! – заговорил он старым слогом. – Брожение в умах, брожение в массах!
Некстати совсем выпал, звякнув, брелок, когда он решил вынуть руку из кармана. Майор нагнулся, поднял, окончательно выйдя из роли декабриста. Постоял ещё с полминуты, разочарованно обзирая захрапневцев, которые порушили, не ведая того, все его детские мечты, плюнул про себя на попытки предстать интеллигентно и загадочно.
– Слухи распустили, будто Ленин воскрес, – лицо Чернова сделалось по-военному жёстким, голос – не терпящим возражений. Он словно вернулся в привычный для себя гарнизон к потным и тупым солдатам, к жирным и таким же тупым генералам. Мираж рассосался, высокий слог стал не нужен. Надо было быть понятным и кратким, быстрым и решительным, простым и бедным, как в жизни, так и в речи – самим собой. Это Россия, как ты не выкручивай мысли и словеса, в памяти останется только, что студент зарубил топором старушку, так надо с главного и начинать. – Оживились всякие враги, назвались красными, хотя там ни капли красного и нету, разве что кровь, которую они проливают! Взяли Питер. Власть никчёмна. Армия за народ. Народ ничего не понимает. Мы решили держаться нейтралитета. Власти сопротивляться не можем, у нас присяга. Красных поддерживать не станем, они предатели. Не дадим разрушить страну. Идём на Москву, но крови проливать не будем. Возьмём под охрану, чтобы не погубили сердце России всякие там…
Захрапневцы не паниковали, но и воодушевления никакого не испытывали. Они стояли и смотрели на Чернова, как мудрый учитель на хулиганящего ученика, уставший от его проделок, но и видящий заранее его будущее. Они были пассивны, а во взглядах читалась усталость.
– Может, поешь чего? – прервала поток красноречия командира Елена Никаноровна. – Всех-то мы, конечно, не накормим, ну а ты успеешь покушать, пока твои мимо проходить будут.
На глазах Чернова выступили слёзы. Он махнул рукой, глубоко вздохнул:
– Ладно, бабки. Двигаться нам надо без промедления. Может, потом когда и спасибо скажете.
Уазик развернулся и уехал вслед за поворачивавшей уже на гражданскую дорогу колонной.
Сельчане постояли, переглядываясь, и, не сговариваясь, разом пошли по домам, переваривать информацию. Петрович единственный помчался бегом, вприпрыжку. Никак чемодан паковать собрался, сына ехать спасать, служащего где-то в Западном военном округе.
Анна Евгеньевна зашла в дом и, хотя уже стемнело, не стала включать свет, зажгла свечу. Вздохнула глубоко, сквозь слёзы, налила стопку, выпила. Встала у окна, вглядываясь в совершенно чёрную пустоту за ним.
Раньше там было уличное освещение. Когда его отключили, было поначалу очень страшно. Особенно лет десять назад, как народ поразъехался, да собак мало стало, прямо к селу начали подходить волки. Сейчас уже все привыкли и к темени, и к зверью.
Тогда же, десять лет назад, скончался, наконец, от беспробудной пьянки её муж. Отмучился и её отмучил. Появилась то ли свобода, то ли безнадёжность. Она и сама толком не понимала эту пустоту.
– Ночь, улица, фонарь, аптека, – привычно для себя начала декламировать Блока Анна Евгеньевна, но с другими совсем смыслами. Слёзы бежали по щекам, она давно отучилась их смахивать.
Сколько стихов было перечитано перед этим окном? За годы, что закрылась школа в Захрапнево, а в райцентре, в Знаменском, школу оптимизировали, на две трети сократив преподавательский состав, она выучила уже почти весь серебряный век. Такого профессионального подъёма не было даже в молодости, только учить стало некого. Теперь своими стихами лишь волков пугать за окнами да себя тешить. Она декламировала, активно жестикулируя руками, со всё нараставшим накалом, сквозь слёзы, которые нестерпимым солёным вкусом жгли язык. Наверное, так и делали голодные и сумасшедшие от безысходности вокруг русские поэты.
Анна Евгеньевна видела перед собой сквозь блики свечи в чёрном окне Неву и отсветы фонарей в ней. Оттуда она, более сорока лет назад, приехала по распределению из ленинградского пединститута в село Захрапнево. Приехала навсегда, как оказалось.
Осталась лишь в воспоминаниях огромная, с остатками былого буржуйского пафоса, коммуналка на Синопской, очень удачно заселённая, практически одними родственниками. Из чужих – только тихая седая парочка неведомо как выживших вдвоём блокадников. Дедок, правда, был не особо приятным, поговаривали, что в блокаду он был в партактиве и доступ имел, кроме как к одинаковому для всех пайку, ещё и к обкомовскому буфету. Но разговоры разговорами, а старики никому не мешали и не досаждали. Потом умерли её родители, кто-то переехал. Когда была приватизация, одни из родственников сумели на себя переписать всю жилплощадь, каким-то бюрократическим чудом вычеркнув всех законных претендентов, включая Анну Евгеньевну, и выселив никак не хотевших помирать стариков в приют. Возвращаться было некуда.
Нет, определённо Блок другие мысли вкладывал в свои строки, читаемые Анной Евгеньевной сорванным голосом.
…И повторится всё, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.
Она села, почти упала на стул, уронила на стол руки и затем так же, совершенно не пытаясь контролировать скорость падения, с глухим стуком – голову. Начала читать что-то ещё, а, может, и по второму кругу то же, с нею такое часто бывало. Но уже не слышно было ничего сквозь рыдания, только стук засохшего кулича, что привыкла хранить до следующей Пасхи, он дрожал и бился о стены хрустальной вазы на столе. Она рыдала так сильно, что стол ходил ходуном, а кулич пытался выпрыгнуть, устав от ежедневных таких испытаний.
***
Оживившаяся аудитория почти в полном составе внимала довольному успехом Михаилу Александровичу. Он всё так же прогуливался, но уже куда более спокойно и размеренно.
– Да и, собственно, сами вожди компартии не до конца представляли себе, во что верили. Они в учении Фёдорова уяснили только одно: после искупления Христом первородного греха людей, дальнейшее спасение их и окружающего мира целиком зависит от самих людей.
Преподаватель остановился, о чём-то высоком, понятное дело, задумался, отрешённо уставившись в одну точку. Продолжил через несколько секунд.
– Сам Фёдоров был глубоко религиозен, и его философия общего дела, как её назвали ученики, виделась ему вполне логичным продолжением христианского учения. Просто он считал безнадёжно устаревшим церковное, по сути средневековое, христианское мировоззрение. После Коперника человечеству открылись новые, космические перспективы. И развитие науки дало возможность людям бороться с природной стихией, самостоятельно обустраивать планету. А в будущем, как был он убеждён, в момент достижения окончательного торжества общего дела человечества необходима победа над последним врагом – смертью. Эта идея общего дела нравилась очень многим. Фёдоров – не особо знаменитая фигура, он сам чурался известности. Между тем о нём и его учении восхищённо отзывались современники – Толстой, Достоевский, Циолковский, Владимир Соловьёв… Само по себе физическое воскрешение было в его учении одним из этапов человеческого прогресса.
Михаил Александрович пребывал в каком-то полусознательном состоянии, речь его становилась всё медленнее. Вдруг он резко дёрнул плечами и головой, как собака, отряхивающаяся от воды, словно скидывая охватившее его наваждение. Внимательно оглядел зал, местами уже заскучавший от потока мудрёных слов. Понял, что малость переоценил этих уже практически выпускников и поспешил закруглиться как можно проще, чтобы хоть что-то в сознании «биомассы» осталось.
– В общем, поводов ценить Фёдорова было предостаточно у тогдашней прогрессивной общественности, среди которых были и будущие революционеры. Он считал, что общее дело заключается во всеобщем единении, синтезе сословий, народов, культур, наук, религий ради достижения реальной власти над природой. И по достижении этого всечеловеческого единства, когда будут побеждены все болезни и природные стихии, а наука и вера объединятся в совершенную религию, тогда станет доступно воскрешение наших отцов – всех предыдущих поколений! – Михаил Александрович скептически ухмыльнулся, не до конца, очевидно, разделяя мечтания цитируемого старца, но глаза его по-прежнему горели. – Причём Фёдоров даже описывал некоторые, скажем так, технические моменты. Он считал, что колебания атомов и молекул вызывают волны, из которых формируются некие лучистые образы любого существа, когда-либо жившего. И вот, собирая атомы по этим образам в тела, можно будет достичь великой христианской цели, победы над смертью, и воскресить умерших.
– Всех? – раздался звонкий девичий голос со смешинкой.
Михаил Александрович улыбнулся.
– Ну не совсем, только достойных. Но их, как предполагал Фёдоров, будет очень много, настолько, что всё человечество просто не поместится на планете Земля. Выход он тоже предложил – заселять Вселенную. Именно поэтому, собственно, в последующем это учение назвали космизмом.
В аудитории раздался смех нескольких голосов, но в этот раз преподаватель недовольно поморщился.
– Между прочим, я рассказываю вам, конечно же, очень общо. А учение на самом деле обширное и стройное. Есть в нём, безусловно, некоторая наивность, особенно, что касается научных моментов. Взять, к примеру, эти лучистые образы. Предположим, они действительно есть. Хотя, что там предположим, – преподаватель махнул рукой, словно делая ставку в карточной игре: «эх, была не была!», – наверняка колеблющиеся атомы создают волны определенной частоты. Но возникает вопрос, на какое расстояние от планеты эти волны могут уйти, если, к примеру, человек две тысячи лет назад умер? Или эти лучистые образы удерживаются гравитацией, как материальные частицы? Но до какого момента это возможно, нельзя ведь представить, что это волновое движение не угасает со временем и расстоянием, а, учитывая количество умирающих ежедневно, растёт год от года?
Михаил Александрович внимательно вгляделся в глаза сидевших на первом ряду отличников, ища в них мысль и сопереживание, словно призывая подключиться к невидимой дискуссии с Фёдоровым.
– И это только вопросы научного характера. Достаточно было в отношении теории Фёдорова и его учеников и философской критики за непоследовательность, за смешение натурализма и мистицизма, попытки заменить христианские догматы материалистическими теориями.
Михаил Александрович понял, что слишком увлёкся критикой, и сейчас в головах студентов из только что вложенных туда познаний вмиг образуется неаппетитная каша.
– Тем не менее даже критики относились к этому учению более чем серьёзно. К примеру, оно оказало очень сильное влияние и на Циолковского, и позже на Королёва. Фёдоров оставил своё имя в истории космонавтики, несомненно. В 1961 году, когда Гагарин впервые облетел Землю, на Западе даже выходила статья «Два Гагарина», где вспоминали русского философа, который на самом деле был тоже Гагарин! – аудитория изумлённо зашумела. – Да-да! – победно продолжил преподаватель. – Фёдоров – это фамилия его крёстного отца, а сам он считается незаконнорождённым сыном князя Гагарина.
Лектор уже занял место за кафедрой, сложил на неё руки, удобно облокотившись, и довольно обозревал ожившую аудиторию.
– Но вернёмся к теме. Из атомов ли собирать, по лучистым ли образам – это не суть важно. Главное, что Фёдоров считал, будто наука дана человечеству для того, чтобы самостоятельно справиться с несовершенством мира, чтобы люди стали божественным орудием вместо падших ангелов. Эта идея безумно нравилась большевикам. Фактически это учение стало их новой, тайной религией. В лучистые образы, я думаю, они не особенно-то верили. Поэтому, когда спустя двадцать один год после смерти Фёдорова скончался Ленин, они решили поступить наверняка и тело вождя забальзамировать, в чёткой уверенности, что спустя годы наука достигнет необходимого уровня, чтобы претворить идеи Фёдорова в жизнь.
Аудитория загудела, обсуждая новое и чудное знание. Михаил Александрович счастливо улыбался, что было для него большой редкостью.
– А вы что думали, его для красоты бальзамировали, что ли? – в голосе чувствовался смех. – А потом кроме него ещё целую плеяду большевистских вождей? Так же как некоторые нувориши сейчас замораживают своих умерших родственников в надежде, что в будущем технологии усовершенствуются, и можно будет их разморозить и воскресить, точно так же действовали большевики. Только у них не просто надежды были, а целое учение и настоящая вера, посильнее, чем у многих религиозных людей. Причём коммунисты исправили, как они считали, ошибку древних египтян. Они позаботились о сохранении интеллекта и памяти своих мумий, законсервировав их мозги в специально созданном для того Институте мозга. Так что, господа, история большевизма ещё не закончена, – Михаил Александрович уже откровенно рисовался, театрально развёл руки, – мумии у кремлёвской стены и их мозги в склянках лежат и ждут своего второго пришествия. Наука с тех времён, вам ли не знать, действительно, очень серьёзно продвинулась вперёд.
Финал вышел совсем неожиданным: Михаил Александрович, тот самый «тихий маньяк», подмигнул студентам и рассмеялся.
Глава III
Ленина в футляре бросили под кровать. И тут же, обессилев, на неё плюхнулись, не сняв свои пуховики. Несмотря на то что самое страшное, казалось, уже позади, трясти особенно сильно начало именно сейчас.
Пару минут сидели молча, борясь с эмоциями поодиночке. Антон встал, вздохнул и отправился мимо стены, обклеенной странной, от «The Beatles» до «структуры ДНК человека», подборкой плакатов, на микрокухню их съёмной однушки.
Обыкновенная московская хрущёвка, которой дважды уже продлевали «срок годности», что прелести ей не добавляло, но и цену аренды не снижало. Жили парни здесь с первого курса университета. Быстро сдружились, познакомившись ещё на вступительных экзаменах.
Оба очень разные, потому и сошлись. Антон из респектабельной советской семьи: престижная школа, большая квартира в центре Питера, на Синопской набережной. Кирилл из маленького, забытого богом города со странной этимологией, Мегидовки, в средней полосе России. Обычный двор с алкашами, среди которых ошивался одно время и его папаша, в полном смысле слова бывший интеллигентный человек, некогда директор театра, с позором изгнанный за постоянные пьянки сначала с работы, а потом и измученной мамкой из дому.
Кирилл детство провёл в обнимку с книжками, вырос парнем рассудительным и, по мнению Антона, часто до тошноты нудным и правильным, однако при всём этом человеком хорошим и в общении вполне сносным. К тому же парень не обладал примечательной внешностью, роста был ниже среднего, одним словом, совершенно не составлял красавцу-Антону конкуренции за девичьи сердца. Это делало многолетнее соседство взаимоприемлемым и бесконфликтным.
Всё шло к тому, что и работать потом будут вместе всю жизнь. Были бы разнополые, давно бы пришлось пожениться от такой безысходной предопределённости.
Кирилла в «сожителе» тоже всё устраивало. Об Антоне он привык думать, как о непутёвом гуляке, парне, безусловно, не бесталанном (вот и в аспирантуру он поступил безо всякого труда), но прожигающем жизнь и чётких планов на неё не имевшем. Всякие философские разговоры о смысле, бытии, духе Антон всегда пресекал в зародыше, ему это было скучно и неинтересно. Учёба увлекала его эпизодически, занимался активно он только темами, которые ему самому нравились. Иногда Кирилл даже завидовал Антону. Но это только в редкие моменты, когда отчаивался от своих сложных размышлений, и душа просила покоя и простых радостей. Но в целом, конечно, Кирилл был уверен, что на голову превосходит друга почти во всём, если не считать животных параметров: физической силы и красоты.
Тут же, в критической ситуации, он впервые почувствовал себя ведомым, зависимым от решительности и предусмотрительности Антона. Он начал удивлять с того момента, как гипотетические разговоры «ах, как неплохо было бы заполучить эти мощи» внезапно и именно по воле Антона переросли в реальный проект.
А сегодня он читал Маяковского. Неожиданно. И, казалось, без причины. Кирилл был уверен, что Антон вовсе ни одного стихотворения наизусть не знает, не вязалось это никак с его образом. И потом, он же шесть лет молчал! Откуда вдруг серебряный век? Как он пересёкся с животными инстинктами «альфа-самца»?
Антон вернулся из кухни с початой парнями ранее бутылкой коньяка, внутри плескалась жидкость сомнительного качества, но с гарантированным эффектом.
Выпили из стоявших на рабочем столе кружек с коричневыми разводами по краям. Антон глубокомысленно вздохнул и по-философски долил себе одному, выпил.
– Ты помнишь «Хорошо!» Маяковского? – наверное, всплеск адреналина в связи с сегодняшней операцией что-то в антоновском мозгу, глубоко спящее, задел. – Когда он прогуливался по набережной и узнал в греющемся у костра солдате Блока?
Не дожидаясь ответа, Антон начал читать, очень артистично и вдохновенно, чеканя каждую «ступеньку»:
Кругом
тонула
Россия Блока…
Незнакомки,
дымки севера
шли
на дно,
как идут
обломки
и жестянки
консервов.
Антон потянулся к бутылке, но Кирилл его опередил, помня историю предыдущего долива. Разлил поровну сначала, потом подумал и восстановил справедливость, плеснув себе ещё.