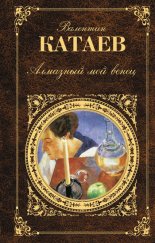Высшая мера Пронин Виктор
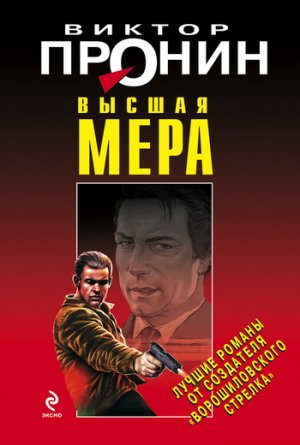
– Валера, дорогой... Иди ради бога! У меня такое чувство, что каждая минута дорога.
– Как бы мне хотелось взять их... – В голосе Брыкина неожиданно прозвучала щемящая искренность.
– Считай, что нас уже двое, – без улыбки проговорил Юферев. – Я не уйду отсюда, пока ты не вернешься.
– Я вернусь, Саша, – сказал Брыкин, махнув рукой уже из коридора.
Юферев еще некоторое время смотрел на дверь, за которой исчез Брыкин, и не было в его глазах ничего, кроме полной безнадежности. Он часто ловил себя на том, что совершенно не верит в успех дела, которым занимается. Юферев лишь исправно, настойчиво, может быть, даже цепко исполнял свои обязанности.
Надо обыскать? Обыскивал.
Надо разослать ориентировки? Рассылал.
Приходила мысль, что неплохо бы сделать запрос, установить личность, допросить того или иного человечка... Он все это проделывал, ничем не пренебрегал, но не столько проявлял какой-то там охотничий азарт, сколько заранее избавлялся от возможных упреков.
«А почему этого не сделал?» – гневно спросит какой-нибудь начальник. «Ни фига, сделал».
«А вот этого не предусмотрел?» – «Ни фига, предусмотрел».
«А до того не додумался?» – опять поднимет голос большой начальник. «Ни фига, додумался и принял меры».
И не потому Юферев частенько пребывал в подавленном состоянии духа, что не любил свое дело или же оно у него не получалось. Ни фига, дорогой читатель, получалось, и гораздо лучше, чем у других, которые неслись по жизни с горящими глазами и учащенным дыханием.
Получалось.
Но Юферев каждый раз этому искренне изумлялся. Такой вот он человек. А если и была в его глазах непреходящая удрученность, то это от ясного понимания – как бы он ни блистал в своей работе, ничегошеньки ему не изменить. Не уменьшится в городе убийств, грабежей, насилия, нисколько не уменьшится. На месте каждого срубленного отморозка немедленно, с какой-то колдовской неотвратимостью вырастали двое новых – еще жаднее, еще тупее, еще злобнее прежних. Смотрел ли он телевизор, вслушиваясь в вопли очередных провидцев с лживыми глазами, читал ли откровения очередных страдальцев за благо народное или в своем же кабинете слушал признания уличенного убийцы, его не покидало ощущение полной беспомощности – работала система воспроизводства криминального мира, работала мощно, безостановочно и, как он мог судить, весьма успешно.
Никакого просвета не видел Юферев, и не происходило ничего такого, что могло бы утешить его и пообещать хотя бы в далеком будущем слабую надежду на избавление.
Неожиданно прозвучавший телефонный звонок заставил его вздрогнуть.
– Капитан Юферев слушает.
– Привет, капитан. Рад слышать твой голос.
– Кто говорит?
– Фамилия моя Кандауров, а зовут Костей.
– Ну, здравствуй, Костя. – Юферев неожиданно поймал себя на том, что ему приятен этот звонок, что ему хочется поговорить с крутым авторитетом. Может быть, он и ждал его звонка?
– Что нового, капитан? – Голос у Кандаурова был улыбчив, но куражливости, обычного ерничанья не было, чувствовалось, что он озабочен, опечален, обеспокоен.
– Работаем, – коротко отозвался Юферев.
– Знаешь, капитан, я чувствую, что мы с тобой по одному делу работаем.
– Возможно.
– Не будь так сдержан, капитан. Мы оба делаем святое дело, следим за порядком в городе. И я не знаю, у кого успехов больше. А тут видишь, как нехорошо получилось. Это наш общий прокол.
– Значит, не твоя работа?
– Саша! Как ты мог подумать?! Ты же умный человек, покидай карты туда-сюда, потасуй колоду, и сразу все станет ясно – мне нанесен удар. Мне! Это же мой банк, ты прекрасно об этом знаешь. И я принял вызов!
– Я тоже.
– Есть успехи?
– Нет, Костя, успехов, – с неожиданной болью сказал Юферев. – Нет отпечатков, нет следов, нет вещественных доказательств... Ничего нет.
– Если будут... Поделишься?
– Сложный вопрос, Костя.
– Тогда, капитан, послушай, что я тебе скажу... Если найдешь этих ребят, отдай их мне.
– Зачем?
– У тебя ведь по-разному может получиться, – продолжал Кандауров, как бы не услышав вопроса Юферева. – Следствие, суд... Улики начнут исчезать, свидетели изменят показания, потом найдется состоятельный человек, и суд выпустит их под залог... Они, конечно, тут же слиняют... И тебе будет очень обидно. До слез. Отдай, капитан. Понимаешь... Должен быть порядок в городе. Если они от тебя умыкнут и обнаружатся где-нибудь на Канарских островах... Тогда каждый решит, что и ему можно вот так поступать, что и он может женщинам головы отрезать, а пацанам в виски втыкать разные острые предметы. Я сделаю так, что никому не захочется таких заработков. Только высшая мера, капитан.
– Значит, это все-таки не ты, – как бы про себя пробормотал Юферев.
– Обижаешь, капитан.
– Больше не буду.
– Мы договорились?
– О чем? – Юферев сделал вид, что не понял предложения. Ему требовалось время, чтобы прикинуть последствия, чтобы не пришлось потом отходить от своего же обещания – этого он не любил, знал, что и Кандауров воспримет подобное как оскорбление. Произнесенное слово – это кирпич, уложенный в стену, это камень брусчатки, – его нельзя уже вынуть, нельзя потревожить, иначе возникнет брешь в стене, в дороге, в отношениях.
– Повторить? – без раздражения спросил Кандауров, видимо, поняв причину заминки Юферева.
– Повтори.
– Хорошо... Наше общее с тобой дело – найти этих отморозков. Я обещаю – все, что буду знать... Поделюсь. И хочу, чтобы ты пообещал то же самое. Еще прошу... Если найдешь – сдай их мне. Тебе с ними не совладать. У тебя будут пропадать документы из сейфа, тебя отстранят от дела, начнется чехарда со следователями, отводы судей, потом пройдет много времени и многие даже забудут, за что их собирались судить. А когда вспомнят, отпустят под залог в десять миллионов или в сто миллионов... Это уже не имеет значения. И в тот же вечер они вылетят на Канарские острова... Кстати, как тебе понравились Канарские острова?
– Как-то не довелось побывать.
– Рекомендую.
– Обязательно посещу, – усмехнулся Юферев.
– Так вот, выйдешь на след... Не жадничай, поделись. И я тебе обещаю – отрезанные головы в нашем с тобой городе резко пойдут на убыль. Я не говорю, что они исчезнут вовсе, но их будет все меньше. А эти отморозки будут весело смеяться, когда вспомнят о тебе на Канарских островах. Или на Багамских. Или еще на каких-нибудь, не менее привлекательных. Этих островов, капитан, как я недавно узнал, видимо-невидимо.
– Но ведь все эти острова... Большие деньги. Откуда у них могут быть большие деньги, если ограбления не было? – Юферев сознательно выдал информацию – ограбления не было, только видимость.
– Даже так, – Кандауров мгновенно услышал самое главное. – Значит, все правильно и все мои подозрения обоснованны. А что касается денег... С ними ведь расплатятся, капитан, с ними щедро расплатятся. Могу тебе сказать, сколько стоит такая работа.
– Скажи.
– Тысяч пятьдесят.
– Долларов? – переспросил Юферев не столько по замедленности мышления, сколько из служебной добросовестности – все вещи, все признания и показания должны быть произнесены и запротоколированы однозначно, чтобы не было возможности что-либо истолковать иначе.
Кандауров и на этот раз его понял.
– Да, капитан, да. Пятьдесят тысяч долларов. Возможны, конечно, колебания, но это уже так... Или их облапошили, или они продешевили, или заказчик расщедрился. Так мы договорились?
– Ты не понял, что наша совместная работа уже началась?
– Понял, капитан. Но если ты хочешь, чтобы все было названо словами, я тоже этого хочу.
– Хорошо, Костя. Мы договорились. Я постараюсь найти этих ребят, буду рад, если и ты мне поможешь. Но ты – вольная птица, а я узник закона. Поэтому и сейчас, и в будущем ты это учитывай... Но мы договорились.
– Хорошо, капитан. Я буду позванивать иногда. Что-нибудь узнаю – доложу.
– Убийство странное, Костя... Ты это... Гляди в оба...
– Знаю, Саша. У меня боевая готовность. Спасибо.
– Пока. – И Юферев положил трубку.
Вроде не осталось ничего неясного, никто никому не пудрил мозги, не угрожал, но не мог, не мог Юферев освободиться от какой-то неловкости, оставшейся после разговора с городским авторитетом.
Все было сказано предельно ясно и четко, но была какая-то тягостность и в страшном предложении Кандаурова, и в его собственном согласии сотрудничать с городской бандой. Наконец до него дошло – это действительно могло вызвать замешательство в сознании, выстроенном в полном соответствии со статьями Уголовного кодекса, – главарь предлагал ему более действенный, более сильный и, если уж на то пошло, более справедливый способ и вынесения приговора, и его исполнения, нежели тот, которым обладал он, представитель государственного правосудия.
Кандауров не заискивал, Юферев тоже не лебезил, но понимал – его позиция ничуть не сильнее кандауровской, его возможности не больше, сила, которая стоит за ним, ничуть не внушительнее. И, осознав все это, Юферев тут же, не поднимаясь с кресла, решил твердо и окончательно – не отдаст он отморозков.
Ни за что не отдаст.
Пусть они спасутся, уйдут от наказания, пусть весело смеются на счастливых Канарских островах, пусть. Но сдать их Кандаурову – значит навсегда записаться в его штат.
– Надо ведь хоть иногда за что-то и уважать себя, – пробормотал он. – Я их найду, сука буду, найду! – Юферев даже не заметил, как скатился на кандауровский жаргон.
Апыхтин ходил по квартире со странным ощущением, что находится в совершенно незнакомом ему месте. Залитый кровью ковер унесли, голый пол казался чужим и даже каким-то обесчещенным. Стол тоже стоял без скатерти – Алла Петровна и ее унесла, чтобы ничто не напоминало хозяину о страшных событиях. И круглый стол, и голый пол создавали ощущение гостиницы, где он оказался случайно, ненадолго и вот-вот должен съехать отсюда, собрав свои вещички.
Пройдя в ванную, Апыхтин некоторое время стоял на пороге, напряженно всматриваясь в темноту. Он опасался включить свет, будто его поджидало здесь что-то страшное, нечеловеческое. Но, поколебавшись, все-таки нажал кнопку выключателя. Вспыхнул мягкий свет, и он с облегчением убедился, что ничего неожиданного не произошло.
А впрочем, нет, произошло.
На стеклянной полочке зеркала, в подвесном шкафчике, на раковине он увидел Катины кремы, духи, лосьоны с причудливыми названиями. Тут же висело ее полотенце, которое они вместе покупали в каком-то маленьком итальянском городке не то год, не то два назад. А шлепанцы были уже из Германии.
Апыхтин смотрел на все это, ни к чему не прикасаясь, как не мог прикоснуться к котлетам, которые Катя жарила перед самой своей смертью. Их съели оперативники, которые несколько часов искали по всей квартире следы убийц.
Не нашли.
Все эти вещички, наверное, должна была унести его секретарша, Алла Петровна. Не догадалась. Или не решилась. Не могла поступить так дерзко и самостоятельно.
Не выключая света в ванной, Апыхтин вернулся в комнату – там раздался телефонный звонок. Он постоял некоторое время, помедлил, но звонки продолжались, и он поднял трубку.
Звонил Осецкий. Как всегда – взволнован, нетерпелив, озабочен.
– Старик, ты как?
– Ничего, – ответил Апыхтин. – Нормально.
– Жив?
– Местами, – усмехнулся Апыхтин, поймав себя на ощущении, что разговаривать ему не хочется, неинтересно, и даже более того: он не вполне понимает собеседника, не вполне сознает, что говорит сам. И отделывался словечками короткими, непритязательными, которые можно истолковать и так и этак, которые можно вообще не произносить, и от этого ничего не изменится.
Да, Апыхтин как-то незаметно для самого себя смирился с мыслью, что ничего не изменится, как бы он ни поступил, что бы кому ни сказал. И эта вот покорная смиренность, похоже, больше всего озадачивала людей, которые его знали. Он выглядел спокойным, но потерянным, отвечал невпопад, и знакомые начали опасаться, как бы он не совершил какой-нибудь глупости.
– Местами – это тоже неплохо.
– А вы там как?
– Держимся, старик! – обрадовался Осецкий вопросу, на который можно отвечать не задумываясь, отвечать долго и отвлекать Апыхтина, выводить его из оцепенения. – Все прекрасно, старик! Никаких потрясений, так что ты не волнуйся, не переживай!
– Знаешь, Игорь... – Апыхтин помолчал. – Я не переживаю. Скажу тебе больше... Такое ощущение, что я уже и не могу переживать.
– Не говори так! – зачастил Осецкий. – Не говори! Пройдет, вот увидишь, пройдет!
– Как с белых яблонь дым?
– Вроде того, – брякнул Осецкий, не поняв, о каком дыме говорит Апыхтин.
– Надо же...
– Мы зайдем к тебе сегодня... Ты как?
– Заходите.
– Может, чего захватить?
– Захватите.
– В котором часу?
– Как соберетесь. – Апыхтину было совершенно безразлично, когда к нему зайдут заместители, да и придут ли вообще, что захватят с собой или ничего не захватят – это их дело.
– Ну, пока, Володя! – Осецкий постарался придать своему голосу ту сложную интонацию, которая говорила бы о том, что он охотно навестит друга, но понимает, что у того беда и большой радости по поводу предстоящей встречи высказывать не следует, плохо это, грубо. И сумел все-таки удержаться на лезвии ножа, хотя Апыхтин начисто не заметил его усилий, его мастерства и чуткости.
– Пока, – ответил он и положил трубку.
Пройдя к Вовкиной комнате, Апыхтин остановился на пороге и долго бездумно смотрел на обнаженные вещи. Поправил стул, стоявший, как ему показалось, неправильно, бестолково. Прошел к окну, отдернул занавеску. Увидев проносящиеся внизу машины, некоторое время смотрел на них, и ни единой мысли, ни единого желания не возникло в нем.
– Так ты будешь все-таки на горе Троодос? – раздался сзади знакомый голос Кати.
Апыхтин замер, испарина мгновенно покрыла его лоб, и он начал медленно-медленно поворачиваться, в ужасе от того, что увидит через секунду. Но то, что увидел, было хуже ожидаемого – за спиной никого не было. Ни живой Кати, ни Кати со вспоротым горлом – никого. Хотя нет, слабая, прозрачная тень скользнула все-таки на фоне обоев – Катя виновато держала руку у горла, чтобы не огорчать его видом своей страшной раны.
Апыхтин перевел дыхание и, стараясь шагать бесшумно, чтобы не вспугнуть затаившиеся в квартире тени, только тени когда-то живых людей, двинулся к кухне. Он уже знал, как поступить, что сделать. И знал – ничто его не остановит, ничто не помешает совершить задуманное.
Когда он уже отходил от маленькой комнаты и впереди был проход на кухню, сзади раздался веселый Вовкин голос:
– Будет, будет! Он давно собирался на Троодос.
Апыхтин понимал, что оглядываться не следует, ничего он не увидит за спиной, но все же остановился и так же медленно, опасливо повернул голову назад. Может быть, ему показалось, может быть, на самом деле ничего не было, но увидел он, увидел прозрачную Вовкину тень на фоне светлого прямоугольника двери. Вовка смотрел на него печально, так, как никогда не смотрел при жизни. И последнее, что увидел Апыхтин, – черную рукоятку штыря, торчавшего из виска сына.
Убедившись, что Вовка исчез, растворился в воздухе и не осталось даже слабой его тени, Апыхтин с какой-то больной сосредоточенностью вошел на кухню, плотно закрыл за собой дверь и, лишь убедившись, что сквозняк ее не откроет, направился к холодильнику. На губах его блуждала странная улыбка, какая может быть у человека, которому удалось ловко кого-то перехитрить.
– А теперь, – проговорил он, открывая холодильник, – мы переместимся в параллельный мир, где не будет ни этой кровавой квартиры, ни теней с железками в голове, ни жен с отделенными головами... Где и тебя, дорогой, тоже не будет, а вместо Апыхтина там без толку болтается большое бородатое существо, пьяное и ни к чему не способное.
Апыхтин достал початую бутылку водки, налил себе почти полный стакан и медленно, как прохладительный напиток, выпил до дна.
– Ну вот и все, – сказал он, возвращая бутылку в холодильник. – Вот ты уже и в параллельном мире... Здесь ничего у тебя не болит, никто по тебе не страдает и ты тоже ни по ком не плачешь... Или все-таки остались какие-то переживания?
Он замер в нескладной позе, прислушиваясь не то к себе, не то к событиям, происходившим за дверью, в комнате, и, понимающе кивнув, снова потянулся к холодильнику.
– Все-таки ты еще не весь переместился... Какая-то чрезвычайно важная часть осталась в этом больном мире... Но ты знаешь, что нужно делать... Не впервой, дорогой, не впервой...
И он выпил еще полстакана водки.
– Ну вот, теперь совсем другое дело, теперь ты уже весь там...
И Апыхтин бесстрашно открыл кухонную дверь, прошел в комнату. С подчеркнутой старательностью он обошел всю квартиру, заглядывая за каждую штору, под столы, распахивая дверцы шкафов, а в спальне даже лег на пол, чтобы посмотреть, не прячется ли кто под низкой кроватью.
Никого он не увидел, и слабой тенью никто не скользнул перед его глазами. И никаких звуков не услышал. Ни голосов, ни скрипа двери, ни легких шагов.
– Ну вот, – удовлетворенно пробормотал Апыхтин, тяжело поднимаясь с пола. – Что и требовалось доказать.
Но все-таки на его лице оставалась настороженность, и, передвигаясь по квартире, он опасливо косил глазами по сторонам, будто все еще не был уверен, что удалось ему переместиться в параллельный мир, где нет боли, где никто о нем не пожалеет и он тоже ни по ком не заплачет.
Когда из прихожей, в полной тишине, раздался резкий звонок, Апыхтин вздрогнул и не сразу решился открыть дверь. Вначале осторожно выглянул в прихожую и, убедившись, что она пуста, посмотрел в «глазок». На площадке стояли три его заместителя, успев придать лицам выражения скорбные и озабоченные.
– Надо же, – пробормотал Апыхтин, не торопясь возвращаться в привычный мир. – Заботятся... Переживают. Ишь ты.
Он открыл все запоры своей бронированной двери, которая так и не смогла никого защитить, и распахнул ее широко, гостеприимно.
– Навеки умолкли веселые хлопцы, в живых я остался один! – пропел Апыхтин с широкой улыбкой, пропуская друзей в прихожую и закрывая за ними дверь.
Шустрый Осецкий первым изловчился пожать ему руку, обнял на ходу, похлопал тощеватой ладошкой по необъятной апыхтинской спине. Цыкин пожал руку молча, сосредоточенно и лишь подмигнул заговорщицки, держись, дескать. Басаргин посмотрел Апыхтину в глаза требовательно и твердо. Все трое держали в руках разноцветные целлофановые пакеты, наполненные явно не деловыми бумагами.
– Проходите в комнату. Рассаживайтесь кто где хочет.
– Рассядемся, – быстро ответил Осецкий и тут же начал выкладывать на стол свертки из своего пакета. – Где у тебя ножи, вилки, тарелки?
– Стаканы, – добавил Цыкин, вынимая из своего пакета одну за другой несколько бутылок водки.
– Я вижу, вы решили провести небольшое совещание? – усмехнулся Апыхтин. Все трое заместителей посмотрели на него пытливо и настороженно – в порядке ли шеф, действительно ли он усмехается и насколько здрава и осмысленна его улыбка. И тут же вернулись к своим пакетам, успокоенные – Апыхтин был в порядке.
– Что Кипр? – спросил Осецкий. – Едешь?
– Они не возражают, – ответил Апыхтин легко, без напряжения, расставляя стаканы на голом деревянном столе.
– Кто они? – спросил Басаргин.
– И Катя, и Вовка, – беззаботно ответил Апыхтин.
– Ты хочешь сказать... – начал было Цыкин, но не успел закончить, его перебил Апыхтин:
– Они были недавно, перед самым вашим приходом. Если бы вы пришли чуть раньше, то застали бы обоих. Катя, правда, неважно выглядела, руки у горла держала... Видимо, чтобы меня не пугать. А у Вовки железка из головы торчала, но он был бодрее. И голос такой звонкий, уверенный.
– Так, – негромко проговорил Басаргин и осторожно посмотрел на Цыкина и Осецкого: как, дескать, быть-то? – Значит, все-таки едешь?
– Подумаю. – Апыхтин принес из кухни тарелки, вилки, Осецкий за это время нарезал копченой осетрины, разодрал на куски курицу, разлил по стаканам водку.
– И часто приходят? – неожиданно прозвучал в общей тишине вопрос Цыкина.
– Кто? – живо повернулся к нему хозяин, прекрасно понимая, о чем тот спрашивает. И что-то мелькнуло в глазах Апыхтина, какой-то огонек затаенного интереса.
– Ну как... Ты же сам говорил... Катя и Вовка. – Цыкин был сбит с толку и вопросом Апыхтина, и его улыбкой, и наступившей тишиной, и тем ударом ноги, которым под столом наделил его Басаргин.
– А, эти... – небрежно махнул рукой Апыхтин, но не было в его жесте пренебрежения – это все поняли. – Заходят иногда... Может, и сейчас подойдут... Они все время где-то рядом... То в прихожей, то за шторой... Как тебе объяснить... – Апыхтин обращался только к Цыкину. – Они почти прозрачные... И с каждым часом, я заметил, становятся все прозрачнее... Поэтому я не всегда их даже и замечаю, иногда прохожу сквозь Катю и только потом спохватываюсь... Она не обижается, – заверил Апыхтин каким-то будничным голосом, будто говорил о чем-то совершенно естественном.
– Ладно, – сказал Басаргин твердо и озабоченно. – За что пить будем?
– Как за что, за упокой, – живо откликнулся Апыхтин и весело посмотрел на каждого. И столько было в его глазах неподдельного интереса к тосту, что все трое заместителей лишь подавленно переглянулись. – Ну что ж, земля, как говорится, пухом, – не то предложил, не то спросил Апыхтин, и глаза его за очками сверкнули радостным ожиданием, – ох и выпьем, ребята, ох и выпьем.
Капитан Юферев с молчаливой настороженностью смотрел на Брыкина. Тот был сосредоточен, вошел с большим целлофановым мешком, помялся у двери – ничего, дескать, если я с мешком да в кабинет? Капитан в ответ лишь кивнул. Брыкин поставил мешок в угол и, присев к столу, вопросительно посмотрел на Юферева.
– Ну и что? – спросил тот.
– А ничего.
– Совсем ничего?
– Совсем, Саша. Больше двадцати ящиков мусора перелопатили за пять часов. Столько наслушались от жильцов, столько всего насмотрелись в самих ящиках, столько тайных сторон жизни наших граждан открылось...
– Остановись, – хмуро сказал Юферев. – Нашли?
– Нет, Саша, не нашли.
– И штыря тоже нет?
– Нет. Но крови видели... Я за всю жизнь столько не видел. Бинты, тряпки, трусы, рубашки... Все в кровище! Такая криминальная вонь идет из этих ящиков... Дышать нечем.
– Значит, нож он не выбросил, – растерянно проговорил Юферев. – Решил себе оставить.
– Оно и понятно! – оживился Брыкин. – Инструмент, видимо, хороший, надежный, испытанный инструмент... Зачем же выбрасывать? В жизни все пригодится.
– Значит, не выбросил, – повторил Юферев.
– Или не нашли, – утешил капитана Брыкин. – Ведь весь мусор города осмотреть невозможно. Отошли они, к примеру, метров на триста, на километр отъехали на машине и бросили с моста в речку... В канализационный люк, в водосточную решетку... Потомки найдут, подивятся мастерству оружейников в конце двадцатого века, а?
– Да-да, конечно, – рассеянно отвечал Юферев. – Найдут, подивятся. Ну ладно. – Он с силой потер ладонями лицо, покрытое длинными глубокими морщинами. – Ладно... Оботремся, переморгаем.
– Мне не столько обтираться надо после этих мусорных ящиков, сколько отмываться! – рассмеялся Брыкин, и его круглые щечки сделались еще румянее.
– Что там у тебя в мешке-то? – спросил Юферев. – Похвастайся.
– Опять же мусор, – весело ответил Брыкин. – Как ты и велел – собрали все, что можно было ухватить пальцами человеческой руки. На всех этажах. Во всех закоулках. Под всеми батареями! Домоуправление должно нам хорошую премию отвалить за проделанную работу.
– Отвалят, – вздохнул Юферев. – Догонят и еще раз отвалят. – Он вышел из-за стола, постоял над мешком, не зная, с какой стороны к нему подступиться. Потом не торопясь, без всякого интереса заглянул внутрь, беспомощно посмотрел на оперативника.
– Мусор, – сказал тот, разведя руки в стороны. Дескать, чем богаты, тем и рады.
– Вижу, что не золото, – вздохнул Юферев и, перевернув мешок вверх дном, высыпал все его содержимое на пол посреди кабинета. Покатились к стенам пивные пробки, завоняло старыми окурками, разноцветно и шуршаще осыпались бумажки, какие-то комки, смятые пачки сигарет, сверкнули разноцветной пластмассой пустые зажигалки, бесшумно улеглись на пол бритвенные лезвия, несколько шприцов, брошенные захмелевшими наркоманами, сверкнули осколки разбитой бутылки... – Поработали, – пробормотал озадаченно Юферев. – Вижу, что время зря не теряли.
– Говорю же, мы оставили после себя самый чистый подъезд в городе!
Юферев продолжал стоять над кучей мусора, соображая, что с ней делать: тут же выбросить или попытаться разобрать все это бесконечное множество отходов современной жизни.
– Подумать только, – пробормотал он подавленно. – В таком месиве мусора может таиться истина!
– Саша! – потрясенно произнес Брыкин. – Как глубоко и проникновенно ты мыслишь!
– Как могу, так и мыслю. – Юферев присел на корточки. – Располагайся рядом, – сказал он Брыкину. – И начнем.
– Чего начнем-то?
– Перебирать. Бумажку за бумажкой, окурок за окурком.
– Если по мне, Саша, то наши возможные открытия обретут смысл, если мы точно будем знать, где лежал тот или иной окурок, пробка, бумажка, шприц.
– Преступники могли обронить нечто стоящее на любом этаже.
– Тоже верно, – уныло согласился Брыкин, присаживаясь рядом. – Чего ищем-то?
– Понятия не имею, – ответил Юферев. – Вдруг что-то засветится, какая-нибудь вещица пискнет тонким голосом прямо в твоих пальцах, может, пробка подмигнет пьяным глазом... Возле моего стола стоит корзина для бумаг... Тащи ее сюда. Будем постепенно ее наполнять, выносить во двор, снова наполнять и снова выносить... Возражения есть?
– Есть, но они несущественны. – Брыкин принес проволочную корзину, сам присел рядом и взял из кучи первую попавшуюся папиросную пачку. Заглянул внутрь, понюхал, прикрыв глаза, пожал плечами и бросил пачку в корзину.
Вскоре в нее без задержки перекочевали остальные пачки из-под сигарет, пивные пробки, обертки от жвачек, шоколадных батончиков, винтовые пробки из-под разнообразных, но неизменно поддельных водок, в полной мере отражавших образ жизни, быт и устремления жильцов дома в конце второго тысячелетия.
Юферев и Брыкин сосредоточенно разворачивали каждую бумажку, заглядывали в каждую смятую пачку из-под сигарет, осматривали пробки, спичечные коробки, использованные зажигалки и все это молча бросали в корзину. Когда она наполнилась, Брыкин, не говоря ни слова, поднялся, взял ее и вынес во двор. Вытряхнув все в мусорный ящик, вернулся обратно. Юферев внимательно рассматривал голубоватую бумажку размером в половину писчего листа.
– Счастливая находка? – спросил Брыкин.
– Не знаю, насколько счастливая, но сдается мне, что это все-таки находка. – Юферев взглянул на присевшего рядом Брыкина и протянул ему листок.
– Что это?
– Телеграфный бланк. Почему-то смят в комок, почему-то пахнет духами, почему-то со следами губной помады.
Брыкин взял телеграфный бланк, осмотрел со всех сторон, понюхал, поводив им мимо носа в разных направлениях.
– Не помнишь, где ты его нашел?
– В подъезде, – Брыкин пожал плечами.
– Выше квартиры Апыхтина? Или ниже?
– Это имеет значение?
– Конечно, – ответил Юферев, но пояснять ничего не стал и отошел к столу. Разложив бланк на гладкой поверхности, распрямил, сел в жестковатое кресло, которое отличалось от табуретки разве что спинкой да двумя подлокотниками, о которые прежний хозяин имел обыкновение открывать пивные бутылки. – Ты продолжай, – сказал он Брыкину. – А я пока маленько того...
– Что «того»?
– Подумаю.
– Хорошее дело, – одобрил Брыкин и снова склонился над мусором.
Пустой телеграфный бланк, лежащий на столе перед Юферевым, был не столь простой находкой, как это могло показаться человеку случайному, неопытному или попросту равнодушному. Юферев и обрадовался ему, и насторожился, и почувствовал легкий прохладный ветерок, исходящий от мятого клочка бумаги. Он уже сталкивался с чем-то подобным. Озноб, неуловимой волной пробежавший по всему телу, подтверждал – удача. Что-то приоткрылось в событиях, что-то засветилось в той кромешной темноте, которая окружала следователя последние часы.
Юферев осторожно перевел дыхание, словно боялся сдуть с бланка невидимые следы преступников, словно опасался, что вот-вот может слететь со стола этот голубоватый листок бумаги и унесет его, унесет злой ветер, запущенный силами недобрыми, сатанинскими. Это ощущение было настолько сильным, что он не выдержал и положил на листок железный дырокол.
И помимо его воли перед глазами вдруг возникла картина преступления, причем так явственно, с такими подробностями, что он закрыл глаза. Но возникшая картинка не стала от этого бледнее, она сделалась режуще-четкой, каждая подробность светилась в темноте и врезалась, навсегда врезалась в сознание. То ли от самой бумаги исходили эти наполненные ненавистью волны, то ли Юферев смог вызвать в себе какие-то неведомые силы и считывал с голубоватого бланка страшные видения...
– Послушай, Валера... – Юферев с трудом оторвал ладони от лица. – Послушай... Как мог этот бланк оказаться в подъезде?
– Да как угодно, – не задумываясь ответил Брыкин. – Тысячу способов могу назвать.
– Начинай, – тихо сказал Юферев.
– Что начинать?
– Перечислять эту тысячу способов. Итак, слушаю тебя... Способ первый.
– Ну... – Брыкин замялся. – Кто-то кому-то давал телеграмму, случайно или не случайно на почте сунул бланк в карман, а обнаружив его уже в подъезде, скомкал и выбросил.
– Обычно комкают бланки и выбрасывают их, когда написано что-то ошибочное, когда человек написал неправильный адрес, неудачный текст... А здесь нет ничего. Бланк чистый, если не считать губной помады.
– Хорошо! – охотно согласился Брыкин. – Девушка была на почте, отправила телеграмму, а один бланк сунула в сумочку – вдруг пригодится для интимных надобностей.
– Но ведь не могла же она его скомканным сунуть в сумочку!
– В сумочку она положила бланк, переломив пополам, – твердо сказал Брыкин. – А в подъезде вытерла им губы и, скомкав, бросила в угол. Годится?