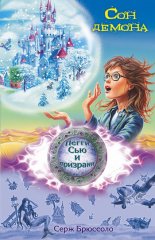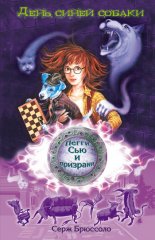Дом и война маркизов Короны О`Санчес
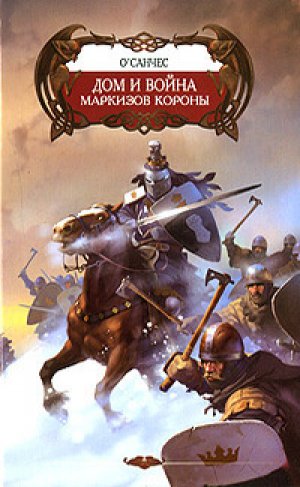
— Морево? Это конец света. Которого равно боятся боги и люди, но которого никто, по крайней мере из людей, еще не видел. Значит, так, почтенный Вавур. Ты чуешь, что в округе еще щуры есть?
— Да, как это не чую. Чую. Вон там, одна, а вон, вон, другая побежала, за стеною не видно.
— И я их чувствую, хотя не столь остро. Мне уже пора в путь-дорогу собираться, но сделаем так: твои ребята, как мы и договаривались, сами уносят падаль, ты лично мне показываешь, где тут щуры, и я их погоняю немножко, меч покормлю. Развела погани! Нет, вот же тварь бессмертная, а? Сумела мне все-таки настроение испортить. Погоди. Я сначала за шкатулкой поднимусь и сразу спущусь, а ты мне пока вешки расставь.
— Какие еще вешки, что за вешки? А шкатулку давай. Только ничего ни в какую шкатулку мы класть сегодня не будем. Да гномы?
— Не будем!
— Потому что не договаривались. Ты нас не обхитришь, нет, мы сами кого хочешь обхитрим. Шкатулку возьмем, а класть туда ничего не будем!
Хоггроги покорно кивнул.
— Ладно. Вешки — это метки, обозначающие расположение добычи, сиречь умановых щур, которых я сейчас буду гонять по вашей пещере, уважаемые гномы, с мечом в руках. А потом в путь: я обещал завтра к вечеру дома быть…
Глава 7
— Хогги! А как же праздник всех урожаев? Значит, я зря готовила достойную оправу твоему подарку?
Боги! Ну что она опять такое жалкое лепечет! Ей ведь никакой не праздник нужен, а просто хочется, жаждется, чтобы Хогги в эти осенние дни был неразлучен с нею, рядышком, чтобы его всегда можно было потрогать, обнять… Тури крепилась, крепилась, да чуть не разревелась прямо на дворе замка, перед слугами и ратниками своего мужа. А плакать ни в коем случае нельзя, Тури хотя и не верит во все эти предрассудки, но зато матушка мужа, пресветлая маркиза Эрриси, верит… И ей обязательно сообщат, за труд не посчитают… И переврут непременно. Тури едва удержалась от искушения — накинуть на себя видимость спокойствия защитными заклинаниями, не от Хоггроги, конечно же, а от любопытствующих слуг… Тоже нехорошо, она должна быть сильной, должна уметь справляться со своими чувствами без магических подпорок, она ведь владетельная маркиза, будущая мать будущего властителя…
— Ну-ну, что такое? Будет праздник, раз он должен быть, я обещаю. С чего бы ему не быть, коли затишье на границах еще не закончилось? Спокойное время — значит, надо пользоваться этим, веселиться, праздновать. Я уж и лазутчиков подсылал, чтобы узнать — что ты там такое затеяла под изумруд?.. Только руками разводят: мол, бессильны мы, ваша светлость, не проникнуть нам в тайну сию!..
Тури не выдержала и улыбнулась поверх невыплаканных слез, и даже горький комочек в горле вроде как поменьше стал.
— Ты все выдумываешь, чтобы меня успокоить. Может, останешься? Неужели без тебя никто с мятежом не справится? Это же не война с варварами, Хогги. У тебя и Марони есть, и Рокари, и полковники, и в городах гарнизоны, зачем тебе этот Тулум?
Маркиз Хоггроги уже держал в шуйце уздечку своего верного вороного, однако остановился вдруг и знаком подозвал пажа.
— Керси, возьми Кеченя, поводи его по двору, чтобы не волновался. Скажешь Рокари… Нет, передай Марони, чтобы тот еще раз лично проверил всех командиров, вплоть до десятских, пока я тут… Действуй. Нута! Сладкого цветочного взвару нам с моей маркизой, прямо во дворе, за маленьким столиком. Да смотри, чтобы не остыл!
— А-атставить марш! Пешими по сотням стройсь!
Изумленная Тури никак не могла поверить, что вся эта смертоносная людская махина остановилась из-за ее слов. Домашние слуги во мгновение ока принесли козлы, угнездили в них столешницу, застлали нарядной скатертью, уставили столовой дребеденью, да сплошь золотою, а не будничной… Кресло побольше и кресло поменьше. Навес, на случай, если опять слякоть с небес повалит.
— Я подумал, что прежде чем ехать, не худо бы нам с тобой… э-э-э… пополдничать. Заодно и объясню, почему именно я, а не мои сенешали вместо меня, должен ехать укрощать мятежников. Тебе нравится такое мое предложение?
Тури улыбнулась, а глаза у нее опять на мокром месте, но это уже совсем-совсем другие слезы под ресницами:
— Нравится.
Ключница Нута — ох и зоркая, ох и верткая, несмотря на толстенные щеки и бока! Впрочем, и зоркость, и хитрость, и толстобокость от веку положены любой ключнице, если, конечно, она истинная владычица в своем хозяйстве, а не случайная жертва судьбы. А Нута именно такая и есть: еще с тех пор, как она перешла из няньки в ключницы при юном Хоггроги, в его покоях, а потом в отдельном замке, все ее оценили и зауважали, а в первую голову старый имущник Модзо, которому она стала подотчетна, однако же не поступила в прямое подчинение. К чужим закромам и полномочиям Нута никогда не пристраивалась, но попробуй-ка сунуться в ее! Хоггроги к ней уважителен, редко когда придирчив, и Нута его вроде бы и не страшится… А все равно побаивается: знает, каков он может быть с другими провинившимися. Приметила, что юная маркиза вся на слезах, и так от этого расчувствовалась, что первую чашку ей поднесла, не грозному повелителю. Да тот и бровью не повел в ответ на эту вольность, не заметил, наверное…
— Что это за подушка? Нута?.. Для чего, для чего?.. Ха! Она все еще думает, что я грудной младенец, представляешь, Тури? Хочешь, на две садись, повыше будет? Или тебе одной хватит? Я-то и так не простужусь. Нута! Возьми подушку, а сама отойди с нею на пять полных шагов, и уши в трубочку сверни — целее будут; я своею рукой все налью и положу, если понадобится… Ну, мой птерчик, готова ли ты слушать?
— Так точно, ваша светлость!
Хоггроги захватил воздуху во всю грудь и расхохотался, услышав бравый чеканный артикул из нежных уст своей маленькой супруги, а в дальнем углу двора его верный Кечень заржал в ответ и попытался примчаться на выручку хозяину. Однако паж, весьма хорошо знакомый с буйным нравом коня его светлости, был настороже и наготове…
Люди всегда недовольны сущим, такова уж их несовершенная природа. Ну так ведь и не боги! Хотя и у богов бывают позаимствованные от людей несовершенства: буйным цветом живет в них зависть, ненависть, страх, желание обмануть — природу, людей и себе подобных… А у человека, вдобавок, век короток, память коротка, алчность же необъятна, впору богам!
Взбунтовался город Тулум, из приграничных самый близкий к Гнезду. Стал он частью удела и Империи недавно, лет триста тому назад, вырос почти на скалах из грязного и вонючего селения миронов, и до сих пор из этой каменистой почвы не до конца выкорчеваны корни недовольства и измены. Маркизы не жаждут чужих земель, но те плоскогорья, что острым клином вдавались в земли удела, все равно никому не принадлежали, ни Империи, ни соседнему королевству Бо Ин… Пришлось принять решение и себя обезопасить, слегка перекроив рубежи… Надежны стены города, умеренны налоги, разумны законы и уложения, по которым живет город… Рабов нет, бедняков — не больше чем в других местах удела, богачей — не меньше… Вся беда в том, что изрядная, более чем в половину от общего, часть горожан — потомки миронов или те, в ком есть примесь мироньей крови… Вот им и чудится, горожанам Тулума, что неплохую жизнь можно улучшить, если воссоединиться с братьями по крови по ту сторону границы: жить можно будет как прежде, то есть в каменных домах вместо шатров и мазанок, за надежными стенами, веселясь и торгуя, но зато без имперских налогов и пошлин. Или, на худой конец, взбунтовавшись дружно, — можно будет добыть если не свободу, то дополнительные привилегии от маркиза и государя…
— Ты бы запахнула накидку? Кружева-то горло не согреют…
— Нет, нет, мне с открытым свежее. Мне не холодно, честно! Хогги, хочешь, я приколдую неслышимость вокруг стола? Это быстро.
— Да я и так уже почти шепотом, оставь как есть…
… Подавить бунт глупцов одною военною силой — легче легкого, с этим справится любой из сенешалей, да что сенешаль — каждого-любого полковника можно назначить старшим в этом походе — почти без потерь зальет городские веси чужой бунтовщической кровью. Но корни, те самые зловредные корни мятежа и измены, останутся на месте, и пуще того: только напитаются пролитой на них кровью простецов… В одном месте об колено сломал бунтующих, в другом, в третьем… Этак, не успеешь оглянуться — к одной большой и вечной войне на внешних границах, добавится еще одна, против своих же подданных… Но и сдаваться на угрозы и вымогательства бунтовщиков никак нельзя: поддашься — все заполыхает окрест, все увидят, что власть ослабла и отныне кусать ее легко… Вот поэтому, пока все тихо и мирно в уделе, пока не повалили сквозь юго-восточные заграды по зимнему насту бесконечные орды варваров и кочевников, есть смысл и необходимость — ему, повелителю края маркизу Короны — лично уладить недоразумения с бунтовщиками. Чтобы они видели не только армии, но и воплощенную власть, ту, высшую, которой можно поклониться, которой можно пожаловаться и от которой не зазорно принять взыскание… а той, в свою очередь, не зазорно спуститься к малым сим. Население в очередной раз увидит, что власть справедлива и милосердна, что сажают на… гм… что строго наказывают только зачинщиков и непосредственных участников мятежа, и что все остальные отделаются умеренными взысками, денежными либо натуральными… И надолго запомнит: хочешь избежать ненужных потерь из своего кошелька — будь бдителен, словом и делом подтверди верность Империи; самому ведь не надо драться, ты сообщи вовремя…
— Какой кошмар, Хогги! У моего отца тоже бывали, как я припоминаю, какие-то дрязги с вассалами, но я никогда не предполагала, насколько все это… То есть следует одних науськивать на других, стравливать и заставлять следить друг за другом? А несогласных… карать…
— Ты прирожденная государственница, мой птерчик, ты все схватываешь на лету.
— О милосердные боги! Какое чудо, что я не мужчина!..
— А я-то как этому рад!
— Как хорошо быть женщиной, вдали от… Но хоть польза от этого твоего похода — будет людям? Подданным твоим?
— Нашим с тобой подданным, нашим. Ну какой же это поход? — через три-четыре дня вернусь. Да, выйдет польза. Почти все из них будут жить долго и относительно счастливо, в тепле, в уюте, семьями, с буднями и праздниками. А еще лет через двести-триста земли те навеки забудут, что когда-то лежали вне удела и Империи. Так что считай сама: четыре дня… пять кладем на поездку туда-сюда, и, вдобавок, на обратном пути я к матушке заеду на денек, проведаю ее, приглашу на праздник. И как раз к празднику — я дома. Это даже и хорошо, что я уеду и отвлекусь, не то меня любопытство сгрызет — что ты там такое придумала?
— Ой, Хогги, какой же ты хитрец… Ладно, езжай, не то я вот-вот разревусь ящерной коровой на все Гнездо. Береги себя, а уж я буду неустанно молиться богам!
— Доверь лучше это отцу Скатису, а сама побольше гуляй, хорошо кушай, не простужайся, готовь праздник, приглашай гостей. Впрочем, пусть все будет, как ты скажешь, а не как я скажу.
В устах ее супруга эта обычная вассальная вежливость была самым нежным и проникновенным, что только можно было вообразить, зная крутой нрав Хоггроги Солнышко, истинного маркиза Короны, да и это он произнес между двумя поцелуями, глубоким шепотом, для нее одной…
— По коням! Марш!
Хоггроги все рассчитал заранее… Вернее, отец научил его, делом и словом, как проще и лучше поступать в подобных случаях: бунтовщики уже оповещены, что его светлость лично подступит к стенам города и что его светлость маркиз Короны Хоггроги Солнышко пребывает в великом гневе на вероломство и непокорность горожан! Но не всех горожан, ибо подавляющее большинство из них сами обмануты ядовитыми речами и лживыми обещаниями, отнюдь нет! Он гневается только на ловких прощелыг, тех немногих, которые вознамерились согреть свои нечистые руки о чужой пожар и при этом живым щитом выставили перед собою простых и ни в чем неповинных людей. Его светлость накажет всех, всех до единого, злоумышленников и обманутых! Однако тяжесть наказаний неодинакова получится: одних проникновенным словом пристыдит — и на том довольно, а с других повелит шкуру заживо содрать! Кто из горожан по какую сторону окажется — это уж кому как повезет, но, главное, кто сам для себя что выберет. Заранее.
И пока посеянные лазутчиками слухи дадут побеги, всходы, оба выбранных для усмирения полка, зеленый и горный, укрепленные личной дружиной Хоггроги, не спеша, к исходу второго дня, прибудут на место. Заграды же на том направлении, между рубежами и Тулумом, утроены и приведены в полную боевую готовность, чтобы не было бунтовщикам подсобы из-за невысоких вражеских гор.
Хоггроги опустил поводья, вороной конь его, Кечень, идет почти шагом, потряхивая гривой в такт флейтам… Да, Хоггроги решил распробовать то, к чему всю предыдущую жизнь был равнодушен: музыку. Отец его любил и песни, и поэзию, но также все громадное хозяйство своего удела знал до тонкости. Хоггроги неплохо разбирается в деньгах и в запасах солдатских порток и, пожалуй, уже не хуже отца, а вот с поэзией, чистописанием и прочим — гораздо слабее… Это позор для рыцаря. Что ж, надо пробовать, надо учиться. Буланого отцовского коня Дымка на веки вечные лишили седла и уздечки, дали ему счастливую и почти вольную жизнь на самых лучших пастбищах, до конца его дней, а с музыкой так ведь не поступишь, музыка помогает войскам двигаться и действовать единой волной, музыка утешает воинов и развлекает их в походе… Ее следует сделать своею, а для этого — надобно знать и понимать.
Неподалеку от Хоггроги, в десяти локтях за ним, в телеге, запряженной парою грузовых лошадей, сидят и играют полковые музыканты, один с бубнами, двое с флейтами… Вообще говоря, музыкантов гораздо больше, они есть и в дружине, и в каждом полку, но хватит и троих, ибо маркизу претит лишний шум… Зато флейты ему неожиданно понравились. Когда он понял это, первым побуждением вспыхнуло — приказать умолкнуть громыхале-бубнисту, чтобы не раздражал своими звяками и стуками, но Хоггроги не любил поспешных решений, вот и здесь не прогадал: стоило лишь вслушаться повнимательнее, как выяснилось, что тот, на бубне который, помогает этим двум флейтистам держать слаженную музыку.
— Марони…
— Да, ваша светлость!
— Тебе не кажется, что эти бубны и стуки — то же самое для дудочников, что весь оркестр для идущего строем полка?
— Как это? Я… н-не совсем, ваша светлость… Не понял, ваша светлость.
— Эх… Ну… сам не знаю как сказать. Тебе нравится? — Маркиз, не оборачиваясь, качнул затылком в сторону телеги.
— Пожалуй да, ваша светлость. Только тихо играют, и музыка, не сказать чтобы весела.
— Это оттого так, что я попросил их не марши играть, а светскую музыку.
— Так она и на танцевальную не похожа. Тихая слишком. Но пусть все будет, как вы скажете, а не…
— Хорошо, умолкни и не мешай. Скачи-ка ты лучше вперед, да выясни, кто там из зеленых подковы роняет: видишь? — Маркиз указал пальцем в пыль. — Если они так и к зимним походам подготовятся, то я не с Тулума, а с них шкуры посдираю. Разберись, а доложишь позже, сейчас я занят.
Когда приходит пора сну и отдыху, Хоггроги засыпает мгновенно: только приклонил голову на подушку, либо на седло — уже будят: пора вставать. Дома, в замке, он храпит, в походе — никогда. Вот бы узнать — почему это? Впрочем, и дома храп его супруге не мешает, когда он у нее в покоях спит. Она уверяет, что так ей даже спокойнее. Но все же Хоггроги честно старается, чтобы Тури вперед уснула, иногда это ему удается, иногда нет… Первый день похода показался маркизу весьма удачным: вроде бы… где-то как-то… но — начал он постепенно понимать радость, исходящую от музыки. Главное здесь — выносливость, стоит лишь представить, что музыка за спиной это неизбежность, вроде стука дождя по стенкам шатра, как терпеть ее становится легко, а там глядишь — и приятное нечто проклюнулось. Голос у флейты нежный, как у Тури, когда она его жарко обнимает… Ох…
На вечернем совете Марони должен был доложить насчет утерянной подковы в передовом отряде зеленого полка. Но и здесь Хоггроги перенял у отца манеру, которую отец, в свою очередь, унаследовал от деда, а тот от прадеда: нет смысла главнокомандующему сплошь и рядом проявлять свою осведомленность и въедливость по мелочным вопросам, хотя и упускать их, кажущиеся мелочи, нельзя. Повелитель — не ключница: он может вникать во всё, что пожелает, но он не обязан это делать. Но должен, хотя бы изредка. Но — зная меру, дабы не погрязнуть. Вот и следует сочетать, перемежать горячее с холодным… Все слышали слова маркиза о подкове, его приказ сенешалю — разобраться. И вот на военном совете, в присутствии всех старших командиров, сенешалей, жрецов, Хоггроги улавливает взгляд своего старшего сенешаля. Этот же, еще отцом учен, отлично понимает, что к чему, и ждет либо тайного сигнала, чтобы самому начать докладывать, либо прямого вопроса его светлости. Ага, вот оно…
— Марони.
— Я, ваша светлость.
— Что там с подковой? Зеленые потеряли?
— Так точно, ваша светлость!
Все находящиеся в шатре замерли, затаив дыхание… А у молодого, три месяца как назначенного полковника «зеленого» полка, оледенело и остановилось сердце…
— Ну, и что скажешь?
— Случайность, ваша светлость. Там все в порядке.
— Случайность?
— Так точно, ваша светлость, проверено!
— Хорошо. А у святых отцов есть какие нужды, либо заметы? Если нет — все, день закончен.
Тук… тук… ту-тук! Оттаяло полковничье сердце и беспорядочно заплясало в ликующей груди. Члены военного совета тоже облегченно выдыхают и вдыхают и расходятся по шатрам в полном восхищении: Марони-то как своих защитил, четко рубанул! А его-то светлость — не придирался, не доставал! Верит нам. Но глазастый! Сейчас бы полковнику винца выпить как следует, да запить его чем-нибудь покрепче, да и рухнуть до утра, не переживая вновь и вновь так и не случившуюся беду… Но накрепко сказано древними воителями: «В засаде не пой, в походе не пей!»
А в мятежном городе Тулуме уже догорало сражение, начатое против горожан маркизом Короны еще до начала похода, там, в родовом его Гнезде, с помощью страха, подкупа и лазутчиков, поэтому, когда Хоггроги подступил к запертым воротам, горожане, обессиленные ужасом и расколом в собственных рядах, едва нашли в себе мужество объявить с городских стен о своих требованиях и пожаловаться на причиненные им обиды. Сбрасывать со стены трупы прежних городских старшин, чтобы они прямо под ноги его светлости попадали — в самый последний миг восставшие постеснялись, передумали. Но его светлость не пожелал лично разговаривать с новыми старшинами: по его кивку вперед выступил молодой сенешаль Рокари Бегга и объявил громогласно волю его светлости: городу открыть ворота, а мятежников-старшин и новоявленных самозванцев-старшин выдать головою до единого, коленопреклоненными, в цепях, на ратушной площади, в присутствии достойных и уважаемых горожан. Сроку — час. В противном случае, все мирные разговоры на этом заканчиваются и город подлежит захвату на правах военного времени.
Лихой рыцарь Рокари Бегга хорошо знаком жителям удела, а также врагам по ту сторону границы: умен, отважен и беспощаден. Весел и горяч, это в нем тоже присутствует полною мерой, однако веселье рыцаря Бегга очень нравится его друзьям и сподвижникам и весьма не по нутру противникам и врагам, а кто для него горожане в эти минуты? Именно что изменники и враги, и уж ежели его светлость доверил захват города своему бывшему пажу Роки, а ныне сенешалю рыцарю Рокари Бегга — пощады не жди! Врагам не часто попадается на пути большее, нежели он, чудовище! Впрочем, старый сенешаль Марони Горто может быть ничуть не менее деятельным, жестоким и веселым в захваченном городе. В захваченном по законам войны городе! Это значит — безнаказанные грабежи и резня три полных дня, включая ночи. Это значит разоренные и сожженные дома и лавки, изнасилованные жены и дочери, это убитые без вины, просто для потехи, знакомые и друзья… А тебе лично — удастся ли уцелеть?.. Это пожары и всепроникающая трупная вонь… И долгие, долгие годы страшных воспоминаний. К горожанам только сейчас начало приходить осознание, каково это — из имперцев превратиться во врагов Империи, на своей шкуре, так сказать…
С городских стен послышался невнятный шум… звон… вскрики… Люди маркиза, конечно же, заметили сие, и Рокари привстал уже на стременах, чтобы одобрительными словами подхлестнуть начавшееся, но Хоггроги не дремал:
— Кари! Ни слова. Все отходим.
Люди маркиза, во главе с ним, отодвинулись от городских стен ровно на шестьсот локтей, чтобы быть недалеко и чтобы успеть защититься, если обезумевшие горожане попытаются совершить внезапную вылазку.
Рокари Бегга вздохнул: сейчас будет выволочка. Если бы маркиз назвал его детским прозвищем Роки — было бы проще. А он его — нынешним прозвищем обозначил, когда приказывал заткнуться. Значит, предстоит втык.
— Отварчику, Роки?
Рокари Бегга обомлел вместо ответа: его светлость Хоггроги насквозь видит его мысли и даже издевается над ним, тасуя прозвища. Но сенешаль нашелся:
— Я бы лучше цветочного или медового взвару, ваша светлость!
— Ты? Поверить не могу: с каких это пор ты предпочитаешь сладкое травяному отвару на костях?
— С тех пор, как ваша светлость соизволили на меня рассердиться на мою несдержанность у ворот этого свинарника, то есть с недавних, с «толька что». Вот я и… чтобы не так горько…
Первый рассмеялся Хоггроги, а за ним уже все остальные — полковники и тысячники. Один только Марони Горто не смеялся и лишь тихонько вздохнул про себя: гроза прошла стороной для этого молодого выскочки… а жаль. Вот что нужнее всего в нынешнее-то время: язык без костей.
— Все мои предки, дорогой наш рыцарь Бегга Рокари, брезговали держать при себе шутов, и не мне сей обычай рушить, даже ради тебя, моего старого товарища, проверенного в боях и в пыльном быту. Это первое, что ты должен учесть на будущее.
— Ваша светлость!..
— Продолжаю: выдержка. Это второе, что ты должен усвоить навсегда. Умение выжидать, умение не перебивать… Третье: разум. Объясни-ка нам, всем присутствующим здесь: почему я не разрешил тебе дальше сотрясать холодный воздух горячими криками? Итак? Вслух, как воин — воинам.
Рокари заставил себя помедлить, подумать, а не ринуться вперед и наобум с разъяснениями, которые и без него должны быть хорошо известны тем, чье ремесло война. Известны-то всем, да пользоваться драгоценными знаниями умеют немногие… Вот и он попытался высунуть язык, словно мальчишка бесштанный, словно баба на рыночной площади…
— В стане врага явная смута, ваша светлость. Смута началась, и мы все это услышали. Однако поспешные и необдуманные слова, вброшенные в малознакомую обстановку, могут помешать выгодному для нас развитию событий, вместо того чтобы им помочь. Существует вероятность того, что сии слова ускорят дело, помогут нам, однако, противоположная вероятность также имеет место быть и, как показывает опыт войн, запечатленных для потомков нашими учеными жрецами… — Рокари остановился, в надежде, что его светлость перебьет, либо разрешит ему не пересказывать наизусть строки из военного трактата… этого… забери его боги, полководца этого… забыл имя… Но его светлость выжидающе и молча смотрел на своего сенешаля. Наф его разберет — что там у него в голове…
— Одним словом, в выгодной для нас обстановке лучше промолчать, нежели словами вызвать непредсказуемые последствия, которые, в силу своей непредсказуемости, гораздо чаще оказываются вредны, чем полезны. Я же вознамерился необдуманно болтать. Вот. Ваша светлость. Я сказал.
— Дельно воспроизвел. Впредь я рассчитываю, что ты будешь поступать согласно когда-то написанному и только что сказанному. — Хоггроги поднял к тучам мизинец левой руки, завершая тем самым небольшой выговор своему сенешалю. Так — что? Медового взвару тебе?
— Не-ет! Теперь лучше бы отварчику, ваша светлость! — И опять все с облегчением захохотали, даже Марони Горто хмыкнул беззлобно.
— Тогда — к столу, судари. Подкрепимся скромно, дабы осажденные видели нашу беззаботность и уверенность в себе. На пищу не налегать, ибо сражение еще не закончено, не стоит и галдеть на все небо: мы должны славить своим поведением и личным примером скромность, умеренность, добродушие. С вашего позволения, судари, дудочники будут сопровождать нашу трапезу благолепием умиротворяющей музыки. — Маркиз Хоггроги первым присел к расстеленной прямо на земле круглой кошме, огромной, сшитой из десятка выделанных бычьих шкур, следом за ним, по правую и по левую руку, сенешали Марони Горто и Рокари Бегга, а дальше уже, по кругу, в вольном порядке, полковники и тысячники двух полков, и все пятеро сотников личной дружины Хоггроги. Пажу Керси, несмотря на почетную должность и благоволение его светлости, в походе не полагалось трапезничать среди высокопоставленных воинов, и он сидел на пятках слева сзади от повелителя, готовый в любой миг вскочить и исполнить приказ, либо пожелание, буде они возникнут у его светлости. Под каждого из трапезничающих подстелена белая кошма, и только у его светлости — черная, жесткая, шкуры цераптора, отличительный знак его главнокомандования.
Невысоки горы вокруг Тулума, но зиму и осень привечают заметно раньше, нежели равнинные просторы, а расставиться с ними в пользу весны и лета не спешат. Наверное, завидуют могучим своим собратьям из Карберского хребта, круглый год укутанным в снег и облака — вот уж там прохлада: осень меняет зиму, зиму меняет осень, чистота, воздух прозрачен и звонок, природа черна и бела, безо всякой там ряби и пестроты, и копошений, отвлекающих от мыслей о Вечности…
— … Керси! Спишь, что ли?
— Виноват, ваша светлость, задумался!
— О чем?
Керси покраснел, но его светлость спросил — надо отвечать.
— О том, ваша светлость, что высокие горы нарочно отвергают все природные краски, кроме черной и белой, чтобы посреди постоянной зимы не отвлекаться от размышлений о Вечности!
Воины дружно прервали трапезу и приготовились громко хохотать над словами пажа… но сначала — что скажет его светлость?
— Угу… А как же закаты и рассветы? Их краски по небу? А как же брильянтовые свечения снегов и льда на ярком солнце? А само безоблачное небо днем? Твои наблюдения, Керси, верны только для пасмурного дня, такого, как этот.
— Виноват, ваша светлость.
— Ты виноват тем, что прослушал мои слова насчет свитка с картой и до сих пор сидишь.
— Так точно, ваша светлость! Но свиток — вот он! — Керси выхватил из рукава заранее припасенный свиток с подробною картой города и с поклоном протянул его повелителю.
— Ловок, ничего не скажешь, еще бы тебе внимательности побольше. Впредь старайся совмещать размышления и службу. Если же не получится, тогда выбирай: либо в жрецы… — Хоггроги сделал небольшую паузу и закончил свою речь, поведя скрученным свитком на сотрапезников, — либо в эти… в ратники. А твои суждения о черном и белом мне понравились, несмотря на их несовершенство.
Его светлость умолк, и теперь можно было беспрепятственно рассмеяться над незадачливым пажом, на которого его светлость почему-то соизволил не рассердиться, но… Сенешали, старый и молодой, не стали хохотать: один крякнул, другой фыркнул… Не стоит соваться вперед рыцарей, они зорче и сметливее насчет настроений повелителя. Не лучше ли просто съесть еще кусочек и хлюпнуть еще глоточек — кто знает, когда в следующий раз доведется покушать? Объявят в любой миг атаку — и не то что до полудня — до ночи не присесть будет, пот со лба не утереть…
Но этот смирный пасмурный день оказался не готов к штурму и кровавой сече: с площадки на верху сигнальной башни повалил белый с розовым дым, знак покорности и сдачи на милость победителя… Однажды Хоггроги спросил отца: какой смысл держать в своих крепостях наборы топлива для разноцветных дымов, например, обозначающих поражение и готовность сдаться? Если все равно варвары не признают цивилизованных военных обычаев и режут всех подряд, начисто, хоть ты задницу им лижи, хоть сопротивляйся до последнего? Отец затруднился с ответом, только пожал могучими плечами и сказал, что подумает. А потом признался, что так ничего и не надумал, и что в таких случаях имеет смысл просто слепо держаться традиций. Но слепо-то — слепо, а только до тех пор, пока поддержание непонятного обычая не обременяет современного движения жизни. Как только стало обузой и при этом не прояснилось — смело выбрасывай его! Но до тех пор, пока традиция, обычай не мешают делать дело — придерживайся, доверься древним, которые не на пустом месте сие ввели в обиход. Прав оказался отец: пригодился обычай и сохранил много драгоценных человеческих жизней.
— Ваша светлость! Открывают! Заневестились, твари!
Ворота в город стыдливо и покорно распахнулись. Надо думать, замок в центре города, городской магистрат, в эти мгновения опускает подъемный мост через ров, отделяющий замок от центральной площади.
— Марони…
— Есть, ваша светлость! — Марони Горто оскалился, предовольный, и встал во главе личной дружины маркиза: ему первому предстоит пройти сквозь ворота и, в случае чего, принять на себя вероломство защитников города.
— Рокари. Как войдем — город на тебе. Все по обычаю, отвечаешь лично.
— Есть, ваша светлость!!!
Что ж, его светлость все рассудил как нельзя более мудро: первый и самый яркий почет — старому сенешалю, зато Рокари впервые проявит себя не только предводителем воюющих отрядов, но и — на краткое время — повелителем города! Это признание, это доверие!
Все было как и положено: восемь изменников-старшин на главной площади возле замка (двоих зарубили свои во время молниеносного мятежа против мятежников), огромная толпа зевак, там же, на площади, собравшаяся, чтобы увидеть, как наказывают смертью подлых предателей, своими гнусными речами сумевших склонить к мятежу таких же, как они, мерзавцев и негодяев…. Началось!
И закончилось: его светлость, видимо, сумел перебороть великий свой гнев и смилостивился над преступниками, послав армейского палача отсечь им головы, там же на месте, без церемоний и пыток. Да, недолог получился внеурочный праздник: головы посшибали без эшафота, умучаешься увидеть что-либо поверх чужих шапок, да еще зачитали вины самого города Тулума и наложили на него взыск. Наложили-то на город, а у магистрата в казне лишних денег на сие не предусмотрено, стало быть — раскошеливайтесь, горожане. Вот так и вся жизнь: праздников и зрелищ на вдох и выдох, а забот — только успевай охи и вздохи подсчитывать! И теперь пора, ох, пора — бегом с площади, ибо ратники сейчас по городу пойдут! Мало ли, ошибутся лицом или дверью…
Хоггроги сидит в магистрате, в главном кресле, внимательно слушает, как его сенешаль Марони Горто ведет допрос тех, кто изнутри подавил измену и захватил преступников-старшин, поскольку именно из их числа придется набирать новую городскую власть. Пусть не всех, так хотя бы троих-четверых, головку магистрата, а там, дальше, они уже сами подтянут сторонников и клевретов, до полного количества. Рыцарь Рокари Бегга, тем временем, поощряет войска, пусть и не принявшие участие в сражении, но готовые к этому.
На площади людно, там разбились на сотни и выстроились войска маркиза: два полка и дружина. В руках у Рокари небольшой черный кожаный мешок, в мешке позвякивают именные пайзы сотников, шестьдесят серебряных и пять золотых, по числу построенных сотен. Десять преступников казнено или умерщвлено, каждый из десяти был при жизни состоятельным человеком. Но они преступили — и все имущество их: дома, подворья, сундуки, деньги, припасы — все подлежит разграблению по законам войны. Сами же дома будут сожжены и разрушены. Людям, живущим в тех домах, позволено остаться в живых, ибо они все-таки граждане Империи, но уйти — как есть, без скарба. Обманщиков и хитрецов могут казнить, и лучше бы им не рисковать…
А все десять дворов, как уже было сказано, обречены на разор и грабеж, и сейчас командующий войсками, рыцарь Рокари Бегга, своею десницей добудет по очереди все десять пайз, и десять сотен счастливчиков распределят между собою место поживы и разбегутся грабить! Рука у рыцаря в грубой латной перчатке, дабы он не мог отличить на вес и ощупь золотую «дружинную» пайзу от полковой серебряной, потому что на войне, в битве и в победном грабеже — все равны, все достойны, от простого новичка ратника до прославленного в предыдущих боях удальца дружинника. Сегодня победа легко досталась, даром досталась, но зато и не всем, а по фарту, по случайному выбору судьбы. Невелика прибыль, да и надобно поспешить использовать ее, ибо никто тебе не позволит превращать обоз в табор. На то перекупщики и существуют в каждом городе, при каждом войске поодаль следуют, чтобы избавить ратника от лишнего барахла, выкупить по дешевке и тут же перепродать втрое-вчетверо. В бою добыл — поплясал и пропил! Вот как надобно жить! Остальным в утешение — жирный военный харч и двойное походное довольствие, деньгами и имуществом. В этот раз этим посчастливилось, а в следующий — другим повезет. До зимы уже рукой подать, затишье в уделе заканчивается почти на полгода, а там столько будет походов да сражений, атак и приступов, что к весне все будут в трофеях по самую грудь. Ну, те, кто жив останется, понятное дело. Потом по очереди в отпуска и на побывку, мотать и пьянствовать без помех, потом, с пустыми карманами и гудящими головами — домой, в казармы. Уж где-где, а в уделе его светлости маркиза Короны жизнь простого ратника, принесшего пожизненную присягу, проста и обильна, можно сказать — счастливая жизнь, ты только воюй смело и умело. А если ты в отпуске или на побывке набедокурил слегка и попал под розыск или правеж местных властей — извернись и подай весточку своим, в казармы: десятский немедленно доложит сотскому, тот тысячнику, либо сразу полковнику, тот сенешалю, или сразу же его светлости… За тридевять земель примчатся и помогут, не жалея полковой или удельной казны, если на это будет законная возможность. Фальшивомонетчика, например, кто будет выручать? Или оскорбителя Их Величеств? Никто, и даже не почешутся, а драчунов, разгульников и святотатцев — да сотни раз вызволяли. Потом уже у себя наказывали полковым порядком… но зато ведь и не до смерти.
Шесть горных сотен и четыре зеленых вытянули счастливый жребий, а гордые дружинники на сей раз бородами умылись, ну и ладно, никому не жалко, они и так получают вдвое против обычных ратников.
К ночи, почти в разгар пирушки объявили сбор, войска маркиза построились и ушли, оставив за собою дым десяти пожарищ в почти не тронутом городе. Не было никакой необходимости в подобной спешке, ибо управились с мятежниками еще быстрее, чем ожидали, однако Хоггроги отдал приказ, и ни единому человеку в его окружении не пришло в голову усомниться в правильности этого приказа: «Что значит — зачем??? – Его светлость так повелел».
А просто на сердце у Хоггроги было тревожно, и ему хотелось поскорее вернуться домой, в Гнездо, прямо в опочивальне у супруги принять ванну, с закрытыми глазами отмокая в горячей воде, пока она будет рассказывать ему домашние новости, причесывать и нежным голоском корить, что он побросал одежду и латы куда придется, прямо на пол… Ах да, еще к матушке надо заехать… Ну, это уже обязательно и неотложно, вся остальная вселенная тихо обождет в углу.
Есть некое суровое милосердие в древнем удельном обычае: вдова маркиза Короны покидает Гнездо, главный замок маркизов, и до конца дней поселяется в любом другом, по своему светлейшему выбору… благо есть из чего выбирать. Чтобы воспоминания о промелькнувших днях счастливой жизни прежней не были такими яркими и кровоточащими… Хоггроги всей душой любит матушку, он и в Гнезде мог бы устроить ей жизнь со всеми возможными в этом мире удобствами, он мог бы постараться придумать так, чтобы матушка и Тури как можно реже имели повод спорить и ссориться… если уж совсем невозможно этого избежать… Но — обычай, многовековой обычай… Который — для себя додумывал Хоггроги — вполне возможно, что продлит матушкины дни на земле именно своим суровым милосердием.
На Вороньем перекрестке войска разделились: оба полка, ведомые сенешалем Марони Горто, двинулись дальше, домой, чтобы уже к полудню следующего дня добраться до казарм, а Хоггроги, во главе собственной дружины, сопровождаемый сенешалем Рокари Бегга, повернул направо, к старинному замку Ручейки, где теперь жила его матушка.
В этих краях даже осенний рассвет уютен и мил, солнце за облаками только угадывается, а воздух мягкий, чуть прелый, но все равно ароматный. Папоротники вдоль дороги после первого же инея ночного пожухли и полегли, а деревья все в листве: жесткие ветры в эту долину почти не долетают, и леса до самой зимы стоят неободранные. С одного края долины холодные ключи бьют из под земли, а с противоположной, с западной, — горячие, с резким запахом, они даже в лютые зимы не замерзают. Жрецы разных храмов лет сто меж собою спорили, пока наконец к общему мнению не пришли: воды тех горячих ключей — целебные. На питье и приготовление пищи не годятся, но помогают от нарывов и чесотки. Долина маленькая, приветливая, посреди ее пригорок, на пригорке замок. Вокруг замка ров, подъемный мост через него, как и положено, да нет воды в том рву и надобности в воде никакой, потому что замок стоит вдалеке от границ и опасных мест, а с тех пор как туда матушка переселилась, Хоггроги выставил у долины кольцо из заград, на всякий случай, чтобы спокойнее ему жилось…
Нет, ну это же надо! Ну никак ему матушку не перехитрить! И подъехал с рассветом, и не предупреждал, и не позволил гонцам с заградных позиций весть в замок доставить!.. И подъемный мост уж опускается со скрипом, и ворота уже настежь — еще подъехать не успел!
Дружина оставлена в поле, сотник первой сотни Пакай Рыжий назначен старшим над всеми, а Хоггроги, Рокари и личная охрана маркиза втянулись в узкие крепостные ворота.
Ну, все точно: посреди двора матушка стоит, глаза у нее красные, да не спросонок, а от слез радости. Зато вся свита ее… Стоят, качаются, еще и сейчас глаза не продрали.
Хоггроги легким прыжком слетел с седла, подбежал к матери и за два полных шага от нее припал на одно колено, касаясь перчаткой земли, как перед государыней императрицей. Все по столичному придворному этикету делает сын, а у самого рот до ушей.
— О, мой дорогой!
— Матушка!
— Что же ты меня смущаешь, друг мой, ведь я не государыня. Лучше бы обнял сразу.
Хоггроги тут же вскочил, добежал и принял мать в осторожные объятья.
— Для меня ты точно такая же государыня, боги — да хранят вас обеих еще тысячу лет! Ну вот… Что же ты плачешь?.. Что-нибудь…
— Нет-нет, это я от радости… что меня не забываешь…
— Ну матушка…
— Нет, нет, это я так…
Хоггроги ощупал взглядом застывшую в общем поклоне толпу из фрейлин, жрецов и приживалок, нашел ту, которая по мнению Тури, больше всех на нее наговаривает… Ох уж эти женские войны… Ладно, пусть пока сами разбираются, спешить некуда, вмешиваться преждевременно.
— Матушка, открой страшную тайну, если не хочешь, чтобы сын твой сгорел от неутоленного любопытства!
— Какую, сын мой, для тебя — все что угодно!
— Как ты меня учуяла?
— Учуяла? Горули чуют, сын мой…
— Прости пожалуйста! Как ты почувствовала, что я…
— Сердце материнское подсказало. Не веришь? Мули, что я вчера перед сном тебе говорила?
Фрейлина Мули, такая же бело-сдобная, с рыхлинкой, как и ее госпожа маркиза, такая же добродушная и краснощекая, выступила вперед и опять поклонилась в пояс молодому повелителю.
— Как нашей матушке-маркизе уже полог на ночь закрывать, так она, милостивица наша, вдруг и говорит мне: «Мули, а вишневое-то вареньице созрело ли у нас? На завтрашний-то день — близко ли находится? Озаботься, — говорит, — Мули, чтобы завтра под рукою было, ведь это любимое лакомство его светлости!»
Хоггроги только руками в восхищении развел. Правда, немедленно в голову пришла догадка, позволяющая объяснить матушкину проницательность и предвидение безо всяких сверхъестественных чудес… Да скорее всего так оно и было: у матушки наверняка хранится что-либо очень близкое к Хоггроги, его внутрисердечный амулет совершеннолетия, например, или локон детских его волос… Ну, точно! Жрец храма Земли отец Улинес, духовник маркизы Эрриси, как раз любит и умеет ворожить по следам и частичкам плоти, а после смерти отца матушка большую часть времени проводит в молитвах и гаданиях. Все невероятное на первый взгляд — объясняется буднично и просто, если основательно изучить все входы и подходы к секрету. На локон-то, на родственный, сигнальное заклинание положить и конюх сумеет. Однако, не стоит разочаровывать матушку разоблачительными догадками… вот лучше он ей подарок поднесет…
Рокари лично снял тяжеленный сундук с гужевой лошади — его бы впору вдвоем, вчетвером нести — и, пыхтя, вбежал с ним в гостевую залу. Ключик от сундука передал его светлости, а сам устроился в первом зрительском ряду — помогать громкими восхищенными выкриками общему празднику подарков.
— Оговорюсь сразу! Пресветлая матушка моя, и все уважаемые присутствующие! Через два дня на третий — праздник всех урожаев! Матушка, без тебя — я даже и не подумаю праздновать, все окна закрою и двери забью, гостям от ворот поворот! Так что, милости просим, умоляем, я и Тури, нас навестить, у нас погостить. А также и всех, кого матушка возжелает с собою взять! В сундуке же — подарки, но отнюдь еще не к празднику, а просто в знак моего приезда!
Начали, как водится, с самых младших: домашних служек, девочек и мальчиков, подметальщиков, печных древорубов, потом уже пошли дары слугам постарше, потом фрейлинам и приживалкам дворянского рода, потом отцу Улинесу, и потом уже матушке. Ай да Тури! Ни одной, ни самой мелкой мелочи не забыла, все в подробный список вошли, даже эта… Нузи… Отцу Улинесу достался гадальный шар, цельновыточенный из громадного сердолика, матушке заморская шаль редчайшего рытого шелка, да не простая, а с забавою! Мало того, что рисунки по шали переливаются разными красками, так еще и шаль на обе стороны носится: хочешь — носи зеленую, расписанную красными птерами, хочешь — навыворот — красную, расписанную зелеными птерами!
— Согреть она тебя не так чтобы согреет, матушка, но — развлечет.
— Сын мой…Сын мой! Дай, я тебя еще и еще обниму… Ах! Нузари, Мули, нет, вы только гляньте: так алый птер, а так уже — розовый! Чудо! А для тепла у меня и шубы сыщутся… Мули, ну что там у нас завтрак? Хогги, может ты в ванну с дороги? Или даже в мыльню?
— Да я бы и не против ванны, матушка, но это нам расставаться лишний раз, а мне и так через сутки уезжать.
— Ну, все одно мне сейчас по хозяйству крутиться… сама не доглядишь, так… Дружина-то в поле? Я им сей же миг винца пришлю, у меня нарочно для них бочонок сладкого имперского припасен. А ты в ванну. Где ты, Роки, птерчик мой? Дай, я и тебя пообнимаю, потискаю. Мы и тебе согрели водичку, и отдельные покои тебя ждут, приготовлены. Потом сразу же к столу. Хогги, а твою свиту мы немедля накормим, что им томиться? Отец Улинес, не сочти за труд, распорядись насчет ратников, чем и как их попотчевать да потом разместить на отдых… Веди их в столовую палату, мы же, ради случая, в главной разместимся, в парадной.
Хоггроги кивал и улыбался, улыбался и кивал: все здесь почти как в детстве, от запахов до обычаев… Эх, хорошо. Но ратникам придется потерпеть до дому с имперским винцом, ибо поход закончится только во дворе казармы. Однако это не помешает им грянуть в ответ на матушкину посылку такое громкое ура, что и в замке услышат! Бочонок… Ничего себе бочонок — сто двадцать весовых пядей! Впрочем, дружинники вылакают это за вечер, и с легкостью…
Потом был обед, по-сельски непринужденный и обильный, однако очень уж долгий, потом молодой сенешаль отпросился к дружине, а Хоггроги после недолгой совместной прогулки остался у матушки в покоях. Хоггроги не терпелось взяться за благоустройство замка, пока он здесь, и для начала повесить на ближайшем суку негодяя-плотника! Каменщиков надо будет прислать, землекопов, пусть и Канцлер тут недельку поживет да потрудится поплотнее, ни одной мелочи не упуская — зима уже на носу. Но плотника!..
— Сын мой, оставь! Остынь и не сердись, мы с Модзо все сами управим, когда ты его пришлешь, плотника я сама накажу. Он не так уж и виноват, это я не велела потолки и чердаки до осени трогать.
— Я просто не хочу, чтобы ты болела и мерзла!
— Ах, сынок… Я ведь не старая еще…
— Ты моложе всех!
— Не моложе, хотя и до старости вроде как далеко…
— Очень далеко! Матушка, я…
— Но с тех пор, как нет со мною света моего, с тех пор, как я одна осталась, я все время болею. Плачу, молюсь, болею, снова молюсь… И сквозняки здесь ни при чем, и старость здесь ни при чем…
— Матушка, ты только скажи, ты только пожелай…
Маркиза Эрриси лишь ладошкой пухлой махнула, не в силах остановить рыдания.
Отогнанные было маркизом Хоггроги фрейлины и приживалки, незаметно и постепенно вновь скопились вокруг повелительницы, подхватили вытье и плач, но Хоггроги больше не стал тому препятствовать, потому что придумал средство.
— Матушка! А помнишь, отец Улинес рассказывал мне, когда я ребенком был, как он за морями странствовал?
— Конечно помню, друг мой, ты очень любил эти рассказы. А где, кстати, отец Улинес? Так разбудите, уж полдничать пора. Вина подайте, взвару цветочного. Хогги, ты что будешь?
— Я бы отварчику на твоих травках. Простого, ящерных костей, отвару, но — с твоими заветными стебельками. Ух, ароматные они!
— Да, духовиты. Сама собирала. И — вот Мули помогала искать.
— Отлично! И отец Улинес опять нам расскажет про заморье, вопросы к нему поднакопились, теперь уже от взрослого меня.
Хогги заранее предвкушал, как после сытнейшего ужина завалится он в почти забытые пуховики (Тури считала, что перины — это старомодно и нездорово, предпочитая на ложе толстые звериные шкуры, застланные шелковыми простынями) да всхрапнет до утра, а уже после завтрака… Надо ведь к праздникам успеть!
Но не суждено ему было ни поспать, ни отметить пышно праздник всех урожаев: под ночь бешеным галопом ворвался во двор замка личный гонец маркиза с великой вестью: у ее светлости маркизы Тури — первые схватки начались, а когда гонец уже садился в седло, ее светлость повели в мыльню, где все приготовлено к родам!
— Не рано ли ей, Хогги? Да ты хоть кусочек съешь в дорогу…
— Не рано, туда-сюда несколько дней… Потом поем, сейчас кусок в горло не идет, матушка!..
И отец Улинес важно кивнул — весь аж светится от радости: не рано, ваши светлости, в самый раз!
Дружина умеет делать стремительные броски, но в сей миг этого мало, мало, слишком медленно для Хоггроги! Ничего, Рокари приведет, а он и сам… даже если охрана отстанет!
Охрана отстала, и Хоггроги один мчался сквозь ночь, домой, туда, где вот-вот свершится одно из главных чудес его жизни, и он станет отцом… А она там одна, бедная… Скорее! Надо отвлечься мыслями, надо срочно отвлечься, раз уж он не может в мгновение ока очутиться в Гнезде, рядом с Тури… Вот, например…
Вот, например, Тулум. Сколько ни размышлял Хоггроги, сколько ни вспоминал прочитанное в книгах и услышанное от отца, сколько ни вслушивался в допросы, чинимые по горячим следам старым сенешалем, он так и не сумел понять — почему они восстали? Чего им не хватало? На что они рассчитывали? Хоть шкурные позывы разбирай, хоть богословские, все одно получается: твари неблагодарные! Уважающие только кнут и жратву из сильных рук! Но даже если и кнут… Не понять, никак не понять!
Но тогда выходит, что либо с человеками нечто изначальное не в порядке, либо с ним, с Хоггроги, который смириться с этим не в силах. Любая из данных двух истин тревожна… и грустна. Вот бы третью найти.
Глава 8
— Спит… А он точно не голоден?
— Я его только что покормила, Хогги, вот только что…
Хоггроги мчался по замку, срывая на ходу шлем, рукавицы, кольчугу… и лишь перед входом в покои своей жены остановился, сдержал дыхание, знаком приморозил слуг у дверей, сам открыл и осторожно вошел.
Тури лежала на низком ложе, передвинутом поближе к окну и смотрела на дверь… Ждала и дождалась наконец… Сама лежит, прикрытая одеялом, а слева от нее сверточек, узенький, недлинный… Хоггроги на цыпочках прокрался к ложу, поверх свертка наклонился и поцеловал мокрую щеку жены…
— И хорошо кушал?
— Не знаю. Я же первый раз кормила.
— Жалко, не успел я…
— Ну, прости, мой дорогой.
Хоггроги спохватился. Он сделал шаг назад, выхватил, не глядя, поданное кем-то полотенце, наскоро отер со вспотевшего лица грязь, вытер руки и вновь приступил к ложу, встал на колени, чтобы удобнее было.
— Ты просто богиня! И очень красива. И я счастлив! И вообще!.. – Хоггроги зарычал от избытка чувств и стукнул себя кулаком в грудь. И еще раз.
— Потише дорогой, ты мне очень и очень нужен живым и здоровым… — Тури опустила счастливые глаза к сверточку… — Нам нужен. И мы тебя любим. Побереги… свои кулачищи.
— Не проснется?
— Нет, новорожденные малыши крепко спят. Повитухи и жрецы сказали в один голос, что наш сын родился очень крепким и здоровым.
— Еще бы! С такими-то предками, как мы с тобой! Тури, ну скажи, чего бы ты хотела? Скажи немедленно! Я все что угодно…
— Во-первых, поспать… устала я. Погоди, не вставай, не уходи!.. У меня к тебе две очень важных просьбы, Хогги.
— Хоть сто!
Тури прикрыла глаза и замолчала ненадолго, словно собираясь с силами.
— Первая, побудь со мною этот день, в моих покоях, не отходи от меня… разве что ненадолго…
— Да я только счастлив буду!
— И умерь голос… Но это еще не вторая просьба, а просто…
— Я тихонечко.
— А вторая… Пусть твой распрекрасный меч полежит где-нибудь поодаль. Здесь, у нас же, покои просторны и места хватит, но — не у тебя за спиною, а где-нибудь в углу, на ложе на мечином… Можно это? От него такой ужас исходит…
Хоггроги без лишних слов сорвал с себя перевязь с мечом и протянул назад. Перевязь и ножны бережно перехватили. Хоггроги загадал про себя и обернулся: Керси. Тоже, оказалось, всю ночь скакал и отстал совсем ненамного. Воин. Быть ему не простым рыцарем по судьбе, быть ему когда-нибудь сенешалем… если доживет…
— Разместишь вон в том углу, прямо в ножнах. Принесешь для него подклад — и вон отсюда, до послезавтра свободен. К родителям съезди, от меня им поклон и благодарность за сына. Всем присутствующим от меня благодарность и подарки. Фрейлинам и дворянам то же самое: отпуск до послезавтра. Остальным — есть и пить вволю сегодня, но подарки — завтра. Все вон отсюда!.. Все свободны! Кроме повитух… тьфу! — сиделок!. Нута, останься тоже.