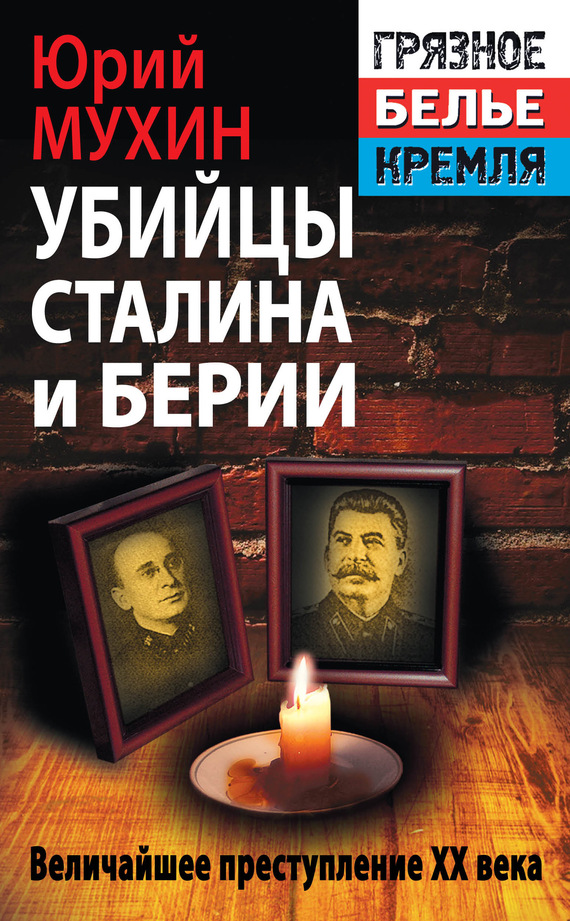При блеске дня Пристли Джон
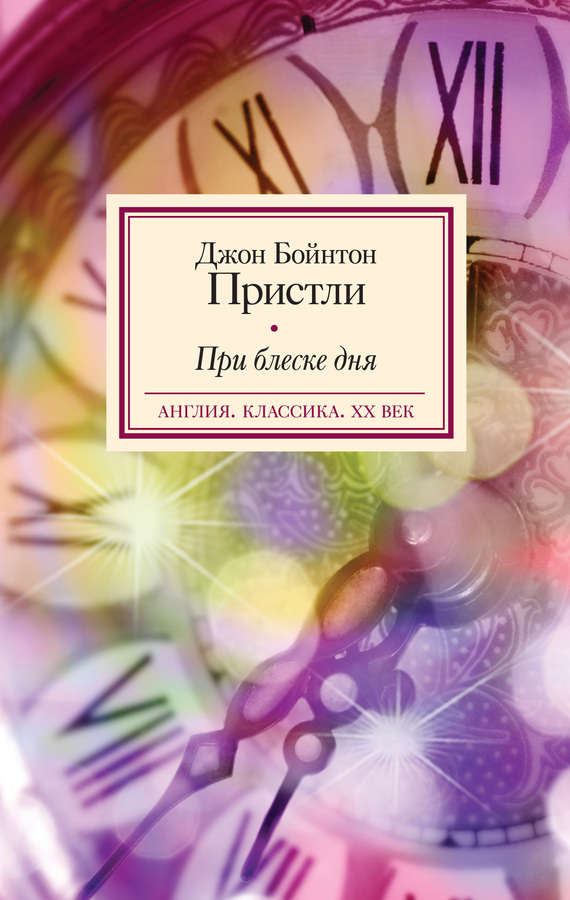
– Хотите кекс? – К нам подошла Джоан Элингтон. Она улыбнулась мне как старому другу. – Тебе пора спать, Дэвид.
– Верно. Вот сейчас поем кекс и пойду. – Он посмотрел на меня. – А вы ступайте к остальным и поболтайте с ними. Предупреждаю, подруги Бриджит ужасно глупые, особенно толстая брюнетка.
Он имел в виду Дороти Соули, и несколько минут спустя, обменявшись с ней парой фраз, я уже был готов согласиться с Дэвидом. Толстой она не была, скорее пухленькой, с круглым румяным лицом и полными влажными губами. Бриджит пригласила ее, потому что она хорошо играла на виолончели. Есть на свете люди, которым до конца жизни суждено оставаться грубо гогочущими и неприлично глазеющими селянами. Дороти Соули показалась мне именно такой. Что-то во мне (я так и не понял, что именно) заставляло ее хихикать; она делала это постоянно и, наверное, хихикает по сей день, когда меня вспоминает. Вторая девушка по имени Уилсон была маленькой, хорошенькой и очень серьезной. Она играла на фортепиано, однако у Элингтонов ей блеснуть не удалось: мистер Элингтон сам любил поиграть и делал это с большим воодушевлением, хотя и несколько небрежно. Я побеседовал с обеими девушками, а потом подали кофе, и в гостиную вошли миссис Элингтон, Ева и Бриджит.
Если бы Джок не предупредил меня о миссис Элингтон, я бы точно решил, что не нравлюсь ей, постарался уйти пораньше и никогда не вернулся. Ее красота словно была покрыта тонким слоем льда, и кроткая равнодушная улыбка ничуть не спасала положение; говорила она тоже холодно и четко выражала мысли, почти как Дэвид, только это производило куда более пугающее впечатление, ведь она была взрослой женщиной и хозяйкой дома.
– Муж о вас рассказывал, – сказала она, передавая мне кофе. – Ему интересны все сотрудники конторы. Да и дети постоянно его расспрашивают. Вам нравится Браддерсфорд?
Я ответил, что нравится, но я еще мало кого знаю. Боюсь, по моему тону она решила, что я очень высокого мнения о собственной персоне и весь Браддерсфорд придет от меня в восторг, когда узнает. По крайней мере ее улыбка предполагала что-то в этом роде.
– Поначалу мне не очень здесь нравилось, – сказал я. – Люди казались холодными, грубыми и сварливыми. Теперь все иначе.
– Вам не дали сахару. Ева, принеси сахар.
Так я оказался лицом к лицу с Евой, которая принесла сахар и вместе с ним – свою сногсшибательную красоту, похожую на глазированную сливу. Дома она была все тем же золотисто-пушистым улыбчивым созданием, что и в трамвае: обстановка никак не отражалась на Еве Элингтон, чего нельзя было сказать о Бриджит, которая в одном месте выглядела почти дурнушкой, а в другом – ослепительной красавицей. Ева словно бы жила в прозрачном конверте, оберегающем ее от внешних погодных условий и влияний, и в этом конверте всегда царил яркий сонный полдень. Впрочем, позже мы убедились, что конверт этот подвержен разрушению; уже тогда, с первого потрясенного взгляда на волшебную сияющую красоту Евы, я как будто угадал за безоблачным голубым взором, гладким лбом, улыбающимися губами и томным голосом слишком слабый дух, слишком пассивный – то, что мы теперь называем пораженчеством. Младшая Бриджит была совсем другой: юной и воинственной.
– Вы поете или играете? – спросила меня Ева.
– Почти нет, – ответил я, твердо убежденный, что никакое мое занятие не в состоянии ее заинтересовать. – А вы?
Если бы она отвернулась, не ответив, я бы даже не удивился.
Но Ева ответила:
– Немножко пою, правда, получается у меня не очень хорошо. Верно, Бриджит?
– Верно, – вполне серьезно ответила ее сестра, переводя взгляд на меня.
Глаза у нее в самом деле были зеленые даже вблизи. Чуть младше меня – буквально на несколько месяцев, она, неудержимо искренняя, прямолинейная и бойкая, вела себя почти как ребенок. Попав в поле ее зрения, вы немедленно начинали склоняться к абсолютной честности, без всяких «взрослых» любезностей и обиняков. Я почувствовал это сразу же и был не менее потрясен, смущен и раздавлен, чем минуту назад с Евой. Между двумя этими девушками я ощутил себя заикой и убогим карликом.
– Вы пишете, не так ли? – перехватила меня Бриджит. – А чтения устраиваете?
– Нет, – пробормотал я. – Пока не устраивал.
Наверно, в этом доме писатели постоянно читали свои произведения. Бен Керри мог начать в любую минуту. Поэтому тон у меня был извиняющийся.
– Сомнительное удовольствие, – произнесла Бриджит.
Ева рассмеялась медленным ленивым смехом из другого мира, из далекой страны спелой кукурузы, извилистых рек и теплого солнца. Бриджит пропустила его мимо ушей.
– Вам может показаться, что я несправедлива, – продолжала Бриджит, пристально глядя на меня, – потому что меня саму хлебом не корми, дай поиграть на скрипке. Но это совсем другое.
– А вот и нет, милая моя, – сказала Ева.
– Да, другое. Чьи-то сочинения играть не так стыдно, – тараторила Бриджит, обращаясь главным образом ко мне. – Я и сама люблю почитать стихи или рассказы знакомых, но избавьте меня от прилюдных чтений! Ужасно глупо выглядит и звучит. Мне становится неловко за человека, потом я начинаю злиться… Сплошное расстройство! Я вас предупредила, Грегори Доусон.
Я ответил, что не нуждаюсь в предупреждениях.
– И вообще, – добавил я, немного расхрабрившись от упоминания моего имени. – Я и не хочу, чтобы про меня думали, будто я писатель. Я еще толком и не начал писать. Ваш отец просто спросил меня об увлечениях, вот я и ответил. Не переживайте, я вам ничего читать не буду.
Тон у меня, вероятно, был почти оскорбленный, и я уже забыл, как обрадовался, что мистер Элингтон рассказал семье о моем хобби.
– Ладно, не злитесь, – сказала Бриджит.
– Ты первая начала, – произнесла Ева.
– Не будь такой занудой! – воскликнула Бриджит, повернувшись к сестре. – И вообще, Ева, ты последнее время ужасно важничаешь. – Она кивнула мне. – Не позволяйте ей важничать. Взяла такую моду недавно!.. Съешьте-ка еще кекса. – Она обернулась и крикнула, чтобы нам принесли кекс.
Оливер, беседовавший с Керри и Джоком Барнистоном, подошел и предложил нам по куску отличного толстого кекса, промазанного кремом и вареньем.
– Самое лучшее здесь – это кексы. Говорят, оркестр Халле лучше Лондонского симфонического, но нет, и лучше бывает. Кекс, мягкий и сочный кекс! – проорал он и взмахнул другой рукой, в которой держал огромную вишневую трубку. Из нее вырвалось облако пепла.
– Осторожнее, идиот! – воскликнула Бриджит. – Ну, что там с песнями?
– Вот проклятие, забыл! Ходил-ходил по своей комнате, думал-думал, зачем пришел… Решил, что надо в стирку вещи собрать, а оказывается, песни! Пе-е-есни! – пропел Оливер.
– Доддерит, – свирепо проговорила Бриджит.
– Мамбоди! – скорбно прокричал Оливер, закрыл глаза и склонил голову. Затем он преподнес мне остатки кекса, вновь опасно взмахнул трубкой, широко улыбнулся и вскричал: – Ну да, песни! Шлямпумпиттер! – И тут же унесся.
– Ничего не понял, – признался я.
Ева улыбнулась.
– Объясни ему, – сказала она подошедшей Джоан, а сама поплыла, улыбаясь, к Бену Керри. Увидев ее, тот сразу просиял.
– У Оливера и Бриджит свой язык, – объяснила мне Джоан, пока ее младшая сестра жадно поедала огромный кусок кекса. – И свои ритуалы. Правда, большую их часть они давно забросили. Что они сейчас делали?
– Оливер забыл взять ноты, – сказала Бриджит.
– Тогда, наверное, он говорил про Доддерит и Мамбоди, – догадалась Джоан. – Эти словечки еще ничего, довольно подходящие, я иногда сама ими пользуюсь.
– Хотя тебе никто не разрешал, – пробубнила Бриджит с набитым ртом.
– Не будь такой противной. Смотри, на пол накрошила! – Джоан повернулась ко мне. – Не подумайте, что мы сумасшедшие, Грегори.
– Я и не думаю.
– Мне надо к девочкам, – пробормотала Бриджит и убежала.
– Вы ехали в трамвае с Джоком Барнистоном, да? – спросила Джоан, глядя на меня красивыми серьезными глазами. У нее была привычка – скорее черта характера, нежели попытка привлечь внимание, – задавать такие пустяковые вопросы заинтересованным и важным тоном, словно между вами вот-вот состоится весьма откровенная беседа.
– Да. Сначала он меня расспрашивал, потом я его. Мне он понравился.
– Джок всем нравится. Папа с ним сразу подружился, как приехал в Браддерсфорд. – Джоан огляделась по сторонам. – А где папа?
И тут до меня дошло, что я его еще не видел.
– Он ведь не мог лечь спать?
Джоан рассмеялась.
– Вот уж чего не стоит бояться! Он всегда ложится последним. Да и время раннее… Наверно, он просто забыл кому-нибудь написать – такое иногда случается. На работе он тоже рассеянный?
– Если честно, понятия не имею, – сознался я. – У меня совсем мелкая должность. Я просто заворачиваю шерсть в бумагу и приклеиваю на свертки бумажки с ценами.
– Да что вы! Это и я могла бы делать!
– Разумеется. Только я бы на вашем месте не стал.
– Отчего вы не найдете занятие поинтереснее?
– Да я нашел…
Возможно, она спросила бы меня, что это за занятие, но в эту минуту в гостиной появился мистер Элингтон. Я все еще держал блюдо с кексом, и он подошел, чтобы взять себе кусочек.
– Мне надо было написать пару писем, – объяснился он. – Что тут у вас происходит?
– Едим, пьем, болтаем, – ответила Джоан. – А Оливер пошел за нотами тех песен, о которых говорил.
– Наверняка опять какой-нибудь замысловатый аккомпанемент, – проворчал мистер Элингтон. – Я лучше постою в сторонке. – Он повернулся ко мне. – Вы читали эссе Бена Керри? Он печатается в «Йоркшир пост» и «Ивнинг экспресс». Талантливый юноша.
Я вспомнил, что действительно видел несколько его коротких, тщательно выписанных книжных рецензий и эссе о прогулках в Йоркшир-Дейлз. Тогда в газетах еще печатали подобные вещи.
– Да, кое-что читал, – осторожно ответил я.
– Вам как будто не очень понравилось, – отметила Джоан.
Уже тогда, в восемнадцать лет, я не стеснялся говорить о своих литературных вкусах.
– Ну, уж очень отдает Конрадом, вам не кажется?
– Вообще говоря, Бен сейчас очень увлечен Конрадом, – спокойно ответил мистер Элингтон. – А что в этом дурного, Грегори?
Джоан бросила на меня еще один ободряющий взгляд, как бы позволяя высказать свое мнение. Так я и сделал.
– В самом Конраде нет ничего дурного. Но зачем ему подражать? Он пишет не по-английски, мистер Элингтон. Такое чувство, что эссе Керри переводят с других языков. И мне показалось, хотя прочел я не так уж много, что стиль не соответствует поднимаемым темам. Впрочем, это только мое мнение, – неловко закончил я.
– Полностью согласна! – заявила Джоан к моему величайшему облегчению.
– Так-так, – сказал мистер Элингтон удивленным, но ничуть не снисходительным тоном. – И все же я читаю его статьи с большим удовольствием. По-моему, Бен очень толковый парень и скоро сделает себе имя. Вот увидите. Здесь он надолго не задержится. Поэтому давайте наслаждаться его обществом, пока есть такая возможность.
– Предоставим это Еве, – заметила Джоан беззлобно, но с некоторой долей ехидства. Я понял, что Бен Керри ей не по душе.
– Бедненький котенок, бедненький котенок, – нараспев произнес мистер Элингтон, точно играя в известную салонную игру.
– Нет, пап! – возразила Джоан. – Я не со зла это говорю. Ева в самом деле…
Тут она умолкла, осознав, что я тоже стою и слушаю. Я сразу сконфузился. Видимо, она это заметила и одарила меня теплой дружеской улыбкой.
– Ах, бедный! Вы так и держите кекс!.. Давайте его сюда.
– Надо же, кто пришел! – воскликнул мистер Элингтон.
В гостиную вошла маленькая женщина с виноватым румяным лицом, а следом за ней – крепкий коротышка с проницательными глазками, решительным носом и громким резким голосом. То был советник Нотт и его жена. Я никогда не видел советника Нотта, однако слышал о нем немало: как от дяди Майлса, который всегда отзывался о нем с изумленным восхищением, так и от других местных. Кроме того, о советнике часто и неодобрительно писали в местных газетах. В Браддерсфорде он был весьма важной птицей – один из самых неутомимых и воинственных социалистов городского совета, не шедший на уступки ни багровеющим от ярости тори, ни мягко протестующим либералам. Когда городу доставалось от королевских щедрот, именно советник вскакивал и громко возмущался подачкам, требуя революции и провозглашения республики. Он с готовностью поддерживал любые нападки на богатых предпринимателей и говорил им, что они набивают себе пузо за счет нищих детей. Нотта невозможно было запугать, подавить или хотя бы утихомирить. Мало кто из браддерсфордцев его поддерживал, однако многие ценили твердый характер и уже по одной этой причине любили его. Оказалось, что Нотты – соседи Элингтонов и часто заходят к ним в гости.
– О, миссис Элингтон, – залепетала миссис Нотт, – я сказала Фреду, что вы вряд ли захотите видеть нас в столь поздний час, но он так настаивал… Вы же знаете, какой он упертый.
– И правильно сделали, что зашли! – с улыбкой воскликнул мистер Элингтон. – Время еще детское. Мы хотели устроить небольшой концерт. Как дела, Фред?
– Ох мы и задали им жару сегодня, Джон! – ответил мистер Нотт. – По крайней мере я задал. Даже испугался, что старика Тапворта хватит удар, так он потрясал кулачищем. Я ему: «Послушайте, полковник, здесь вам не народное ополчение. Не размахивайте руками. Напрягите лучше извилины, если они у вас есть». Наживаются на бедных школьниках, сволочи! Ну ничего, мы это исправим.
– Рад за вас! – вскричал мистер Элингтон. Джоан и еще несколько человек поддержали его подобными репликами.
– Нет, мы не голодны, спасибо, голубка, – сказал Нотт одной из сестер, предложившей ему закусить. – По дороге поели.
– Знаете, что он учудил? – улыбнулась миссис Нотт, и на ее щеках появились очаровательные ямочки. – Купил рыбу с картошкой и ел из бумажного пакета прямо на улице! Нет, Фред, все-таки ты невыносим.
Она посмотрела на него восторженным взглядом преданной и любящей жены, которая, однако, не в состоянии управлять напористым нравом мужа, остающимся для нее загадочной и непостижимой силой.
– Кажется, тебе эта еда тоже пришлась по вкусу, – парировал Нотт, чем вызвал взрыв хохота у окружающих и заставил миссис Нотт покраснеть.
– Раз уж ты все равно опозорил нас обоих, я решила, что голодать мне незачем.
– Конечно, незачем, Сьюзи! – вставил Джок Барнистон. – И этот раунд она выиграла, Фред. А теперь расскажи, что случилось на сегодняшнем заседании Совета.
– Мы своего добьемся, – проговорил Нотт, раскуривая маленькую пузатую трубку, похожую на него самого. – Либералы, понятное дело, уже изменили свое мнение. Полковник Тапворт, глупый старик Брогтон и вся их шайка-лейка, как обычно, рвали и метали. Мол, мы снимаем с родителей всякую ответственность – да еще за счет налогоплательщиков. Словом, все как всегда. Один торговец занимается оптовой торговлей бакалеей, и фирма ему досталась от отца, сам он палец о палец не ударил, но без конца твердит про предприимчивость, – в общем, он считает, что мы помешаем детям развивать инициативность. «Ну-ну, – говорю. – Допустим, мы будем кормить голодных детей булочками с молоком и тушеным мясом с рисовым пудингом. Так что именно, булочки или мясо, отобьет у них инициативность? Если б я голодал в школе, мне бы и то и другое только прибавило инициативности». А он: «Да я не про детей говорю!» Тут я его и подловил: «Вот именно, что тебе до детей никакого дела нет. А нам есть. Походи сперва на уроки с прилипшим к спине животом…»
– Фред! – воскликнула его жена. – Ты безнадежен. Помолчи немного и дай другим вставить словечко.
– Да уж, – сказал Нотт, подмигнув мне (просто потому что я стоял ближе). – Я за день уже наговорился. А что там с музыкой?
– Вот они, ноты! – воскликнул Оливер, входя в гостиную с охапкой нот. – Хочу послушать эти песни.
– А если мы не хотим? – спросил его отец.
– Да вы же говорили, что хотите! Причем все! – негодующе ответил Оливер.
– Хотим, хотим, – с улыбкой произнесла миссис Элингтон. Она явно питала к сыну особые чувства. Оливер улыбнулся ей в ответ, и я заметил за его шумным поведением и клоунадой тонкий шарм, от которого миссис Элингтон наверняка была без ума.
– У двух песен из трех, – прокричал Оливер сестрам, – трио в аккомпанементе! Все ноты у меня есть. Лучше оставь это дело дамам, пап. Ну, девчата, поехали!
– Вот и славно, а мы сядем и помолчим немного! – взревел советник Нотт и тут же уселся на пол, а я пристроился рядом. – Разговоров я наслушался вдоволь, теперь хочется музыки. Я бы на твоем месте приглушил свет, Джон.
– Ты что это раскомандовался, Фред? – спросила его жена. – Кто в этом доме хозяин? Уж не ты ли?
– Он совершенно прав, – сказал мистер Элингтон и выключил светильник рядом с камином. – Он часто бывает прав, как ни жаль это признавать.
Пока Бриджит и Дороти Соули настраивали инструменты – скрипку и виолончель, – а Уилсон и Оливер раскладывали ноты, советник Нотт заново прикурил закопченную трубку, от которой ужасно воняло, и тихо обратился ко мне:
– Ты ведь работаешь на Джона в конторе «Хавеса и компании», так, малый? Кто-то мне про тебя рассказывал. Ну так знай, Джон – человек достойный. Я бы не сказал, что он боец – вовсе нет, и слишком уж смахивает на либерала, – однако таких людей еще поискать. Дело свое знает и не прогибается под рынок в отличие от некоторых. Умеет получать удовольствие от жизни. А мы большего и не хотим: главное, чтобы работящие люди могли наслаждаться жизнью, растить детей, встречаться с друзьями, смеяться и болтать, гулять по вересковым пустошам в выходные, читать хорошие книги, ходить в театр и слушать музыку. Джон с семьей так и живет – потому что им повезло. Да, мы только этого и просим: дать простым трудягам шанс жить точно так же, а не вкалывать круглыми сутками на фабриках, чтобы потом напиваться в баре. Немного ведь просим-то! Раньше у правящего класса куда больше просили, а взамен хотели делать куда меньше. Но попомни мои слова, малый: социализм грядет. Его уже не остановить, как бы тори ни пытались. Вот увидишь. Если они и дальше будут упираться рогом, им несдобровать. Теперь у них вариантов немного, малый. Запомни мои слова. «Да-да, именно так и говорил Фред Нотт», – скажешь потом. И вот еще что. Про меня болтают, что я злобный и дрянной человек, что я вечно против всего, что на уме у меня одни рабочие часы и зарплата. Так вот, это неправда. Я боец, и только. А сражаюсь я – и буду сражаться до последнего – за хорошую жизнь для хороших людей, особенно для несчастных работяг, которые сами ничего не смыслят и постоять за себя не могут. Пусть у них будет все, что есть у меня, пусть они так же наслаждаются жизнью – и даже больше! А если у Джона Элингтона можно послушать хорошую музыку, так я с удовольствием послушаю. И с радостью почитаю хорошие стихи, Шелли, Уитмена да Уильяма Морриса, и пусть они помогают мне бороться. Тебе я советую заняться тем же самым, малый, и как можно скорее.
Я не последовал его совету, потому что выбрал другой путь, но забыть я его не забыл. Фред Нотт воплощал собой молодое рабочее движение, когда оно еще не было испорчено властью, не было озлоблено потерей своих лидеров, когда его по-прежнему озарял свет чистых и благородных устремлений. Он был ограниченным человеком, не без детского тщеславия, однако я увидел в нем то, чего позднее не хватало многим более влиятельным лейбористам, которые знали намного больше, но словно забыли что-то очень важное, о чем Нотт всегда помнил.
Пока советник беседовал со мной, остальные рассаживались по местам в тусклом свете камина, а музыканты под большим торшером возле рояля готовились начать. Песни были главным образом современные, Оливер слышал их в Кембридже, а я ни одной не знал. Только две оказались на английском, остальные – на русском, французском и немецком. Все они обладали удивительной выразительностью, свойственной всему странному и восхитительному, непонятному, но от того не менее красивому. Пока звучали эти песни, я ненадолго оказывался в чужих непостижимых жизнях… шел по далеким лесам, мрачным и печальным, к разрушенным башням… маленькое окошко открывалось на сад, озаренный сиянием дивного цветка… влюбленные встречались в полночь на улицах Праги или Будапешта… на траве-мураве алела кровь умирающего гусара… поэты в черных плащах брели вдоль серых дюн… под высокой голубой луной по кукурузным полям шла таинственная процессия… девушки ждали своих любимых в разрушенных домах, а потом смотрелись в зеркало и видели там старух… в поисках китайской принцессы с лютней и изумрудными птицами мы погибали от жажды в пустыне… ведьмы перешептывались с палачами… мы жили, собирали розы и пили вино, смеялись и умирали, и жили снова. Но все это время я видел в противоположном темном углу бледное и серьезное, зловеще-загадочное лицо Джоан. Раз или два, подавая сигнал из своей тайной страны, она мне улыбнулась. Я видел Бриджит в ярком свете торшера: глаза ее были прикрыты вуалеткой, а черты контрастно и благородно обрисованы светом, отчего ее лицо засияло строгой красотой, которую я и не подозревал в этой девушке. По другую сторону рояля, купаясь в желтом свете, стояла Ева и иногда пела высоким чистым голоском – золотая красавица, сонная принцесса заколдованных трамваев, по-прежнему казавшаяся мне чудом. В тот вечер, увидев дочерей мистера Элингтона сквозь дымку музыки, я влюбился разом во всех трех. Такое возможно лишь в восемнадцать лет, когда любовь еще не открытое влечение, а волшебство, когда она вздымается в нас подобно волне, на гребне которой несется разум, когда она может быть сильной, острой и одновременно рассредоточенной, радужным куполом накрывающей целую компанию. Уже одно то, что я находился в тот миг в доме Элингтонов, казалось мне лучшим из чудес. Только бы этот вечер никогда не заканчивался!
– Почаще заходи к нам в гости, Грегори, – сказал мистер Элингтон на прощание, когда мы с Джоком Барнистоном и Уилсон собрались уходить.
– Обязательно, спасибо большое, мистер Элингтон!
Но когда, когда я могу прийти? Из гостиной доносился смех девушек, которые наверняка уже забыли обо мне, и между нами выросла волшебная изгородь из колючего шиповника. Бросив напоследок еще один взгляд на вытянутое выразительное лицо мистера Элингтона, я мгновенно пришел к выводу, что его жизнь – лучшая из возможных. Вот он – пример для подражания, и мне не нужно покидать ни Браддерсфорд, ни даже контору, чтобы получить все желаемое.
На этом, оставив себя, молодого и полного надежд, на пороге дома Элингтонов в декабре 1912-го, я сознательно прекратил вспоминать прошлое. Было уже поздно, и я начал готовиться ко сну. Воскресив в памяти ощущение, испытанное за дверью заветного особняка, – что мне достаточно лишь в точности повторить путь Элингтона, и жизнь моя будет чудесна, – я спросил себя, стоя над раковиной в спальне, не спряталось ли это безумное убеждение так глубоко, чтобы я уже никогда не смог его потревожить, но чтобы оно могло вечно тревожить меня. Не этим ли объясняется моя неспособность к размеренной жизни? Не потому ли я всегда отказывался от стабильной работы, метался между городами и континентами, так легко тратил деньги на что попало, а теперь вот очутился в этой огромной дурацкой спальне с двумя старыми чемоданами, пишущей машинкой и в полном одиночестве? Раньше я думал, что во всем виновата война – Первая мировая. Но теперь стал склоняться к мысли, что корень моей неприкаянности сокрыт в более далеком прошлом: он сгинул вместе с фирмой Элингтона. Укладываясь в постель, я решил, что хотя бы по этой причине должен как можно тщательнее вспомнить годы своей жизни в Браддерсфорде.
– Ладно, Доусон, – сказал я вслух (пора было этим стенам услышать человеческий голос), – на сегодня хватит. Завтра у тебя много дел. Раз уж ты вернулся из прошлого, пусть оно подождет до следующего раза.
И как ни странно, я почти сразу уснул.
Глава четвертая
Наутро я проснулся в тяжелом смятении, какое часто одолевает меня в начале трудного дня, хотя еще не успел вспомнить, что именно меня ожидает. Потихоньку все прояснилось. Утро придется целиком посвятить работе. Почему? Ах да, к чаю сюда приедут Элизабет, Георг Адонай и Джейк Вест, мы будем до ночи обсуждать сценарий, и поработать уже не удастся.
Я решил как можно скорее вернуться в прошлое: днем, пожалуй, я смог бы вырваться на обрыв и немного подышать воздухом, предаваясь воспоминаниям. Не знаю, что мое подсознание делало ночью, однако с ним произошли какие-то изменения: я проснулся с убеждением, что вспомнить прошлое для меня столь же важно, как закончить сценарий. За ночь оно стало не менее, а более значимым, и приезд Элизабет (хотя я очень ее любил), Адоная и Джейка Веста теперь казался лишь досадной помехой. Я не хотел разговаривать ни с ними, ни с кем бы то ни было еще, пока не вспомню во всех подробностях, что случилось после приезда четы Никси в Браддерсфорд.
Все утро я просидел за работой, а в полпервого уже отправился обедать. Впервые за окнами столовой не грохотал ветер: день выдался теплый и ясный. Между гостиницей и следующей бухтой вдоль края высокого утеса вилась узкая тропа. Чуть в стороне от нее я нашел небольшую ложбинку и уселся там с двумя трубками. Яркое солнце словно выжимало аромат из цветущего утесника и травы; в голубом воздухе кричали чайки, а прибой облизывал гальку на берегу. Однако уже через несколько минут я перестал замечать великолепную сверкающую процессию весеннего дня и вновь очутился в Браддерсфорде, в слякотном и темном декабре 1912-го. Я был мужчиной средних лет, греющимся на корнуэльском солнце, и одновременно – зеленым юнцом, недавно поселившимся в Уэст-Райдинге. При этом я чувствовал, что на самом деле я ни тот ни другой, что оба они лишь персонажи в соответствующих декорациях, и оба приключения, говоря на моем профессиональном жаргоне, – лишь эпизоды фильма, который показывают бог знает где и бог знает кому.
После первого визита к Элингтонам наступила пора, почти ничем мне не запомнившаяся, разве что одной ссорой в конторе. Бухгалтер Крокстон был крайне тщеславен и любил считать себя торговцем на все руки, а не обыкновенным бухгалтером. Посему при малейшей возможности заходил в комнату для образцов и давал мне поручения. Мистер Экворт, мой непосредственный начальник, велел мне не обращать внимания на Крокстона и его приказы. Из-за этого мне все время было неловко перед Крокстоном, и то обстоятельство, что он невзлюбил меня с первого дня, только подливало масла в огонь. Однажды мистер Экворт простудился и ушел домой пораньше, а я остался убирать комнату для образцов. Тут на пороге появился Крокстон и в своей фирменной напыщенно-суетливой манере сказал мне, что сегодня мы должны поработать сверхурочно и отправить нашему немецкому агенту несколько образцов.
– Давай пошевеливайся! – вскричал он, едва не лопаясь от чувства собственной важности. – Нечего на меня дуться, Доусон. Дело есть дело.
– Да я разве против? Но…
– Никаких «но»! – сердито отрезал он, бросая на стойку ворох ярлыков. – Делай, что говорят, да помалкивай!
– Мистер Экворт велел…
Длинный нос Крокстона задрожал от возмущения.
– Слышать ничего не хочу! Мистера Экворта здесь нет, а я есть! Эти образцы нужно отправить сегодня же. Если постараться, успеем до отхода почтового поезда. Заверни эти кроссбреды, да живо!
Я полез на стремянку, бурча себе под нос.
– Что ты там ворчишь?!
– Не ворчу я! Только говорю, что мистер Экворт не велел мне посылать образцы без его…
– Ну что за болван! – воскликнул Крокстон. – Он имел в виду, что это его работа. Но Экворта здесь нет, верно? Значит, мне придется сделать его работу за него. Давай не стой как истукан! Заворачивай кроссбреды.
Совершенно случайно, видимо, потому что у меня дрожали руки, я задел грязный тяжелый сверток с немытой шерстью, и тот свалился прямо на Крокстона, глубоко оскорбив его достоинство. В ярости он затряс стремянку, а когда я спрыгнул, хотел встряхнуть и меня. Однако я был крепче и сильнее Крокстона, хоть и младше на двадцать лет, поэтому без труда его оттолкнул. Его гнев сменился ледяным белым спокойствием.
– Что ж, Доусон, с меня хватит. Надевай шляпу и проваливай. Утром я поговорю насчет тебя с мистером Элингтоном.
Он отвернулся и позвал Эллиса, чтобы тот помог ему с образцами. Если бы мистер Элингтон был у себя, я бы сразу пошел к нему и объяснился, но он уехал в Лондон и должен был вернуться только ночью.
Наутро мы получили записку от мистера Экворта: он решил отлежаться дома. Мистер Элингтон пришел позднее обычного и потому пригласил меня к себе только ближе к полудню. Он не улыбался.
– Мистер Крокстон рассказал о твоем проступке. Это очень серьезно, Грегори. – Лицо у него было скорее печальное, чем сердитое. – Он говорит, что вчера попросил тебя задержаться на работе, ты же сперва надулся, а потом и вовсе вышел из себя, швырнув в него сверток с шерстью… Нас с мистером Эквортом не было, поэтому мы оставили за главного мистера Крокстона. Почему ты не выполнил его просьбу?
– Я не выходил из себя и ничем не швырялся, – возразил я. – Это неправда. Сверток упал случайно. Мистер Крокстон сам вышел из себя…
– Не важно, – оборвал меня мистер Элингтон. – Я хочу знать, почему ты отказался поработать сверхурочно, раз это было необходимо.
В юности, когда мы полны надежд, но еще не уверены в себе, несправедливость обрушивается на нас подобно железному занавесу, и мы сразу же начинаем бороться и кричать.
– Да не отказывался я, мистер Элингтон! – вскричал я. – Все было не так. Он меня недолюбливает…
– Хватит орать. Если тебе есть что сказать, скажи по-хорошему.
На несколько секунд я лишился дара речи и стоял молча, наверняка производя впечатление нагловатого юнца, который вполне может швырнуть что угодно и в кого угодно.
Мистер Элингтон вздохнул и бросил нетерпеливый взгляд на стопку писем у него на столе.
– Ну?
– Мистер Элингтон, – начал я осторожно, – мистер Крокстон попросил меня завернуть и отправить образцы нашему немецкому агенту. Я пытался объяснить ему, что мистер Экворт не велел отправлять образцы, пока он лично их не проверит – или вы, разумеется. И еще он сказал, чтобы я не подчинялся мистеру Крокстону.
– А мистеру Крокстону ты это объяснил?
– Нет, он не стал слушать! Я и слова вставить не успел, как он взбесился.
Мистер Элингтон приподнял удивительные густые брови, которые всегда жили собственной жизнью, точно два мохнатых зверька. Его длинное лицо немного скривилось, словно он хотел улыбнуться, но передумал.
– Так ты не выходил из себя?
– Нет, сэр. Потом он начал трясти подо мной стремянку, а когда я кое-как спрыгнул, схватил меня за грудки. Зачем он так? Мог бы и послушать, что я говорю. Ведь я только пытался передать ему слова мистера Экворта. Вы сами сказали, что я работаю под его началом.
– Да, однако он заболел. Кто-то должен был его заменить. – Мистер Элингтон снова стал суровым. – В следующий раз, когда мистер Крокстон останется за главного, просто выполняй его поручения, Грегори, и все.
– Но что я могу сделать, если…
Он снова меня оборвал:
– Хватит. Возвращайся к себе и приступай к работе. Я вполне понимаю, почему мистеру Крокстону не понравилась твоя запальчивость, Грегори. Мне она тоже не нравится. Поработай над собой.
В юности нас чаще обычного посещают не только обида и замешательство, но и внезапные озарения. Отвернувшись от мистера Элингтона и внутренне решив, что его подменили сварливым и неразумным чужаком, я вдруг осознал: он вернулся из Лондона встревоженный и озабоченный. Я почувствовал в нем слабость духа, которая не позволяла ему уладить конфликт между Эквортом и Крокстоном. Он свалил вину на другого, чтобы, по своему обыкновению, спрятать эту слабость даже от самого себя. Мне же оставалось только одно.
– Хорошо, мистер Элингтон, – смиренно произнес я и вышел.
На следующее утро мистер Экворт пришел на работу мрачнее тучи. Простуда выбила его из колеи. Войдя в комнату для образцов и заглянув в журнал, куда мы вносили отправленные образцы, он тут же начал орать:
– Это еще что за новости?! Иди сюда, малый, иди сюда. Тут список кроссбредов, отправленных позавчера в Германию. Вот посмотри. Держу пари, это Крокстон постарался, узнаю его почерк. Стоило мне отвернуться!
Он бухнул журнал об стол и смерил себя злобным взглядом.
– Да что толку с тобой разговаривать! Все равно что со стенкой. Я же тебе сказал: ты работаешь в комнате для образцов со мной и больше ни с кем! Если меня нет на месте, твоя задача – следить за порядком и не пускать сюда всяких балбесов. Говорил я такое или нет?! Надрать бы тебе задницу…
– Ну все, хватит с меня! – рассвирепел я. – Из-за того, что вы мне велели, я поссорился с Крокстоном! А потом он нажаловался мистеру Элингтону, и от него мне тоже попало! А теперь еще вы… Разве я виноват, что вы не можете разобраться со своими обязанностями?
– Так, малый, еще раз позволишь себе такой тон…
– К черту! – Я сорвал с себя передник и швырнул его в угол. – Надоело. Говорю вам, я не виноват…
– Верно, это я виноват.
В дверях комнаты стоял мистер Элингтон. На его лице сияла улыбка. Я сразу почувствовал себя дураком.
– Вы не ослышались, это моя вина, – продолжил он. – Куда ты собрался, Грегори?
– Не знаю, – пробубнил я. – Домой, наверно.
Он приподнял брови.
– Так ты хочешь от нас уйти?
– Нет, мистер Элингтон, не хочу, – искренне ответил я. – Но это ужасно несправедливо, что мистер Экворт начал на меня орать…
– Ладно, малый, помолчи уже, – перебил меня мистер Экворт. – Надевай передник и за работу. Значит так, вот список образцов, которые надо отправить как можно скорее…
– Минутку, Грегори, – уже без улыбки проговорил мистер Элингтон. – Я действительно считаю, что ты не виноват.
– Не виноват, – признал Экворт. – Но мог бы и поскромнее себя вести.
– В будущем мы постараемся уладить все так, чтобы у тебя не возникало сомнений насчет своих обязанностей, – сказал мистер Элингтон, вновь улыбаясь. – Теперь займись образцами, но разбирай их в дальнем углу, пожалуйста. Мне надо поговорить с мистером Эквортом.
Пока я заворачивал образцы в дальнем углу, они склонились над стойкой и тихо о чем-то беседовали. Я расслышал всего несколько слов, но этого было достаточно, чтобы понять: они обсуждают не нашу маленькую ссору, а что-то связанное со штаб-квартирой в Лондоне, о которой я ровным счетом ничего не знал. Вот что я сумел разобрать: старый Кто-то-там решил отойти от дел, и большая часть его акций достанется некому Бакнеру. Мистеру Элингтону это очень не понравилось, и Экворту тоже. Тут я подошел к стойке за журналом и услышал вот что: «…Да, молодой племянник Бакнера по фамилии Никси. Я пару раз с ним общался. Вроде бы приятный человек…» В тот день я впервые услышал имя Никси.
Конечно, тогда оно меня не заинтересовало. Бакнеры и их племянники были мне безразличны. Я ничего не знал о лондонской конторе и не был знаком с тамошними сотрудниками. А вот то, что мистер Элингтон извинился и снова разговаривал со мной не как с запальчивым мальчишкой, а на равных, согрело мне душу. Однако в наших отношениях до и после ссоры все же была разница (для меня очень серьезная): я опять почувствовал себя неловко, как в самом начале, и не решался пойти в гости к Элингтонам. Да, он сам меня пригласил, но если я пойду в ближайшие дни, он может подумать, что я хочу использовать нашу ссору в своих интересах. По крайней мере так я воспринимал сложившееся положение, и мне не пришло в голову, что мистер Элингтон может и не видеть все в таком мрачном свете. Никто мне не говорил, что взрослые куда проще смотрят на отношения, а молодежь часто бывает излишне мнительна.
Рождество было на носу, и я рассчитывал на чудесные рождественские посиделки у Элингтонов. Я уже видел, как пирую в их славном кругу – не в само Рождество, разумеется, но накануне или на второй день, а может, и на третий или четвертый: в Браддерсфорде тех лет рождественские праздники растягивались на много дней и отличались особой пышностью. С возрастом я стал воспринимать эту пору, которая начиналась уже в ноябре, как повод для продавцов сувенирных лавок и магазинов заработать побольше денег, как аферу для повышения зимних прибылей. Но в те годы Йоркшир еще не пал жертвой потребительской лихорадки, люди праздновали Рождество весело и от души. Праздники начинались точно вовремя, 24 декабря, и тогда уж браддерсфордцев было не остановить (даже снег шел будто бы чаще). На улицах играли оркестры и пели хоры; вы обходили дюжину домов, съедали тонны кексов и мясных пирогов, запивая их галлонами пива и портвейна, виски и рома; сигарный дым так густо пропитывал воздух, что, казалось, его выдувают фабричные трубы; подарки исчислялись сотнями; интерьер любого дома напоминал фламандские натюрморты с индейками, гусями, ветчиной, пудингами, засахаренными фруктами, винными бутылками, инжиром, финиками, шоколадом, остролистом и пестрыми бумажными шляпами. То была сказочная страна молочных рек и кисельных берегов, и с тех пор мир не знал ничего подобного – да и вряд ли когда-нибудь узнает.
В контору, хоть это наверняка было запрещено законом, постоянно прибывали ящики со спиртным, сигарами и прочими гостинцами от фирм, с которыми мы работали, а Джо Экворт, полностью поправившийся и уже пахнущий виски и гаванскими сигарами, превратился в коренастого, безбородого и сварливого Санта Клауса. Крокстон выдал нам двойное жалованье и стал понемногу воплощать в жизнь свои представления о том, как кассир-джентльмен должен радоваться Рождеству. Мистер Элингтон носился туда-сюда с пакетами и свертками. Наверху, на складе, старик Сэм каким-то чудом успел напиться в обеденный перерыв и остаток дня спорил о религии с тремя сортировщиками шерсти, которые не отличались ни набожностью, ни интересом к теологии, зато любили поспорить со стариком Сэмом.
– Иди сюда, Грег! – крикнул он, увидев меня на пороге склада. Его «военный» глаз остекленел, зато другой, гражданский и независимый, попеременно подмигивал и слезился. – Вот этот малый понимает, что к чему. Держу пари, он со мной согласится. А почему? Потому что я говорю разумные вещи! Мир и благоволение? Да пожалуйста, я только «за»! Рождество и все такое прочее… Только не надо мне рассказывать про богов, сыновья которых рождаются в хлеву, чушь это собачья! Я головой думаю в отличие от вас.
– А чем ты думал, когда велел поставить сюда эти тюки? – спросил неизвестно откуда взявшийся Джо Экворт. – Ты посмотри-ка! Что я тебе говорил?
– Головой я думал, головой! – проорал старик Сэм (он всегда орал на Экворта, даже когда был трезв). – Здесь им самое место, потому что они пойдут вперед мериносов. Забыл небось, а? Ну а я не забыл! Все разумно.
– Ладно, твое дело! – крикнул в ответ Экворт. – Сигару-то будешь, нет?
– Отчего же нет! – рявкнул старик Сэм. – И эти парни тоже не откажутся. Хорош кочевряжиться, мистер Экворт, давай сюда свои сигары.
Все еще сердясь и бранясь, Экворт быстро раздал всем сигары.
– Кубинские «партагас»!.. Вам-то все одно, что курить – хоть капусту.
Один или два сортировщика тут же закурили, и на складе сразу наступило Рождество.
Экворт позвал меня обратно в комнату для образцов.
– Значится так, малый, – начал он сердитым тоном, как будто я снова провинился. – Ты мой адрес знаешь, нет? Дом называется «Розарий», предпоследний справа, если идти в сторону лощины Уэбли. Доезжаешь на трамвае до конечной, потом четверть часа топаешь пешком на холм. Я это к чему? Мы даем большой званый ужин на второй день Рождества. Если не хочешь, не приходи! – злобно проорал он. – Как душе будет угодно, чтоб тебя! А если все-таки надумаешь, милости просим.
Я поблагодарил его, но сказал, что пока не знаю дядиных и тетиных планов на этот вечер. На самом деле они никуда не собирались, просто я еще надеялся получить приглашение от Элингтонов. Я бы с удовольствием навестил Джо Экворта и его «Розарий», однако меня по-прежнему манила лишь волшебная компания: их магия, увы, высосала все краски из прочих радостей жизни. Канун Рождества и само Рождество я пообещал провести с дядей, тетей и их друзьями, но никакого волшебства в этом не было, я лишь выполнял свой долг перед семьей. А поскольку мистер Элингтон, к моему великому разочарованию, так и не пригласил меня в гости на праздники, я покинул контору в безрадостном и почти скверном настроении.
Всю свою жизнь, стоило мне на что-нибудь понадеяться, меня ждало глубокое разочарование. И наоборот, когда я смирялся с неизбежной повседневностью, мироздание удивляло меня чем-нибудь приятным. Так произошло и в это Рождество. Все устроилось наилучшим образом, как говорят в Йоркшире, «складно да ладно». Я ожидал, что мне предстоят скучные праздники в кругу стариков (ради тети и дяди я пошел бы и не на такое), а вышло по-настоящему весело. Канун Рождества, как было заведено в те годы, мы провели в гостях – в основном у игроков в вист, которые часто собирались дома у дяди и тети. Среди них оказалось множество удивительных и презабавных личностей. (Сидя на корнуэльском обрыве в то утро, я невольно задался вопросом, существуют ли такие персонажи в наши дни. Если да, я их не встречал.) Например, некий мистер Пекель – невероятно толстый и с высоким визгливым голоском – на удивление хорошо показывал фокусы и смешно робел перед собственной женой, крошечной и бойкой леди. Мистер Варквуд, похожий на Авраама Линкольна, вновь и вновь зачитывал Герберта Спенсера и, будучи завзятым индивидуалистом, вел нескончаемую войну со сборщиками налогов. Супруга у него была пухлая и веселая дама, которая не понимала ни слова из разглагольствований мужа, зато славилась своей выпечкой. Мистер Данстер, грозный здоровяк и брюзга, ужасно сквернословил у себя на фабрике, но в часы досуга мог пройти тридцать миль по вересковым пустошам, любуясь полевыми цветочками. Выпив несколько бокалов виски, мистер Данстер страшным басом пел «Уснули в пучине». Еще один дядюшкин друг, чье имя я забыл, – главный зарубежный корреспондент одного крупного издания, свободно владел дюжиной языков. Его романтичная супруга, обвешанная экзотическими украшениями, была родом с юга страны, и у людей невольно складывалось впечатление, что мужу она досталась в придачу к иностранным языкам как образец нездешних манер и поведения. Я всегда удивлялся, что они не говорят на ломаном английском, по крайней мере где-то в глубине души они наверняка его ломали. Еще был мистер Блэкшоу, торговец отходами шерстяного производства, крупный и очень серьезный, очень добрый и щедрый человек без намека на чувство юмора: дядя Майлс и прочие остряки постоянно его разыгрывали. Однако главным сообщником дяди и моим любимцем был весельчак и оптовый торговец табаком Джонни Лакетт: у него были густые волнистые волосы и огромные черные усы, одевался он очень стильно и, по-моему, всегда был слегка подшофе. Две сестры Джонни Лакетта играли в театре, поэтому сам он и его жена – могучая беспечная женщина с могучим беспечным голосом, которая временами пела на концертах, – казалось, тоже имели отношение к сцене. Они ходили на все местные спектакли, знали все театральные сплетни и часто посещали загадочные фуршеты в гостинице «Корона». Джонни мог часами играть на пианино и знал наизусть сотни юмористических песенок. Исполнив несколько таких номеров, они с миссис Лакетт принимались петь «В старом Мадриде» и «Я грезил», а потом с потрясающей уверенностью и мастерством исполняли «Скажи, красавица» из комедийного мюзикла «Флородора». Они восхищали меня, эти Лакетты, и я до сих пор жалею, что не познакомился с ними поближе.
Последней супружеской четой, к которой мы зашли в гости тем вечером, были Пакрапы – скромные, добрые и застенчивые люди, на которых неожиданно свалилось изрядное наследство. Теперь они жили в мрачном старинном поместье среди десятка слуг, которых боялись до потери пульса, и робко устраивали шикарнейшие приемы. Я по сей день вижу, как маленький мистер Пакрап с виноватым видом наливает мне отменный выдержанный бренди, словно это выдохшееся пиво, а миссис Пакрап протягивает дрожащую руку к шнурку колокольчика.
Однако мне совестно описывать этих людей вот так, коротко и хладнокровно, словно зверей в зоопарке. Они жили в атмосфере дружбы, любви, гостеприимства и старомодных розыгрышей. Конечно, у них тоже были свои печали и заботы, просто я по молодости о них не догадывался. Сами они не считали свой мир таким уж уютным, безопасным и теплым, каким его воспринимал я. Тем не менее с 1914 года, когда засвистели пули и начали расти горы трупов, никогда и нигде я больше не находил такого уюта и тепла. Любое веселье – на Рождество и прочие праздники – стало казаться мне наигранным и натужным. Дядя Майлс и его друзья не пытались забыться. Страшные воспоминания их не преследовали. Они еще не догадывались о жестокости людей; их сердце не было разбито. Они совершенно искренне, без иронии радовались звону колокольчиков и рождественским песнопениям. Веселое Рождество праздновали от всей души.