Рецепт Екатерины Медичи Арсеньева Елена
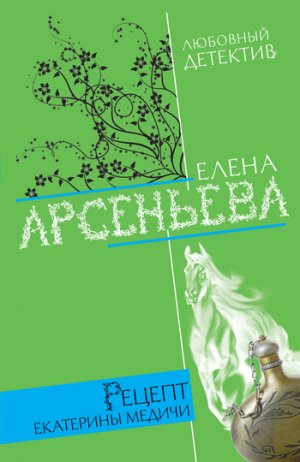
– Одно из двух! – повторяет Хорстер. – Или ты врешь и ничего не видел, а просто плетешь, что пришло на ум, или… или ты пособник того, кто это сделал. И скорее всего, второе. Где профессор Торнберг? Говори, ну!
«Он сошел с ума! – понимает Марика. – Он просто-напросто сошел с ума! При чем тут профессор Торнберг?!»
– Какой профессор?! – визжит рыжий, судя по всему, отчаянно жалея, что ввязался в эту историю. – Не знаю я никакого профессора! Я вообще не понимаю, о ком вы говорите!
– Я говорю, – с любезной улыбкой, которая кажется страшным оскалом на его перепачканном разноцветной пылью лице, поясняет Хорстер, – о мужчине лет семидесяти в тирольской шляпе и с объемистым свертком под мышкой. Одет он в черное потертое пальто. У него лихие усы наподобие тех, что носил император Вильгельм. Ты видел его? Ты видел, как он убил Вернера?
Марика оглядывается в поисках еще какого-то Вернера. Взгляд ее снова натыкается на высокого доктора, все так же висящего на трубе. И она поспешно жмурится, потому что к горлу снова подкатывает тошнотворный ком. «Так ведь это он – Вернер! – вдруг догадывается она. – Так зовут доктора! Но откуда Хорстер знает? Они что, знакомы? Не может быть. Наверное, доктор представился ему там, в метро, когда давал таблетку… Странно все это! Странно и страшно!»
– Не знаю я никакого Вернера! – срывающимся дискантом вопит рыжий. – А этот ваш профессор… да, я его видел. Его завалило, понятно? Теми же самыми обломками, от которых отпрянул тот несчастный. Так что, если вам нужен ваш профессор вместе с его усами и перышком, можете начинать разбирать завал, не дожидаясь, пока приедут пожарные. – И он злорадно хохочет, а потом начинает биться, дергаться с такой неистовой силой, что ему удается вырваться из рук Хорстера, и он немедленно бросается наутек.
Хорстер с проклятьем кидается вслед, однако тут Марика выходит из своей спячки и преграждает ему путь.
– Вы что? Опомнитесь! – кричит она возмущенно. – На вас смотреть противно! Что вы привязались к этому несчастному? Почему не верите ему, почему начали пытать его? Даже если он врет, разве можно быть таким жестоким? Вы… вы самый настоящий…
Она хочет выкрикнуть: «Вы самый настоящий гестаповец!», но осекается. Даже в запальчивости, даже в ярости нельзя давать воли языку. Отец любит к месту и не к месту употреблять старинную поговорку: «Язык доведет до Киева и до кия». Однако в Берлине в 1942 году язык может довести не только до кия, то есть до палки, которой тебя побьют за болтливость, но и до виселицы.
Ой, ну зачем она вечно вмешивается не в свое дело? Вот сейчас Хорстер как вцепится в нее, как потащит в гестапо вместо рыжего, который уже успел растаять в пыли среди обломков стен…
Так и есть: разъяренный Хорстер хватает ее за плечи и начинает трясти с такой силой, что у нее голова качается из стороны в сторону и, чудится, вот-вот отвалится.
– Знаете, что я вам скажу, фрейлейн Марика? – бормочет он, и язык у него заплетается от злости.
Марике страшно, что это она вызвала такой неистовый приступ ненависти. Девушка пытается вырваться из рук Хорстера, но это бесполезно. И она впервые понимает смысл затейливой фразы, которая прежде частенько встречалась ей в романах: «Его пальцы впились в ее плечи». Да какое там – впились! Чудится, пальцы Хорстера насквозь проткнули ей плечи! Не вырваться, нет, не вырваться!
– Знаете, что я вам скажу, фрейлейн Марика? Ваш шеф польстил вам, очень польстил, когда назвал вас просто легкомысленной. Я бы назвал вас идиоткой. Да-да, безмозглой идиоткой! Зачем вы мне помешали остановить этого человека? Знаете, кто это? Пособник Торнберга, который несколько минут назад хладнокровно и изобретательно убил Вернера! – Он осекается, словно пытаясь справиться с голосом, и продолжает лишь через несколько мгновений: – Я сразу, еще в метро, заподозрил, что Торнберг жесток и коварен, но такого я не ожидал… Этот рыжий пытался отвести мне глаза, но ведь и слепому понятно, что здесь налицо не несчастный случай, а убийство!
Слепому – может быть, но идиотке Марике сейчас понятно лишь одно: из ее плеч через мгновение польется кровь, как льется она из тела несчастного Вернера. Ей больно так, что она теряет не только соображение, но и контроль над собой.
– Отпустите меня! – кричит Марика так, что сама на миг глохнет от своего собственного крика.
Оказывается, с маньяками вроде Хорстера нужно разговаривать именно на таких запредельных высотах: его пальцы мигом разжимаются, и он даже отшатывается от Марики. Его светлые глаза делаются изумленными, как у ребенка. Словно тоненькая иголочка пронзает сердце Марики: кажется, это стыд за то, что она так орет на Рудгера Вольфганга Хорстера, «просто Рудгера». Ну вот еще! Нашла чего стыдиться!
– Вы сошли с ума! – снова кричит она, правда, на сей раз несколько тише. – Профессор погиб, вам же сказали! Как он мог, когда он мог убить этого вашего Вернера?
Глаза Хорстера становятся прежними: узкими, ледяными.
– Я вам скажу, как и когда, – произносит он. – Профессор решил, будто Вернер следит за ним.
Марика вспоминает, что из метро врач (или Вернер, какая разница) шел буквально за спиной Торнберга. Ну что ж, профессор вполне мог решить, будто это слежка. Ну и что?! При чем тут убийство?!
– Профессор – безумец, – продолжает Хорстер. – Помните ту чушь, которую он плел нам в метро? «Окончательное решение», Варфоломеевская ночь, Гаурико, его неизвестная книга… Помните?
– Помню, но не вижу тут никакого безумия, – зло отвечает Марика. – Да и вы слушали «ту чушь», как вы изволили выразиться, с огромным интересом, это я тоже отлично помню.
– Да что вы вообще понимаете? – пренебрежительно бормочет Хорстер. – Под вашей интеллектуально-утонченной маской скрывается совершенная невежа. Вы ведь ничего не знали ни о Гаурико, ни о криптологии. Пожалуй, даже о Варфоломеевской ночи слышали, возможно, первый раз!
Марика так и замирает с открытым ртом. Что-о? Экая наглость!
– Ну так вот, – как ни в чем не бывало продолжает Хорстер. – Сумасшедший профессор решил, будто Вернер следил за ним, набросился на него, схватил – и с нечеловеческой силой насадил на эту трубу, как жалкое насекомое. Убил безжалостно, чудовищно! А сам бежал! Но у него был сообщник, который наворотил тут кучу всякой ерунды, чтобы дать Торнбергу время скрыться. И вы, слабонервная русская дурочка, помешали мне задержать его!
Ну, все, с Марики довольно!
– Может быть, я и дурочка, и идиотка, – говорит она совершенно спокойно. – Однако мой брат учится в Париже на медицинском факультете. Он хочет стать психиатром. И от него я знаю, что это за штука такая: маниакально-депрессивный психоз, иначе говоря – мания преследования. Правда, мне еще ни разу в жизни не встречались люди, к которым можно было бы применить такой диагноз. До сегодняшнего дня. До того, как я увидела вас, герр Хорстер! – И она делает легкий книксен.
Конечно, раскиданные там и сям битые кирпичи и куски штукатурки – не самое удобное место для демонстрации собственной грациозности. Какой-то обломок попадает Марике под ногу, и она неуклюже шлепается наземь, на то самое место, которое в их семье называется изящным эвфемизмом – пятая точка.
Хорстер не делает никакой попытки ни поддержать ее, ни помочь ей подняться. Он просто смотрит сверху вниз и говорит:
– Этот рыжий негодяй посоветовал мне заняться разборкой завала, под которым якобы погиб Торнберг? Ну что ж, я так и сделаю!
«Просто Рудгер» смотрит на каменную груду с таким выражением, что на какой-то миг Марике кажется: вот сейчас он накинется на кирпичи и камни и примется расшвыривать их с яростью одержимого. Однако Хорстер поворачивается и начинает поспешно пробираться между развалин к группе пожарных, которые пытаются разобрать какой-то завал. Судя по тому, что вокруг толпятся рыдающие люди, там кого-то завалило, и несчастных еще надеются спасти. Однако Хорстер хватает человека с белой повязкой на рукаве (видимо, старшего в бригаде) за руку и начинает что-то ему настойчиво говорить. Тот отмахивается, словно от докучливой мухи, и Марика злорадно хихикает.
Однако Хорстер не унимается. Он достает из нагрудного кармана какое-то удостоверение и протягивает старшему. Тот внимательно читает и смотрит на Хорстера растерянно. Нерешительно оглядывается на завал, потом смотрит туда, куда показал Хорстер…
Боже мой, да неужели он прекратит спасение людей и пойдет с этим маньяком только потому, что тот облечен какими-то полномочиями, таскает в кармане удостоверение гестапо или СС? Да чтоб ему провалиться, этому Хорстеру, вовек бы его не видеть! Так в ярости думает Марика, но тут же спохватывается: а чего ж ты тут тогда стоишь, если не хочешь его видеть? И в самом деле, пора домой… Может быть, у нее и дома-то больше нет? Девушка вскакивает и, даже не тратя время на то, чтобы отряхнуться, бросается вперед. Но тут же нерешительно останавливается: чтобы выбраться из развалин, нужно пройти мимо висящего на стене человека… Если обойти, наткнешься на Хорстера, который все еще препирается с начальником пожарной бригады.
Нет уж, лучше мимо мертвеца, зажмурясь, бегом…
Ни зажмуриться, ни бежать не удается – это опасно для жизни. Старательно глядя под ноги, Марика медленно и осторожно пробирается мимо страшной стены. Но краем глаза она все равно видит несчастного Вернера. Что-то словно бы цепляет ее взгляд. Что, что именно?
«Иди, иди мимо, – твердит себе Марика, – неужели ты хочешь еще раз увидеть кровавую рану, искаженное предсмертной мукой лицо?» Но нет, дело не в позорном праздном любопытстве. Что-то там…
Она резко, словно решившись прыгнуть с крутизны, вскидывает голову и видит, что между судорожно скрюченных пальцев трупа что-то белеет. Какой-то листок, бумажный листок.
«Ну и ладно, ну и посмотрела. Ну и иди дальше!» Но Марика не идет. Она стоит, словно завороженная, и смотрит на скомканный листок.
Что это? Как будто записка… И что? Если это кого-то и должно интересовать, то одного только Хорстера. Странно, почему он до сих пор не вытащил листок из мертвых пальцев? Не заметил? Да, в самом деле, с того места, откуда они увидели мертвеца, со стороны метро, бумажки не видно. А вот если пройти мимо него, как прошла Марика…
Что ж там за листок?
Неодолимое любопытство терзает Марику. Она понимает всю позорность и неуместность этого чувства, ей по-прежнему страшно, к горлу вновь подкатывает комок, однако она ничего не может с собой поделать: кончиками пальцев, вернее – кончиками ногтей, подцепляет листок и выдергивает его из мертвой руки. Да ведь это те непонятные значки, которые рисовал Торнберг! Это его листок!
Кошмар какой… Ничего не понятно!
Но как листок попал к Вернеру?
Стоп, стоп… Хорстер хотел завладеть запиской. Профессор ее не давал. От волнения у Хорстера случился сердечный приступ, он попросил позвать доктора, которым и оказался Вернер.
Да? Ты очень наивная девочка, Марика! А если предположить, что Вернер – сообщник Хорстера… Нет, сообщник бывает у преступников в криминальных романах, а у гестаповцев это называется просто сотрудник. Понятно, почему Хорстер знал его имя, ведь «доктор» – еще один агент, но более мелкая сошка, чем Хорстер. То-то он вбежал в метро сразу вслед за нею и Хорстером! Может быть, Вернер был его охранником, который имел приказ до поры до времени держаться подальше от шефа. И он держался, непрестанно наблюдая. Легко поверить, что Хорстер нарочно инсценировал свой приступ, чтобы Вернер смог приблизиться к нему, не вызывая подозрений. Он так и сделал. И, «исцеляя больного», получил приказ: пользуясь толчеей, вытащить листок из кармана пальто Торнберга. То-то Вернер со всех ног бросился вслед за профессором! И догнал его, и вытащил листок, но тут…
Что произошло? Вмешалась судьба? Вернер пытался спастись от падающей стены, а вместо этого… Нет, кажется, наблюдательный Хорстер прав: Вернер никак, никаким образом не мог наткнуться на трубу. Разве что она сначала была ниже, как раз на уровне его груди, а потом почему-то поднялась…
Ага, поднялась! Учитывая, что на трубе повисло тело человека, она как раз должна была еще сильнее опуститься!
Неужели профессор, заметив, что Вернер что-то вытащил из его кармана, мигом узнал его, связал концы с концами, понял, что «врач» делает это по приказу «больного», пришел в такое неистовство, что зверски убил несчастного шпика? Почему просто не забрал бумажку? Ах да, потому, что буквально в следующее мгновение его погребло под обломками здания.
Что делать с листком? Выбросить эту абракадабру? Отдать Хорстеру?
Ну, нет! Марика комкает бумажку.
Может быть, просто выбросить эту абракадабру?!
Она растерянно оглядывается и видит, что Хорстер уговорил-таки пожарных перейти к новому завалу, и они сейчас приближаются.
Заметил он, что Марика вытащила из мертвой руки листок, который был ему так нужен? Что он сделает с Марикой, если узнает: она завладела таинственным письмом Торнберга? Судя по той участи, которая ожидала несчастного Вернера, Хорстер и профессор друг друга стоят, и в это дело лучше не вмешиваться. Тем более – глупым девчонкам вроде чувствительной русской барышни. Отчасти Хорстер прав: пусть у Марики и утонченная внешность, но переизбытком образованности и ума она не страдает. Не лучше ли просто скомкать листок, швырнуть в развалины и убраться восвояси?
Вместо того чтобы отбросить бумажку, Марика сует ее в карман плаща – и со всей возможной скоростью бросается бежать, изо всех сил уповая на то, что Хорстер ничего не видел и ничего не понял. И вообще он не знает ее адреса, а значит, никогда ее не найдет. Она освободилась от своего пугающего спасителя! Навсегда освободилась!
О том, что Рудгер Вольфганг Хорстер – добрый, судя по всему, знакомый бригадефюрера СС Шталера, шефа министерства, в котором она работает, Марика начисто забывает…
– Пятнадцать человек на сундук мертвеца, – задумчиво произносит Бальдр. – Йо-хо-хо, и бутылка рому!
– Тебе смешно! – передергивает плечами Марика. – А я до сих пор в себя прийти не могу! Ты и представить не можешь, как мне было страшно!
– Ну, почему – это я могу вообразить. А вот чего не могу представить при всем желании, так это того, как ты решилась вытащить злосчастный листок из мертвой руки… не зря я вспомнил Стивенсона! Смотри, как бы тебя не настигло какое-нибудь там проклятье капитана Флинта. Конечно, когда я с тобой, тебе бояться нечего. Но мне так редко удается к тебе вырваться… Будь осторожна, очень тебя прошу!
– Ты лучше сам будь осторожен. Стивенсон – запрещенный писатель в рейхе, ты разве не знаешь? Смотри не упоминай его при ком-нибудь, кроме меня!
Марика осторожно проводит кончиками пальцев по его щеке, и Бальдр слышит еле уловимое шуршание щетины, которая уже подзатянула его лицо. Таким, небритым, Бальдр поедет в полк. Конечно, ему давно надо было привезти запасную бритву и помазок к Марике, но он боится оскорбить ее чувства: принеси он в ее дом предметы своего туалета, Марика может воспринять это так, будто Бальдр фон Сакс предъявляет на нее какие-то права. Бальдр уважает ее стремление к независимости (дурацкую строптивость, про себя он предпочитает называть это именно так!), но не понимает, почему, почему, трижды, черт побери, почему он все еще не имеет прав на Марику, если как минимум два раза в месяц (когда позволяет служба) он ночует у нее, спит в ее постели, владеет ее телом, испытывая от этого несказанное наслаждение и, хочется верить, доставляя такое же наслаждение ей. Согласись Марика, Бальдр в тот же день женился бы на ней, даже не поставив в известность родных. Тем паче, что все фон Саксы давным-давно наслышаны и о Марике, и о любви к ней Бальдра, и о ее пресловутой независимости, и о том, что он делал ей предложение раз десять или двадцать, неизменно получая отказ. И при этом она не гонит его от себя, она спит с ним, ходит на вечеринки к их многочисленным друзьям, не возражает, когда ее называют девушкой Бальдра фон Сакса, она хранит его тайны и открывает ему свои секреты! Она даже эту жуткую историю, случившуюся во время вчерашней бомбежки, рассказала только ему, ни словом не обмолвившись ни лучшей подруге Урсуле, ни второй подруге, Лотте. И только Бальдру показала Марика скомканный листок, доставшийся ей таким страшным образом: загадочный листок, испещренный непонятными знаками…
Впрочем, далеко не все знаки так уж непонятны. Что означает буква R, Марика запомнила со слов профессора и рассказала Бальдру. Получается, это и в самом деле рецепт… Чего? Судя по тому, что здесь нарисована звезда Давида, он имеет отношение к пресловутому еврейскому вопросу… Рецепт отравы для иудеев, что ли?
Бальдр хмурится. Если честно, то по большому счету он антисемит. Он с удовольствием жил бы в «Германии для немцев», избавленной от пронырливого, хитрого, лукавого и лживого племени, заполонившего весь мир. Говорят, даже в Китае есть евреи! Евреи-китайцы, евреи-японцы, евреи-негры… В голове не укладывается! Бальдру приходилось читать Чехова, и он отлично запомнил едкую фразу русского писателя: «Нет такого предмета, который еврей не мог бы избрать для своей фамилии!» Да разве только в фамилиях дело? Все они жадные, расчетливые Шейлоки, все как один…
Бальдр фон Сакс ничего не имел против, когда в 1933 году новый рейхсканцлер Адольф Гитлер запретил все браки между евреями и немцами и объявил недействительными все такие браки, заключенные прежде. И это было только начало! Тогда освободилось много рабочих мест: всех евреев поувольняли с государственной службы, лишили их права заниматься банковским делом, быть юристами, врачами и даже домашней прислугой у немцев. Хотя никто в жизни не видел еврея в роли лакея или еврейку-горничную – они все устраивались как-то иначе. Это была богатая буржуазия, а никакой не пролетариат… И вот они лишились всего: им нельзя останавливаться в отелях, посещать рестораны, а в театрах и кино можно бывать только в определенные часы. Им нельзя водить машину! Если они пожелают покинуть Германию, то могут забрать собой только пять процентов имущества. Не нравится? Оставайтесь и соблюдайте новые правила жизни! И носите на одежде желтую звезду.
Хотя приказ насчет желтой звезды Бальдр счел совершенной нелепостью. В Германии любят все идеи, даже великие, доводить до абсурда! В конце концов ему стало тошно видеть измученные, испуганные физиономии тех, кто еще недавно выходил из своих «Мерседесов», сверкая бриллиантовыми перстнями и опираясь на кипарисовые трости с золочеными набалдашниками. Он не мог без неловкости смотреть на фрау Розенблюм, вдову антиквара, у которого часто делали покупки его родители. Теперь фрау Розенблюм существовала тем, что распродавала свое добро. Добра, конечно, после смерти Соломона Розенблюма осталось много, жила его вдова безбедно, однако в лице ее появилось что-то столь жалкое, приниженное, заискивающее, что очень быстро превратило пышную, внушительную даму в замученную старуху. Бальдр учился в Воздушной академии, ходил, конечно, в форме, и фрау Розенблюм при встрече всегда смотрела на него с таким испуганным выражением, как будто боялась, что сейчас этот молодой курсант, сын ее старинных знакомых, кинется ее беспощадно избивать.
Но самое удивительное, что именно у фрау Розенблюм Бальдр познакомился с Марикой. Это было еще в марте 1940 года. Бальдр сопровождал в лавку мать, которая собралась сменить абажур на своей любимой настольной лампе. Марика же искала подарок на свадьбу подруге – ей посоветовали зайти к фрау Розенблюм, которая распродает по дешевке истинные сокровища. Да, Марика тогда совсем недорого купила серебряный кофейник для подруги, а себе чудное колье: бирюза в бронзовой оправе. Правда, на взгляд Бальдра, оно было грубоватое и слишком массивное, но Марика сказала, что любит варварские украшения. Она захотела тотчас надеть колье, но никак не могла справиться с застежкой.
Фрау Розенблюм куда-то подевала очки, а без них она ничего не видела; фрау фон Сакс, матушка Бальдра, в это время как раз звонила по телефону мужу, чтобы посоветоваться о цвете выбранного абажура; поэтому именно Бальдру пришлось застегивать «варварское украшение» на нежной, длинной шейке Марики, и это так на него подействовало (она стояла, наклонив голову, придерживая пальцами тонкие русые волосы, ее шея была покрыта нежным пушком и, когда Бальдр коснулся ее, вдруг порозовела…), что он бросил матушку в лавке и отправился провожать девушку до такси. По пути выспросил ее адрес, телефон, на другой день повел ее на танцевальный вечер к своим друзьям в испанское посольство, еще день спустя назвал фрейлейн Вяземски просто Марикой и девушкой своей мечты, через неделю сделал предложение и получил первый отказ… Так завязался их роман, и антисемитизм Бальдра дал трещину. Ну да, он по-прежнему хотел жить в «Германии для немцев», по-прежнему недолюбливал евреев как нацию, но считал, что для некоторых из них можно и даже нужно делать послабления в режиме. Все-таки с девушкой своей мечты он познакомился у еврейки, это раз, а во-вторых, наци, кажется, готовы окончательно решать не только еврейский, но и многие другие вопросы. Уже поговаривают, будто и славяне, в том числе русские, – die Wesen aus dem Sumpf, существа из болота, и нуждаются если и не в поголовном истреблении, то в самом жестоком обращении, поскольку это – нация рабов. Марика принадлежит к нации рабов?! Марика – существо из болота?! Полный бред… Но Бальдр всерьез тревожился, что браки с русскими запретят прежде, чем он успеет спрятать Марику от всех мыслимых и немыслимых опасностей под своей фамилией.
Потом началась война с Россией, и Бальдр чуть не каждый день боялся, что Марику тоже заставят носить на одежде какой-нибудь позорный знак, вроде красной звезды. Почему нет, от нацистов всего можно ожидать! Он был просто счастлив, что у отца Марики имеются внушительные связи, что она работает в учреждении, сотрудники которого автоматически подпадают под все мыслимые и немыслимые льготы и прикрытия. И все же отчаянно боялся за нее, тем более теперь, когда противовоздушная оборона Берлина то и дело стала давать сбои и все больше английских и американских бомбардировщиков прорывались со своим жутким грузом к столице. Одна мысль мучила его, даже когда он был в полете и сам рисковал жизнью: «Успела ли Марика спуститься в убежище?» И вот надо же такому случиться: в убежище-то Марика спуститься успела, но умудрилась ввязаться в историю, внешне вроде бы безобидную, но – Бальдр чувствовал! – чреватую опасностью. Этот странный профессор-убийца с его загадочной шифровкой, этот Рудгер Вольфганг Хорстер, не то гестаповец, не то эсэсовец… Странно, почему такой знакомой кажется ему его фамилия?
И вдруг Бальдр вспоминает.
– Слушай, Марика! – восклицает он. – А ведь я знаю этого Хорстера! То есть лично с ним не знаком, но слышал о нем. Мои родители были на его свадьбе, когда пять лет назад он женился на Минне фон Вольцоф. Ее мать – старинная подруга моей матушки. Они вместе провели несколько лет в швейцарском пансионе, еще в девушках, поэтому моих родителей и пригласили. Отец Минны, Хаген фон Вольцоф, – близкий друг самого Геринга. Кстати, Геринг тоже присутствовал на свадьбе Хорстера. Моя матушка – а она, надо сказать, ужасная язва, никогда ни про одну женщину не скажет ни слова доброго, вот разве что тебя постоянно хвалит и говорит: мол, правильно ты делаешь, что отказываешь мне, я тебя недостоин, шалопай этакий, – ну вот, моя матушка все недоумевала, как это кривоногой, конопатой Минне удалось подцепить такого красивого и видного мужчину, как Хорстер. Впрочем, матушка говорила, он из какой-то совсем уж простой семьи, правда, довольно состоятелен и хорошо образован, но для него это был очень выгодный брак. Выгодный для его общественного положения. Говорят, у него была какая-то темная история в прошлом, но у кого ее не было, если даже сам наш любезнейший Адольф провел несколько лет в тюрьме.
Бальдр такой же словоохотливый и язвительный, как его обожаемая матушка, и молчаливая Марика обычно с удовольствием его слушает. Но только не сейчас!
«Значит, он женат…»
Марика сама не понимает, почему это известие причиняет ей такое огорчение. Боже мой, она что, увлеклась этим кошмарным человеком? Груб, жесток, коварен, эсэсовец, а может, и гестаповец, да еще и женился по расчету на какой-то уродине… К тому же ему протежирует сам Геринг!
Кажется, Марика утащила добычу из-под носа весьма опасного господина…
Она берет с ночного столика листок, небрежно брошенный Бальдром, и снова всматривается в рисунки. Почему над звездой Давида нарисована цифра 13? Почему человек лежит на земле, а не стоит? Почему у него одна рука и один глаз, почему его живот вспорот крест-накрест? Он ранен? Это изувеченный инвалид? Что означает набор цифр внизу листка? Что за птицы нарисованы над человечком? Ох, тут одни сплошные вопросы, тут вообще ничего не поймешь, кроме двух букв в конце: «P.S.». P.S. – постскриптум, который ставится в конце писем или статей. То, что забыли написать в основном тексте, дописывают обычно в постскриптуме. Но только это и ясно Марике, а вот что содержит постскриптум, она не имеет никакого представления. А видимо, содержимое очень важно, если даже в самом обозначении поставлен восклицательный знак. Ну и как его расшифровать? Квадрат, напоминающий шахматные клетки, на две четверти черный, на две четверти белый.
Что это – слово? Буква?
Неведомо. Однако значок
ей, кажется, знаком. Если Марика не ошибается, им обозначается планета Меркурий. Ее покойный дед увлекался астрономией, и отец рассказывал, что некогда у них в нижегородском имении была небольшая домашняя обсерватория, в которой стоял самый настоящий телескоп. Разумеется, при Марике никакой обсерватории уже и в помине не было: имение сожгли в семнадцатом, – но несколько книг деда удалось увезти в Латвию, куда бежала семья Вяземских, спасаясь от революции. Марике больше всего нравилось рассматривать атлас Гевелиуса с рисунками созвездий и еще какую-то книгу на латыни, где планеты обозначались символами. Эти символы Марика когда-то знала наизусть, теперь кое-что подзабылось, но она все же помнит, что
– это знак Земли,
– Нептуна,
– Солнца,
– Луны, ну а
– Меркурия. Она также помнит, что
– знак Венеры, а
– Марса, но здесь оба эти знака почему-то собраны в одно целое, так что, скорее всего, не имеют отношения к планетам.
– Слушай-ка, – раздается голос Бальдра, и задумавшаяся Марика замечает, что он нагнулся через ее плечо и снова принялся рассматривать загадочный листок, – а вот эту штуку я знаю. – И он тычет пальцем в «шахматный» квадрат: – Вернее, предполагаю, что это может быть. Жаль, что он не цветной! Тогда он имел бы отношение к Международной системе морских сигналов. Если бы его темные части были красными, это была бы буква U – Uniform.
– Правда? – с преувеличенным восторгом смотрит на него Марика. – Буква U? Ну, теперь все сразу стало ясно! Больше ломать голову совершенно не над чем! А что это вообще за Международная система сигналов такая?
– Очень древняя кодовая система. Ее изобрели военные моряки, чтобы передавать информацию во время боевых действий втайне от противника. Еще Геродот писал, что в 480 году до нашей эры в битве при Саламине афинский полководец Фемистокл своим красным плащом давал сигнал другим кораблям греческого флота атаковать персидскую армаду. Между прочим, у персов была тысяча судов, а у греков примерно триста восемьдесят, и все же флот Фемистокла победил. Может быть, именно благодаря этому сигналу, кто его знает. Но это был единичный сигнал. А вот кодовые обозначения штандартами первым применил император Византии Лев VI, что произошло уже в девятом веке нашей эры. В зависимости от того, какой штандарт был поднят, на других судах узнавали, вступает этот корабль в бой или уходит, увеличивает или уменьшает скорость, попал ли в засаду или участвует в окружении противника, ну и всякое такое. Потом каждая страна разрабатывала свою систему сигнальных флажков. И без адмирала Нельсона в истории применения морских кодов, конечно, тоже не обошлось. В сражении под Копенгагеном в 1801 году дела британского флота обстояли так плохо, что командующий приказал подать сигнал: «Выйти всем из боя». Однако Нельсон не сомневался в победе и, приложив подзорную трубу к черной повязке, закрывающей его незрячий глаз, сделал вид, что не замечает никакого сигнала. Он продолжал сражаться и одержал победу! Конечно, кодовая система менялась со временем, но что этот флаг, – Бальдр ткнул пальцем в черно-белый квадрат, – будь он красно-белым, обозначал бы именно U – Uniform, я не сомневаюсь. Есть еще флаги, которые называются Чарли, Квебек, Фокстрот, Отель, Джульетта, даже Янки… Остальных не помню. А вообще-то я понимаю основной смысл этого ребуса или шарады, назови его как хочешь. На самом деле все просто.
– Да что ты? – вскидывает брови Марика. – Ну и какой же тут смысл?
– Что такое 13? – спрашивает Бальдр и как будто сам себе отвечает: – Несчастливое число. Оно стоит над звездой Давида, ну а что означает звезда Давида, ясно как день. Сочетание этих двух знаков гласит: «Все наши беды от евреев!» Странные птички
– вовсе не птички, а американские самолеты. Спросишь, почему американские?
– Нет, не спрошу, – усмехается Марика. – Даже я при своем хроническом неумении считать деньги способна догадаться, что означает
Это доллар, американская валюта. Ты рассказывай, рассказывай дальше…
– Итак, – охотно продолжает Бальдр, – известно, что Америка – средоточие мирового сионизма. Таким образом, можно расшифровать целую фразу: все беды от евреев, которые и наслали на нас американские самолеты. Но евреев надо всех перевешать… Видишь этот знак, который напоминает виселицу аж с пятью повешенными? – указывает он Марике. И она кивает: в самом деле,
рисунок похож на виселицу. – Хотя я где-то читал, будто подобный знак служит эмблемой ростовщиков и ломбардных контор. Или я что-то путаю? В любом случае к записке профессора ростовщики и ломбардные конторы явно не имеют отношения. Все-таки, думаю, это виселица. Всех евреев, значит, перевешать надо, а американцев одолеют наши летчики. Правда же, эти лепестки
похожи на «птички» на моих погонах, на эмблему Люфтваффе, наших военно-воздушных сил? Ну вот, все пилоты будут за это награждены, а рейх победит.
– Ужас какой… – бормочет Марика. – Ну а это ты откуда взял, скажи на милость?!
– Ты же не станешь отрицать, что свастика – символ рейха? Мне, правда, не совсем понятно, почему она заключена в треугольник. – Бальдр так и сяк поворачивает лист, разглядывая рисунок
, – но думаю, что для вящей убедительности. Чтобы все обращали на знак внимание. А вот эта штука
– символ награды, которой будут удостоены победители. Ведь это типичный Железный крест, наш высший орден, которым, как ты помнишь, недавно был награжден и твой верный раб.
Бальдр пытается отвесить поклон, но поскольку мизансцена происходит в постели, он не скатывается на пол сам и не сваливает Марику только чудом.
– Ну что ж, твоя расшифровка впечатляет, – говорит она, поправляя съехавшие подушки. – Но не слишком! Во-первых, нам совершенно непонятен лежащий человек с одним глазом, одной рукой и разрезанным крест-накрест животом.
– А мне он очень даже понятен! – перебивает Бальдр. – Мне кажется, это символ Германии, которая стонет под еврейским игом.
– Если кто сейчас и стонет, – с горькой усмешкой перебивает Марика, – то как раз евреи…
– Ты рассуждаешь обобщенно, – наставительно говорит Бальдр. – Но самолеты на рисунке – знак именно силы евреев, вернее, сионистской Америки.
– Хорошо, пусть так, – соглашается Марика. – А что-то вроде копья, которое человечек держит в руке? Я знаю, ты скажешь, это символ борьбы. Но почему оно круглое —
? Круглое, ты только посмотри! А что за черная птица над ним летает? Вот эта —
? На самом деле она очень похожа не на птицу, а на летучую мышь.
– Это и есть летучая мышь, – авторитетно заявляет Бальдр. – Олицетворение зла, которое исходит от евреев. Копье – правильно, символ борьбы. Оно означает, что битва с мировым сионизмом будет идти не только в воздухе, но и на земле. А закругленным оно получилось случайно: может быть, у твоего профессора просто рука дрогнула. Все-таки он рисовал не за столом сидя, без помощи чертежных инструментов.
– Да уж, условия в метро были спартанские! – соглашается Марика.
– Кстати, – задумчиво говорит Бальдр, – крест на животе у человечка, может быть, не крест, а Х? Ну, икс, знак неизвестности. И может быть, Х обозначает англичанина?
– С чего вдруг? – изумленно смотрит на него Марика. – С таким же успехом это может быть итальянец, турок, американец, даже русский!
– Конечно, – кивает Бальдр. – Просто с англичанами и иксами связана одна смешная история. В самом начале войны, когда только-только заговорили о возможности нашего вторжения в Англию, тамошние власти опасались внезапной высадки десанта и решили сбить парашютистов с толку. Они убрали все названия с указателей и заменили их иксами. И появились такие, например, таблички: «Вы подъезжаете к ХХХХХХХХХХ-на ХХХХХХ, родине Вильяма Шекспира». Смешно, да?
– Ну, если не знать, что Шекспир родился в Стратфорде-на-Эйвоне, название города и в самом деле трудно определить, – строптиво возражает Марика. – Нет, мне кажется, «икс» не имеет отношения к Англии. Это просто знак неизвестности… Ой, да тут одни сплошные знаки неизвестности! А вот дерево, что оно означает? И ветки? И все эти странно изогнутые палки тут зачем? – Она тычет пальцем то в «дерево», то в «странно изогнутые палки»:
– А цифры под лежащим человечком? Это явно какой-то шифр… Я же тебе говорила, что профессор и Хорстер говорили о шифрах.
– Шифр нам никогда в жизни не разгадать, – с сожалением констатирует Бальдр. – Цифры могут значить все, что угодно. Если бы, конечно, тут было прямое обозначение цифр буквами, мы бы текст в два счета прочли. Понимаешь, о чем речь? Ну, когда A – это 1, B – 2, C – 3 и так далее. Но здесь, мне кажется, все сложней. Я прикинул: первое слово выглядит как 18 24 7 15 6 7 13 6. То есть в буквенном обозначении RXGOFGMF. Нелепица!
– Погоди, – растерянно говорит Марика. – Я не поняла, откуда ты взял какой-то «рксгофгмф»?
– Оттуда! – буркнул Бальдр и стал терпеливо, как ребенку, пояснять: – Если буквы алфавита обозначить цифрами по порядку, то 18-й будет R, 24-й – Х и так далее, я же говорил. Так что получается именно RXGOFGMF. Только ни в английском, ни во французском, ни в немецком языке такого слова нет. Может, это по-русски?
– Нет в русском языке никакого «рксгофгмф»! – обижается Марика. – Не слово, а белиберда какая-то. Но я не понимаю, как ты мог настолько быстро просчитать, какая цифра соответствует какой букве?
– Я ничего не просчитывал, а просто знал это, – улыбается Бальдр. – Мы с моим другом в детстве дурачились, шифровали все подряд – простейшим образом, чтобы не напрягать особенно мозги, поэтому систему соответствия букв и цифр я запомнил на всю жизнь, лучше, чем таблицу умножения. Но это ерунда. Вычислить слово просто, а понять, что оно значит, – практически невозможно. Сочетание цифр в нижней строке тоже выглядит нелепо: получается ZQO YQDSUFGD.
– «Зкуо йкудсуфгд…» – с трудом повторяет Марика. И машет обреченно рукой: – Чушь, чепуха! Еще хуже, чем «рксгофгмф». А может, это по-турецки, по-китайски, по-японски? Точно! Очень похоже на японский язык!
– Это может быть также по-арабски, по-еврейски, по-румынски, по-монгольски, по-норвежски… – в тон продолжает Бальдр. – И так до бесконечности! Допускаю, что твой профессор – полиглот, но, думаю, его энциклопедическая эрудиция тут ни при чем. Он просто-напросто применил какой-то цифровой шифр, который нам в жизни не разгадать без ключа. К примеру, если бы мы были уверены, что это знаменитый шифр Юлия Цезаря, то прочли бы его запросто.
– Что такое шифр Юлия Цезаря? – оживляется любопытная Марика.
– Да тоже один из древнейших цифровых шифров.
– Как это смешно звучит по-немецки: цифровой шифр, – пожимает плечами Марика. – А я где-то читала, что у нас в России в древности, когда только начинали применять цифровые шифровки, они назывались так – «цифирные письма».
Бальдр натянуто улыбается. Русский язык кажется ему несуразным. Он бы точно никогда не смог выучить его, хотя французский и английский дались ему легко. А ведь он пытался: спрашивал у Марики, как будет по-русски «я тебя люблю». И чуть язык не сломал на этих словах. Ну что за кошмар: Ja tebja lublu! То ли дело – Ich liebe dich! Коротко и ясно! Но у Бальдра хватает ума не вступать с Марикой в лингвистические дискуссии. Она обожает свой русский язык! Ее лицо расцветает нежной улыбкой, а поцелуи становятся жарче, когда он, запинаясь, бормочет это варварское: «Ja tebja lublu!» Да ради Бога, он готов «говорить по-русски» с утра до вечера и с вечера до утра. Если только не надо отправляться в полет…
– Давай, давай, – теребит его Марика. – Рассказывай про шифр Юлия Цезаря.
– Цезарь придумал не прямое цифровое обозначение букв, а смещенное на три знака. То есть А уже не 1, а 4, В не 2, а 5. Ну и так далее.
– А вдруг это и в самом деле шифр Юлия Цезаря? – оживляется Марика. – Давай попробуем прочесть.
Она вскакивает с постели и, не заботясь даже подхватить с полу халатик, бежит к письменному столу, хватает чистый листок бумаги и карандаш. За возможность лишний раз полюбоваться ее изящной фигурой, состоящей из удлиненных овалов и совершенных линий, ее прелестной узкой спиной, этими волнующими ямочками чуть ниже поясницы, а потом, когда она поворачивает обратно, колыханием неожиданно тяжелых для тонкого стана грудей, плоским животом с дивной ямочкой пупка и темным кудрявым треугольничком межножья, – о, за возможность лишний раз увидеть возлюбленную обнаженной, во всей красе, особенно в этих искусно нарисованных и таких возбуждающих сетчатых чулочках, Бальдр готов на все. И даже попытаться не только разгадать, но и заново составить шифр Юлия Цезаря! Конечно, ему хотелось бы заняться кое-чем другим, но если Марика увлеклась играми ума и ей не до постельных игрищ, Бальдр кое-как смиряет свое возбуждение и, набросив на Марику простыню (чтобы не искушаться понапрасну!), начинает выписывать на поданном ею листке ряды букв и цифр.
– Ну, вот и шифр Юлия Цезаря, – показывает Бальдр алфавит с подписанными числами, начиная с цифры 3. – Теперь смотри, что у нас получается…
Марика внимательно следит за чередой букв, «рождающейся» при использовании нового шифра, и разочарованно вздыхает, видя, что получается «пуемдекд вом вобкусдеб». Снова абсолютно непонятное сочетание букв! У Бальдра сконфуженное лицо…
– Оставим это, – великодушно предлагает Марика. – Выходит самая настоящая глоссолалия, как любил говорить мой высокоученый дядюшка Георгий, то есть полная бессмыслица. Нам эту подпись в жизни не прочитать. Ты прав, нужен ключ. Откуда мы знаем, что думал профессор, когда писал эти цифры? Может быть, в них и смысла-то никакого нет, так же как в прочих «палках» и «деревьях».
– Мне кажется, что «палки» очень похожи на руны, – говорит Бальдр, с облегчением комкая исчирканный цифро-буквенной сумятицей листок. – В самом деле похожи. Жаль только, я не понимаю их значения. Может, «Старшую Эдду» почитать? Вроде бы она не запрещенная, учитывая, что наш любезнейший Адольф помешан на нибелунгах и викингах…
– Вся наша библиотека так и пропала в Латвии, – вздыхает Марика. – Я же тебе рассказывала: мы бежали от Советов буквально с двумя чемоданами… «Старшая Эдда» у нас была, я ее, правда, не читала. Но, наверное, можно взять в городской библиотеке? А там что, в самом деле приводятся начертания рун?
– Увы, – качает головой Бальдр, – никаких начертаний там не приводится, только некоторые названия и значения. У нас в гимназии это прочно вдалбливали на уроках литературы. И отец говорил, что раз меня назвали в честь героя «Старшей Эдды», сына бога Одина, я должен всю сагу знать наизусть. И про то, как матушка Бальдра, богиня Фригг, взяла клятву со всех вещей и существ – с огня и воды, железа и других металлов, камней, земли, деревьев, болезней, зверей, птиц, яда змей, – что они не принесут вреда ее сыну. И про то, что такой клятвы она не взяла только с ничтожного побега омелы. И про то, как злокозненный Локки, мечтавший навредить Одину, подсунул прут из омелы слепому богу Хёду, и тот убил моего бедного тезку… Про это я и впрямь до сих пор помню:
- Бальдр,
- бог окровавленный,
- Одина сын,
- смерть свою принял:
- стройный над полем
- стоял, возвышаясь,
- тонкий, прекрасный
- омелы побег.
- Стал тот побег,
- тонкий и стройный,
- оружьем губительным,
- Хёд его бросил…
– Ужас какой! – сердито машет рукой Марика. – А помрачнее имя тебе не могли выбрать?
– Между прочим, гибель Бальдра – первое предвестие будущих Сумерек богов, по сути дела – конца света. Видишь, какая я важная персона! В «Старшей Эдде» он описывается так:
- Солнце померкло,
- земля тонет в море,
- срываются с неба
- светлые звезды,
- пламя бушует
- питателя жизни,
- жар нестерпимый
- до неба доходит!
– Хватит! – решительно говорит Марика. – Хватит про Сумерки богов! Хватит про бедного окровавленного Бальдра! Расскажи лучше про руны.
И Бальдр вновь заводит нараспев, словно скальд, исполняющий сагу собственного сочинения:
- Руны победы,
- коль ты к ней стремишься, —
- вырежи их
- на меча рукояти
- и дважды пометь
- именем Тюра!
- Руны прибоя познай,
- чтоб спасать
- корабли плывущие!
- Руны те начертай
- на носу, на руле
- и выжги на веслах, —
- пусть грозен прибой
- и черны валы, —
- невредимым причалишь.
- Познай руны мысли,
- если мудрейшим
- хочешь ты стать!
- Хрофт разгадал их
- и начертал их,
- он их измыслил
- из влаги такой,
- что некогда вытекла
- из мозга Хейддраупнира
- и рога Ходдрофнира…
– Милостивый Боже! – почтительно шепчет Марика, когда он умолкает. – А кто они такие, эти Хфрорр… Хрофф… Хейдр…
– Хрофт, Хейддраупнир, Ходдрофнир, – со смехом поправляет Бальдр. – Кто они, я забыл. А может, и не знал никогда. Наверное, какие-то боги или герои. Да ладно, что в них проку? Стихи я помню, но как выглядят руны?.. Может, тебе и впрямь в библиотеку сходить, если тебя все это так уж заинтриговало?
– Вот кто бы нам тут пригодился – мой кузен Алекс Вяземский, – вздыхает Марика. – Я тебе рассказывала, что дядюшка Георгий преподает семиотику в Римском университете? Алекс сначала думал идти по его стопам, причем интересовался именно руническим письмом. А потом бросил все это и поступил на медицинский факультет. Увлекся стоматологией, ты представляешь?! Но медицине он учился не в Риме, а в Сорбонне, вместе с моим братом Ники, и, когда началась война с рейхом, был призван во французскую армию. Ну и, конечно, разделил ее участь… Слава Богу, Алекс не погиб, а только попал в плен. Он содержался в концентрационном лагере сначала во Франции, потом в Бельгии, а недавно оказался под Дрезденом. Ники написал мне из Парижа буквально месяц назад, и я сразу стала хлопотать о пропуске, но пока еще его не получила, хотя, говорят, мне его все же дадут. Было бы отлично! Я бы тогда не только с Алексом повидалась, но и показала бы ему этот рисунок.
– Слушай, – возмущенно говорит Бальдр. – Мне скоро уходить. А мы целый час, наверное, потратили на разгадку какого-то бессмысленного ребуса. Все утро у нас ушло на него, а не на то, чем следовало бы заниматься!
– Чем следовало, мы и так занимались целую ночь, – ласково проводит пальцем по его плечу Марика. – Неужели тебе мало?
– Мне тебя всегда мало! – Бальдр тянется к ней так жадно, словно и не было ночи, которая вымотала обоих почти до бесчувствия. – Я люблю тебя. Мне жалко каждого взгляда, который ты бросаешь не на меня. И эта несчастная бумажонка, вся эта глоссолалия или как ее там…
– Так уж и глоссолалия! – недовольно говорит Марика. – Ты же сам только что так убедительно все прочел: про несчастья для евреев, про американские самолеты и так далее.
– Хочешь, я тебе все это прочту совершенно иначе? – иронически косится на нее Бальдр. – И получится не менее убедительно.
Он берет в руки листок с рисунком и мгновение смотрит на него. А затем очень серьезно «расшифровывает».
– Пожалуйста!
– это тринадцать евреев, которые темной ночью (летучая мышь – символ ночи) пошли на кладбище. Лежащий человек – конечно же, мертвец со вспоротым животом, выколотым глазом и одной рукой, в этой руке у него лопата, которой евреи вырыли клад, обозначенный здесь символом доллара. На кладбище они распугали птиц, пока шарахались среди деревьев, пытаясь скрыться. На птичий крик сбежалась стража, троих евреев поймали и повесили, души их вознеслись к небесам, а остальные евреи, пока спасались бегством, повалили кресты, сломали кладбищенские елки, но их все-таки задержали доблестные солдаты фюрера, за что эти солдаты были награждены Железным крестом, а потом, в постскриптуме…
Бальдр вдруг осекается.
– Что, заело? – ехидно спрашивает Марика, которая не знает, смеяться ей или злиться над тем, что несет Бальдр.
Да, они крепко завязли в расшифровке. В самом деле, предположить можно все, что угодно, от самого страшного до самого смешного. Марика вспоминает «Записки Пиквикского клуба» Диккенса, любимую книгу отца. Судья спрашивает какого-то человека, пишется его имя через V или W. А тот отвечает, что это зависит исключительно от фантазии того, кто пишет. Так и здесь. Все дело в фантазии…
Вдруг Бальдр, который только что обнимал ее и нежно, чуть касаясь, целовал ее плечи, отводит руки, отстраняется и садится прямо. Лицо его бледнеет.
– Что с тобой? – в тревоге приподнимается Марика.
– Сам не знаю, – отвечает он не сразу. – Что-то в холод вдруг бросило. Слышала такое выражение: «Кто-то только что прошел над моей могилой»?
– Никогда не смей говорить таких вещей! – яростно выкрикивает Марика. – Накличешь!
– Я вспомнил! – не слушая ее, говорит Бальдр. – Я вспомнил, что в Морской сигнальной системе означает красно-белый шахматный квадрат! Не понимаю, как я мог забыть, вот балда! Это не просто буква U – Uniform. Это совершенно определенный сигнал: «Вы идете навстречу опасности!»
Марика тоже резко садится и смотрит в глаза Бальдру. Она чувствует, что ее знобит, и видит, что плечи Бальдра покрылись такой же гусиной кожей, как и ее плечи.
Вот это да! Ему холодно или страшновато? Или, так же как ей, и холодно, и страшновато? Да нет же, Бальдр просто не способен бояться… Хотя звучит, конечно, внушительно: «Вы идете навстречу опасности!» Неужели профессор хотел кого-то предупредить? Кого?
Марика в очередной, уже, наверное, в тысячный раз смотрит на листок – и вдруг ей приходит в голову, что знак
может быть не только обозначением планеты Меркурий. А если он – человеческое имя? Тогда сочетание «шахматного квадрата» с ним можно прочесть так: «Вы идете навстречу опасности, Меркурий!»
Кому адресовалось предупреждение? Хорстеру? Нет, его зовут Рудгер Вольфганг или «просто Рудгер». Или это не обращение, а подпись? Тогда постскриптум читается иначе: «Вы идете навстречу опасности. Меркурий».
Как зовут Торнберга? Неизвестно! Кого подстерегает опасность? Неизвестно и это. А как хочется узнать… Как хочется! Кажется, никогда в жизни Марику так, как сейчас, не раздирало на части любопытство. Она почти в отчаянии от того, что не может проникнуть в смысл рисунка. Почему он вдруг стал ей так важен? Марика не знает. И не знает, нужна ли ей расшифровка. И все же…
Предупреждение Торнберга, конечно, не имеет отношения к ней. Да и вообще, попытка истолковать значение черно-белого квадрата именно так, как предлагает Бальдр, – натяжка. Скорее всего, и цвет квадрата ничего такого не значит, и вообще набор знаков на листке совершенно бессмыслен. Торнберг просто-напросто оригинальничал перед благодарной аудиторией, рисовал, что рисовалось. И нечего Марике забивать голову всякой ерундой, а заодно – морочить голову Бальдру. Думать надо не о каких-то там невнятных закорючках, а о том, что ему пора в полк, а ей в министерство, что они опять прощаются, не зная, когда увидятся снова. Может быть, выбросить бумажку, чтобы Бальдр был спокоен? Или даже сжечь на газовой горелке?
Сказано – сделано!
Марика уже протягивает руку, чтобы беспощадно скомкать листок, изорвать в клочки, как слышит стук в дверь. Кто бы это мог быть?
Она вскакивает с постели, подхватывает с пола халат, сует руки в рукава, затягивает пояс и открывает дверь коридор.
– Кто там? – кричит она с порога.
– Почта, – доносится старческий голос. – Фрейлейн Вяземски, вам посылка из Парижа!
Марика оглядывается на безмятежно сидящего Бальдра. Глаза у нее становятся растерянными.
В чем дело? Бальдр не понимает ее замешательства. В Париже живет Ники Вяземский, брат Марики, Бальдр с ним знаком. Отличный парень, как же прекрасно, что он прислал сестре подарок! Будет неплохо, если в посылке окажется какая-нибудь обновка, что-нибудь, что способно усладить нежное женское сердце, – платье, чулки, шляпка…
Шляпка?
Теперь Бальдр смотрит на Марику так же растерянно, как и она на него. Он вспомнил ее рассказ о том, что профессор Торнберг там, в метро, предсказал: скоро Марика получит из Парижа новую шляпку взамен потерянной. Неужели…
Глупости. Профессор сказал так, чтобы утешить Марику. Сейчас она возьмет посылку, откроет ее, и там окажется что-нибудь другое. Например, какие-нибудь конфеты, или модные журналы, или в самом деле чулки… Да что угодно, а вовсе не шляпка!
Марика выходит в коридор. Бальдр слышит, как она разговаривает с почтальоном, благодарит за любезность, а тот что-то бубнит в ответ: мол, услужить такой очаровательной фрейлейн для него – истинная радость.
Конечно! Услужить – и получить хорошие чаевые. Марика – известная транжира…
Но вот почтальон уходит, Марика запирает входную дверь и возвращается в комнату, держа перед собой большую картонную коробку. Судя по всему, коробка довольно легкая…
Марика прислоняется к притолоке и смотрит на Бальдра почти испуганно.
– Он уверял, что это будет зеленое сомбреро с черными лентами, – произносит она нерешительно. – Посмотрим?
Бальдр кивает. Масса новых ощущений пришла в его жизнь вместе с Марикой! Он впервые узнал, что такое любить, что такое – испытывать счастье, обладая возлюбленной… Он попытался учить русский язык, он впервые в жизни занимался разгадыванием каких-то бессмысленных шифровок в постели, вместо того чтобы заниматься любовью. И уж точно впервые в жизни Бальдр фон Сакс, военный летчик-истребитель, гроза англичан, гордость рейха, кавалер ордена Железный крест, с каким-то патологическим любопытством заглядывает в дамскую шляпную картонку!
Сладковато пахнет духами. Шелковисто шуршит белая оберточная бумага, которую нервно разворачивает Марика. А под ней… Марика осторожно достает что-то невероятно широкополое, невероятно зеленое, с широкими черными лентами.
Сомбреро! Это и в самом деле зеленое сомбреро!
Марика смотрит на прикрепленную к шляпе этикетку и читает вслух почти с отчаянием в голосе:
– «Madame Rose. L’atelier de chapeau…»[10]
– Лотта, скажи, пожалуйста, ты не знаешь какого-нибудь человека по имени Меркурий?
Лотта Керстен устало смотрит на Марику:
– Ты меня сегодня уже спрашивала об этом. И вчера спрашивала…
И правда! Со вчерашнего дня Марика задала этот вопрос чуть ли не сотне человек, немудрено, что начала повторяться. Кажется, в министерстве не осталось никого, кого девушка не спросила бы, знает ли он какого-нибудь Меркурия. И все напрасно. Впрочем, нет: она не спрашивала у часовых возле подъезда и у двух охранников-эсэсовцев, которые, каменно стиснув челюсти, дежурят перед кабинетом Шталера. Самого Шталера, понятное дело, она тоже не спрашивала (с большим удовольствием заговорила бы с его овчаркой!), а еще – своего непосредственного начальника, Адама фон Трота. На самом деле фон Трот возглавляет отдел «Свободная Индия», в котором готовят провокационные материалы для поддержки возмущения индийцев английскими колонизаторами, однако по совместительству он курирует и фотоархив министерства. Фон Трот – обаятельнейший, милейший человек. У него с Марикой наилучшие отношения, поскольку он в детстве, в 1910 году, бывал в России и до сих пор вспоминает ее с удовольствием. Марика для него – одно из таких напоминаний, и она непременно спросила бы фон Трота насчет Меркурия тоже, однако фон Трот куда-то уехал и не показывается уже второй день. Ну ничего. Сегодня он вернется, и Марика его непременно спросит. А может быь, не только про Меркурия, но и про Рудгера Вольфганга Хорстера. Вдруг фон Трот знаком с ним? Он знает невероятное количество людей!
А может быть, Лотта тоже что-нибудь слышала об Хорстере? Спросить?
– Лотта, а ты не… – начинает Марика, но тут же осекается. Нет, не стоит. Не стоит упоминать этого имени. Вообще чем реже она будет думать об этом не то гестаповце, не то эсэсовце, к тому же женатом, да еще и по расчету, тем лучше для нее! Но надо же как-то закончить фразу. И она продолжает: – Ты не обратила внимания на мою новую шляпку?
Звучит довольно неуклюже, ну да ладно. Кстати, странно, что Лотта и впрямь до сих пор никак не отреагировала на то, что подруга второй день является на работу в замысловатом, прямо-таки экзотическом сооружении на голове. Все остальные девушки (да и мужчины, судя по их взглядам) в восторге от шляпки, хоть одна или две зануды из общего отдела процедили, что, мол, подобная экстравагантность неуместна в столь серьезном учреждении. Но это они из зависти. Конечно, из зависти! Марика, впрочем, и сама понимает, что шляпка слишком уж… бойкая, скажем так, и еще вчера успела-таки навестить знакомую модистку (к счастью, ателье стоит невредимое, даже стекла целы!) и заказала нечто более скромное, чем зеленая феерия из Парижа, которую она пока вынуждена носить, потрясая всех встречных и поперечных.
Всех, кроме Лотты Керстен!
– А что, у тебя новая шляпка? – равнодушно произносит она. – Да, в самом деле, очень хорошенькая.
Учитывая, что Лотта при этом стоит спиной к Марике и даже не смотрит в сторону вешалки, на которой висит шляпка, ее мнение можно считать весьма основательным!
Лотта уже второй день выглядит и ведет себя как-то странно. Марика была так взбудоражена собственными приключениями в метро, расшифровыванием записки и, конечно, столь эффектным появлением потрясающей парижской обновки, что только сейчас обращает внимание на состояние подруги. Да она просто сама не своя! Глаза окружены темными тенями, губы горестно сжаты, миленькое круглое личико осунулось. Марика слышала краем уха: кто-то говорил, что вчера с вокзала Грюневальд в вагонах для скота была увезена в концентрационный лагерь чуть ли не последняя партия берлинских евреев. Если кто из них и остался в городе, то лишь нелегально. Да, и еще рассказывали, будто еврейское кладбище в Вайсензее разорено. Теперь ни жить этим беднягам негде, ни умереть… А мать Лотты? Как она? Неужели ее тоже увезли?!
Как бы спросить поделикатней? Господи, что же за эгоистка ты, Марика! Легкомысленная эгоистка! Думаешь только о шляпках да о женатых мужчинах, а в это время твоя подруга…
Звонит телефонный аппарат, и Лотта срывается с места. Подскакивает, хватает трубку:
– Алло! Алло! – И тут же сникает: – Фрау Церлих? Да, я сейчас приглашу ее…






