Рецепт Екатерины Медичи Арсеньева Елена
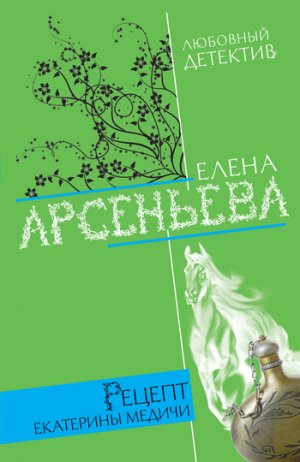
Она молча передает трубку немолодой даме, сидящей за пишущей машинкой, и, еще больше помрачнев, выходит за дверь.
Марика, не на шутку встревожившись, выскальзывает следом.
Лотта с преувеличенным вниманием смотрит в окно. Пальцы ее нервно стучат по подоконнику.
– Лоттхен, что случилось? Ты сама не своя. Что-нибудь с твоей мамой, Господи помилуй?
Лотта отвечает не сразу, и Марика понимает, что та пытается подавить слезы, которые не дают говорить.
– С мамой пока все в порядке, – говорит наконец Лотта, выделяя голосом слово «пока». – Просто я… я очень волнуюсь за одного человека. Это мой… друг, – добавляет она с запинкой. – Он пропал три дня назад, и я не понимаю, что с ним случилось. Он мне не звонит, хотя раньше звонил домой чуть не каждый день, и вообще мы часто виделись. Мама сейчас дежурит у телефона, она тоже волнуется, и если бы… она бы сразу сообщила мне…
Голос Лотты обрывается коротким рыданием, и Марика с изумлением смотрит на ее вздрагивающие плечи.
Вот это да! Они с Лоттой близкие подруги, однако Марика впервые слышит, что в ее жизни был какой-то мужчина. Он звонил Лотте чуть не каждый день, они встречались, и, судя по заминке перед словом «друг», это были не просто дружеские встречи, а романтические свидания. Уж Марика-то знает толк в таких вещах!
Боже мой! Она просто слепая курица, если не заметила, что у подруги любовная связь! Когда у Марики начался роман с Бальдром фон Саксом, о нем мгновенно узнали все ее знакомые, в том числе и Лотта. Ну, строго говоря, Марика и сама не делала из этого никакой тайны и водила Бальдра на все вечеринки и дружеские застолья, куда бы ее ни приглашали. Но Лотта всегда приходила одна. И связь эту, и все свои переживания она держала в тайне… Ах ты молчунья, скрытница!
И вот теперь ее возлюбленный исчез. Понятно, Лотта боится, не попал ли он под бомбежку. Марика тоже с трепетом ждет звонков Бальдра: невредимым ли вернулся из полета и вообще – вернулся ли? И если он долго не дает о себе знать, названивает в штаб его полка или его родителям. Почему бы Лотте не поискать своего любовника, а не сидеть и ждать у моря погоды?
– Позвони ему сама, – советует Марика, но Лотта качает головой:
– Не могу. Нарушена связь, и ее никак не восстановят.
– Лоттхен, а если сходить к нему домой? – осторожно предлагает Марика. – Может быть, он просто болен, поэтому не дает о себе знать. Хочешь, я пойду с тобой? В любое время, хоть сегодня, сразу после работы!
Бальдр сегодня определенно не появится у нее. Самое раннее – через неделю, даже дней через десять, поэтому она может свободно распоряжаться своим временем. Но Лотта уныло качает опущенной головой:
– Ты не понимаешь, Марика. Я… я не могу пойти к нему. Это совершенно невозможно. Я могу только ждать. Но у меня нет сил, просто нет сил выносить эту пытку!
И она вдруг разражается рыданиями.
Марика стоит столбом. Ничего себе! Она даже не подозревала, что веселенькая и, если честно, легкомысленная Лотта способна так страдать, так любить! Но если Лотта столь сильно мучается, почему все же не пойти домой к этому мужчине? Плюнуть на гордость, на приличия… Стоп, а если он женат? Тогда все понятно… Да, ужасно неприятно! Как же угораздило Лотту влюбиться в женатого человека?!
В конце коридора громко хлопает дверь, и раздается цокот каблучков. Марика оглядывается – к ним приближается Гундель Ширер, секретарша Адама фон Трота.
– Фрейлейн Вяземски, зайдите ко мне в приемную, пожалуйста. Нужно расписаться в почтовом журнале. У меня для вас письмо из управления внутренних дел. Разрешение на посещение французского военнопленного Александра Вяземски в концентрационном лагере «Шпрее». Это ваш брат?
– Всего лишь кузен, моя дорогая Гундель, но я его ужасно люблю! – Марика не может удержаться, чтобы не захлопать в ладоши. Все беды Лотты мгновенно забыты. – Боже мой, значит, мне все-таки дали разрешение! А я-то начала беспокоиться, хотя герр фон Трот уверял, что все будет хорошо…
– Он хлопотал за вас, – поясняет Гундель с восторженным видом. Все министерство знает, что она обожает своего начальника, натурально боготворит его. – Хлопотал, и даже сам сегодня привез ваш пропуск.
– Герр фон Трот вернулся? – оборачивается от окна заплаканная Лотта. Гундель открывает было рот, чтобы воскликнуть жалостливо: «Что с вами, фрейлейн Керстен?!» – но натыкается на предостерегающий взгляд Марики и умолкает, догадавшись, что ничего нельзя говорить. И покорно слушает: – Прошу вас, Гундель, узнайте, сможет ли он меня принять, причем как можно скорее. Скажите, что это… это касается той красной папки, которую он мне давал.
Марика втихомолку вскидывает брови. Они сидят с Лоттой в одном кабинете, их столы стоят рядом, но Марика не видела у нее никакой красной папки! Судя по обескураженному виду Гундель, для нее красная папка тоже полная неожиданность. Ведь именно через Гундель передаются сотрудникам отдела бумаги для работы, она ведет их учет. Но, как ни озадачены обе девушки, они молчат. Строго говоря, это не их дело. И вообще, может быть, они чего-то не знают.
– Конечно, я спрошу его, – соглашается Гундель. – Пойдемте со мной, девушки. Я отдам фрейлейн Вяземски ее письмо, а вы, фрейлейн Керстен, подождете. Вдруг герр фон Трот сможет принять вас немедленно?
Так оно и происходит, и пока Марика расписывается в почтовой книге Гундель, а потом внимательно изучает пропуск, все еще не слишком-то веря в удачу, Лотта проходит в кабинет фон Трота. И буквально через три минуты после того, как за ней закрывается дверь, начинает прерывисто мигать красная лампочка на одном из телефонных аппаратов, стоящих на столе Гундель. Этот аппарат – параллельный тому, который стоит в кабинете начальника отдела. Очевидно, Адам фон Трот кому-то звонит. Марика недоумевает: почему он не попросил секретаршу дозвониться и соединить его, а тратит время сам? Да ладно, ей-то какая разница? Главное, пропуск к Алексу у нее в руках!
Марика потратила столько сил, чтобы добиться его, а теперь вдруг начинает чего-то опасаться. Ну что же, у нее есть для этого причины, только она предпочитает думать не о них…
Марика все еще стоит около стола Гундель, когда дверь из приемной открывается, и на пороге появляется Адам фон Трот, поддерживающий под руку Лотту. При виде ее Марика и Гундель в один голос громко ахают: Лотта бледна, как смерть, ее лицо заплаканно, она еле стоит, и, чудится, не держи ее начальник так крепко, она повалилась бы без чувств.
– Дорогая Гундель, прошу вас, срочно вызовите мою машину, – отрывисто говорит фон Трот. – А вас, фрейлейн Вяземски… кстати, здравствуйте, мы еще сегодня не виделись, очень рад, что вам дали пропуск к вашему кузену… попрошу проводить фрейлейн Керстен домой. У нее… у нее случилось несчастье в семье, и она вряд ли сможет сегодня работать. Поэтому…
Какое еще несчастье в семье?!
Гундель бросается к телефону и звонит в гараж, а Марика приобнимает полуживую Лотту. Фон Трот немедленно уходит в кабинет. У него угрюмое, усталое лицо, словно разговор с Лоттой его невыносимо утомил.
Несчастье в семье… Марика догадывается, зачем Лотта попросилась на прием к начальнику. Красная папка была только предлогом. Она ворвалась в кабинет шефа, чтобы попросить его выяснить, что случилось с ее возлюбленным! Марика ничуть не сомневается. Она просто-таки чувствует это. Наверное, друг Лотты – кто-то из знакомых фон Трота, шеф в курсе ее романа. А впрочем, он для всех своих сотрудников вроде ангела-хранителя и наставника, так что неудивительно, что Лотта кинулась за помощью именно к нему. Очевидно, он воспользовался своими связями, чтобы получить какую-то информацию. Наверное, возлюбленный Лотты погиб при бомбежке… Господи, бедная девочка!
Марика молча ведет подругу к машине, молча усаживается рядом с ней на заднее сиденье и молчит всю дорогу. Адрес Лотты дала водителю сама Гундель, так что разговаривать Марике нет никакой необходимости. Наверное, следовало бы выразить сочувствие, соболезнования какие-то высказать, но не поворачивается язык произносить общие слова. Она только иногда косится на помертвевшее лицо подруги и легонько пожимает ей руку. Та не отвечает, словно не чувствует этого. Наверное, так оно и есть: сейчас для Лотты вообще ничего не существует, кроме ее горя!
Лотта живет около Темпельхофа.
– Подождать вас, фрейлейн? – спрашивает шофер Марику, но она отказывается. Во-первых, неизвестно, сколько она пробудет у Лотты, а во-вторых, какой смысл сегодня возвращаться на работу, если у нее с завтрашнего дня трехдневный отпуск для поездки в Дрезден?
Лотта стоит у входа в подъезд так безучастно, словно ее привезли в какой-то чужой дом и она ждет, когда выйдут хозяева и пригласят ее к себе. Марика берет ее за руку, как маленькую девочку, и ведет вверх по лестнице на второй этаж. Звонит в дверь, и на пороге возникает фрау Керстен – кругленькая, пухленькая, смугленькая, словно шоколадный кекс «Мой маленький медвежонок». Эти пирожные она, кстати сказать, печет совершенно непревзойденно, нигде, ни в какой кондитерской, Марика таких не пробовала. Все дело в ванили и лимонной цедре, конечно, которые фрау Керстен щедро добавляет в тесто… Лотта совсем не похожа на мать. Она типичная Гретхен. Видимо, пошла в отца, который, судя по фотографиям, был просто-таки образцом арийца. И как это его угораздило жениться на еврейке? Видимо, очень любил шоколадные кексы. Недаром он умер от диабета…
Марика почему-то всегда пребывала в уверенности, что нравится фрау Керстен (та ей тоже в общем-то нравилась, несмотря на происхождение), ее в этом доме всегда встречали очень приветливо. Но сейчас хозяйка на гостью даже не смотрит.
– Лоттхен! – восклицает она, едва распахнув дверь. – Мне звонил герр фон Трот. Он сказал…
– Мама! – со стоном произносит Лотта. – Это правда! Это правда! Все пропало!
Фрау Керстен прижимает руку ко рту, и они с дочерью молча смотрят друг на друга, как если бы от горя лишились дара речи. Но Марика вдруг понимает, что они молчат вовсе не потому, что так сильно потрясены, – они не хотят говорить при постороннем человеке. А посторонний человек в данном случае – она, Марика, ближайшая подруга Лотты!
Ничего себе ближайшая…
Она торопливо прощается и бросается вниз по лестнице так стремительно, словно ее выгнали из квартиры пинками. Никто, конечно, ее не гонит, однако никто и не пытается удержать даже из вежливости. Фрау Керстен так и не сказала ей ни слова, ни полслова. А Лотта, лишь только захлопнулась дверь, начинает рыдать до того громко и отчаянно, что Марика слышит звуки ее рыданий и внизу, на первом этаже. И даже когда выбегает на улицу, отчаянные, невнятные причитания Лотты продолжают звучать в ее ушах.
Она идет по тротуару как может быстро, жалея, что отпустила машину. Ее могли довезти до дома, а теперь придется добираться на метро. После недавних приключений в метро Марику не тянет туда совершенно, даже подумать о подземке тошно. Хотя деваться некуда, конечно, придется ехать: ей нужно собрать вещи для поездки и еще зайти в мясную лавку – вдруг удастся купить какие-нибудь шницели, которые она отвезет Алексу.
Хотя насчет шницелей еще нужно подумать… Фрау Церлих из их отдела недавно рассказывала, что несколько дней назад, когда ее муж стоял в очереди у мясной лавки, он вдруг увидел, как через задний ход туда вносят ослиную тушу: он узнал ослиные копыта и уши, торчавшие из-под брезента. Ослиный шницель, конечно, экзотика, но вряд ли экстравагантность Марики – да и Алекса, если на то пошло, – распространяется столь далеко. Впрочем, фрау Церлих и соврет – недорого возьмет. Ну а вдруг она правду говорит? Нет, лучше Марика купит для Алекса каких-нибудь морепродуктов, благо моллюски и ракообразные, включая такие «плутократические деликатесы» былых времен, как омары и устрицы, имеются в продаже в изобилии, без всяких карточек, притом что рыбу купить просто невозможно: ведь ловом никто не занимается из-за минирования прибрежных зон и подводной войны. Так же диковинно обстоят дела с вином. Приличного пива нет совершенно, а французское вино и шампанское, в самой Франции распределяемые по карточкам, просто-таки наводнили рейх. Марика терпеть не может пиво и очень любит белое сухое вино, поэтому она ничего не имеет против таких неразгадываемых загадок снабжения…
При слове «загадки» настроение у Марики портится еще больше. С некоторых пор их стало в ее жизни слишком много, и они вовсе не столь безобидны, как упомянутые продовольственные странности.
Во-первых, «письмо из руки мертвеца», как назвал листок профессора, оказавшийся у «доктора», Бальдр. Во-вторых, сбывшееся предсказание Торнберга насчет шляпки. В-третьих, письмо брата, которое тот прислал вместе с нею…
От воспоминаний Марика начинает волноваться. Волнуясь, она всегда ходит очень быстро. Вот и сейчас пускается чуть ли не бегом и налетает на невысокую женщину в застиранном беленьком платочке.
– Прости, миленькая, Христа ради, – говорит женщина, испуганно оглянувшись на Марику, и та с изумлением обнаруживает, что слышит русскую речь. Впрочем, женщина тотчас повторяет на ломаном немецком: – Простите меня, фрау!
– Фрейлейн, – машинально поправляет Марика.
Женщина покорно повторяет свое извинение, кланяется и, заискивающе улыбнувшись напоследок, устремляется к большому собору, который открывается за углом. Это православный храм, к которому идут одна за другой женщины, убогой одежонкой и белыми платочками похожие на ту, которую толкнула Марика… А извинялась, между прочим, не она, а та женщина!
Наверное, это одна из русских работниц, которых теперь много стало в Берлине. Их в огромном количестве вывозят из оккупированных областей для работы на военных заводах или на сельскохозяйственных фермах. Кое-кого берут прислугой в немецкие семьи. Разумеется, никакой оплаты – только еда, более или менее сытная: в зависимости от достатка и добросердечия хозяев. Кстати, все знакомые Марики, у которых есть русские работницы, относятся к ним вполне патриархально, то есть именно что добросердечно, оценив их услужливость, трудолюбие. Русские горничные очень покладисты, безропотны, не то что немецкие. Они умеют все на свете, даже стекло вставят взамен выбитого взрывной волной, так что не надо ждать стекольщиков, которые сейчас нарасхват… Пожалуй, это самая популярная профессия в Берлине!
Да, наверное, женщина в платочке – одна из таких. Хозяева к ней, конечно, очень расположены – на дневную службу в храм могут прийти только служанки, которым удалось отпроситься у хозяев. С заводской смены не больно-то уйдешь, да и на выход из казармы, где живут женщины, работающие на предприятиях, нужен особый пропуск.
Наверное, для русских пленниц православный храм – единственное место, где они могут почувствовать себя если не дома, то хотя бы близко к нему…
Марика слабо улыбается: странно все это. Германия находится в состоянии войны с Россией, народ там уничтожается без жалости, разрушаются города, горят церкви. Вывезенные оттуда женщины – не более чем рабыни. Однако они имеют возможность ходить в Берлине в свой храм, в то время как некоторые граждане Германии, имевшие несчастье принадлежать к ненавидимой вождями рейха национальности, давным-давно лишились не только своих синагог, но и самого права на жизнь…
Глупо. Глупо и неразумно! Как можно уничтожать человека только за то, что он другой национальности или по-другому молится Богу! Бог – он ведь один. И уж если он создал русских, евреев, германцев, цыган, англичан, арабов или китайцев, то что-то имел при этом в виду! Для чего-то же он сделал именно так! И не людям, его созданиям, исправлять его поступки, словно Господь – неразумное дитя, а они, его творения, лучше знают, что надо делать. Люди сами затеяли войны – религиозные, национальные, и все на свой лад провозглашали: «Gott mit uns! С нами Бог!», как если бы получили от него какие-то верительные грамоты. Судить каждого человека надо по его конкретным поступкам, к какой бы национальности он ни принадлежал! Ведь даже сам министр пропаганды Геббельс говорит: «У каждого есть свой «хороший еврей»…»
За размышлениями Марика не замечает, как поднимается по ступенькам и входит в храм. Здесь тихо, прохладно и пахнет так сладко-сладко… Чуть слышно и неразборчиво, хотя и очень мелодично, поют три женщины в черном, стоящие на клиросе. Наверное, в воскресенье тут много народу, не протолкнуться, а сейчас на службу собрались редкие счастливицы.
Как давно Марика не была в храме! Многие эмигранты ходят в церкви не потому, что так уж сильно религиозны, а потому, что это место напоминает им Россию. Но Марика не чувствует особой ностальгии: ведь она почти не помнит родину. Если и тоскует, то только по Риге и по латышскому имению Вяземских. А религиозным никто в их семье никогда не был, ни родители, ни они с братом и сестрой. Еще когда родители и сестра жили в Берлине, они из чувства долга пытались исполнять какие-то обряды, а теперь, когда сестра вышла замуж и они уехали в Австрию… Марике некогда тратить время на стояние на церковных службах, да и не чувствует она потребности в общении с потусторонними силами. Достаточно с нее и людей! Но она понимает этих женщин, которые всеми правдами и неправдами выбрались в храм. Один этот аромат ладана способен успокоить. Правда, старые иконы в полутьме почти неразличимы…
Кстати, если уж она здесь, надо ли поставить свечку?
Марика оглянулась в нерешительности и услышала тихие всхлипывания. О Господи, ей, видно, на роду написано слушать сегодня чьи-то рыдания!
– Пойдем отсюда, Ганка, – бормочет сквозь всхлипывания девичий голос – конечно, по-русски. – Здесь все чужое. Не нравится мне тут. Небось у нас в Полтаве храм попросторней был, и лики там такие благостные, такие родные! А тут не святые, а злыдни какие-то!
– Окстись, дура, – шептал сердитый голос, принадлежащий, судя по всему, женщине постарше. – Спасибо скажи, что есть Божий храм в Неметчине, что они, фашисты, не позакрывали все, не пожгли, как у нас. А лики… Что лики? Они дело рук человеческих. Доски малеванные! Не обращай на них внимания, сердцем с боженькой и его пресвятой матушкой говори.
– Да что ж, глаза мне закрыть, что ли? – сердится девушка. – Это не иконы, а так, картинки, будто для забавы нарисованные, чтобы на них люди любовались, а не молились. Как это их в православный храм допустили? Вон даже Пресвятая Матерь – какая-то девица с цветочком. Не матушка-заступница, а девчонка в кудряшках. Розочка-то тут при чем? И вот еще с тремя цветочками – Елизавета! Святой Павел, погляди ты, с саблей! Хоть сейчас в бой! А это кто? Разве это святая Катерина? Колесо при ней зачем?! Ехать куда-то собралась или как? А вот не поймешь, то ли это Варвара-великомученица, то ли святой Георгий с копьем, пронзающий змия? Да знаю, знаю я, какая Варвара на православных иконах-то! Воистину мученица! А это что? Зачем ей копье? Ишь ты, воеводу нашли! Ладно хоть, святой Севастьян какой надо – весь стрелами пронзенный!
– Ну и хорошо, ну вот и смотри на святого Севастьяна, – успокаивающе журчит голос старшей подруги. – А тех святых ты прости, их люди малевали. У них тут вообще-то и Катерина – не Катерина, а Катрин, Варвара – не Варвара, а Барбара… Да разве в именах, разве в обличье дело? Скажи спасибо, что есть храм, скажи спасибо, что можно прийти сюда, родимую речь послушать…
– Нет, не по нраву мне тут! – не унимается девушка.
Слушать ее брюзжание у Марики больше нет сил. От запаха ладана, который сначала показался таким приятным, начинает ломить в висках. Она поспешно выходит. Может быть, и настанет время, когда Марика будет искать прибежища и утешения только у Бога, но… Но пока оно еще не настало, и пусть лучше не настает как можно дольше!
Ей ужасно хочется есть, но в тех двух или трех ресторанчиках, которые попадаются по пути, нет никакого выбора – подают только безвкусную похлебку. Оказывается, сегодня Eintopftag, «день одного блюда», соблюдаемый по приказу рейхсфюрера раз в неделю. Теперь «законы одного дня» очень популярны. Еще в августе сорокового был издан указ, предписывающий принимать ванну только по субботам или воскресеньям. Все сотрудники АА по очереди умудрялись обходить его, украдкой моясь в ванной в самом министерстве. Да и Eintopftag в столовой АА не слишком-то соблюдается. Но обеденный перерыв на работе Марика уже пропустила. Трудно поверить, что еще недавно Берлин называли всемирным центром чревоугодия! Теперь же голову сломаешь, прежде чем найдешь, где можно нормально поесть. Поехать, что ли, в итальянский ресторанчик на Курфюрстендамм – вдруг удастся поесть настоящую пасту с томатом или сыром? Раньше там даже талонов не спрашивали… А вдруг и итальянские заведения теперь подпадают под общую гребенку? Лучше не рисковать и не терять времени. Надо все-таки купить продукты для Алекса, собрать вещи и решить, как одеться завтра в поездку.
Надевать чулки или нет? Брать зонтик? Что надеть сверху, плащ или все-таки пальто? Говорят, должно грянуть похолодание…
Одно Марике точно известно: ехать придется вот в этой самой шляпке-сомбреро из Парижа. И не потому, что нет ничего другого. В посылке обнаружилась еще и записка от Ники, который вскользь рассказывал о своем житье-бытье, выражал надежду, что у Марики все хорошо, звал ее в Париж, когда только выдастся возможность, но в основном просил, умолял, заклинал, требовал навестить кузена Алекса и отправиться в нему НЕПРЕМЕННО!!! (слово было написано огромными буквами, жирно выделено, дважды подчеркнуто и снабжено тремя восклицательными знаками) в новой шляпке.
И снова наваливаются на Марику уже притихшие было кровопийцы-загадки…
Откуда, ну, ради всего святого, откуда профессор Торнберг знал о шляпке?! Не ясновидящий же он, в конце концов!
Единственное толковое объяснение предложил Бальдр – через пять минут после того, как утихли испуганные, изумленные восклицания Марики. Объяснение было такое: Торнберг знаком с Ники. Недавно он был в Париже и слышал, что тот купил шляпку сестре. Или даже видел обновку, поэтому так лихо ее описал. Возможно, он также видел у Ники фотографию сестры Марики. Кроме того, Хорстер в метро представил ее профессору. И тот немедленно догадался, что она – та самая сестра, но виду не подал, хитрец, а разыграл ее, причем очень тонко.
Замечательное объяснение. Правда, порождающее множество новых вопросов. Например: просто ли знаком Ники с этим странным и пугающим профессором или замешан в каких-то его странных и пугающих делах?
И образ Вернера, нанизанного на тонкую и длинную трубу, напоминающего насекомое, пригвожденное к страничке альбома безжалостным энтомологом, снова и снова тревожит память Марики…
Берлин, 1935
«Если это выдержал Пауль, значит, выдержу я».
Шестьдесят человек. Тридцать с одной стороны, тридцать с другой. Между ними расстояние по метру. Шаг – вдох. Потом – хлесткий удар, который вышибает воздух из легких.
Шаг – вдох, шаг – выдох.
Тренировка дыхания.
Не думать о боли. Думать, что ты тренируешь дыхание!
Люди одеты в черное. Он отчетливо помнит, что люди были одеты в черное! Почему теперь кажется, что они все в красном?
Это обман зрения.
Пот заливает глаза, пот, а не кровь. По лицу его не бьют – почему?
«Возьмите этого красавчика! – сказал громила, который расставлял людей в черном по двору, стараясь строго соблюдать расстояние между ними точно в метр. – Возьмите этого красавчика и сделайте из него шницель по-берлински!»
После того как он прошел всю шеренгу, на его голом теле осталось тридцать кровавых полос. Еще хорошо, что бьют по очереди, чтобы не задеть плетьми друг друга…
«Если это выдержал Пауль, значит, выдержу я».
– Кругом! – сквозь мучительный гул в ушах доносится до него чей-то голос. – Ты, скотина! Тебе сказано! Ты не слышишь? Не понимаешь? Кругом!
Он слышит. Он понимает, что означает команда: нужно повернуться – и снова пройти сквозь строй. Еще тридцать ударов плетьми. Ему назначено девяносто…
Помнится, когда он выслушал приговор, его губы расползлись в недоверчивой улыбке: что за цифра такая смешная, девяносто ударов? Почему не сто, для ровного счета? Теперь он понимает почему. Тридцать умножить на три – получится девяносто, и ни одним ударом больше. Да здравствует пресловутая немецкая педантичность!
Резкий, четкий поворот через левое плечо.
– Шагом марш, скотина!
Он делает шаг вперед – удар.
Шаг – передышка.
Шаг – удар.
«Ничего. Пока я еще держусь на ногах. Дыхание срывается, да. Это понятно. Это понятно! Это…»
Десять шагов.
Он стал различать новый звук. Воздух визжит. Когда человек в черном взмахивает плетью, она режет воздух, и воздух визжит. Воздуху больно.
Двадцать шагов.
Воздуху… больно…
– Кр-р-ругом!
«Неужели я уже прошел? Прошел второй раз? Остался один проход. Осталось тридцать ударов. Я это выдержу. Если уж Пауль… Я выдержу! Сейчас я повернусь – и…»
Он стоит, пытаясь хоть что-нибудь увидеть сквозь холодный пот, заливающий глаза.
«Почему мне холодно? Мне должно быть жарко!»
– Кр-р-ругом!
Медленный поворот через левое плечо.
– Шагом марш, скотина!
Шаг – два удара.
Шаг – передышка.
«Я не чувствую ног. Это плохо. Я не должен упасть. Если упаду, затопчут, как затоптали Марка. У них подкованные сапоги. Говорят, на их сапоги нарочно набивают тяжелые железные подковы. Я не упаду. Если это выдержал Пауль, значит, выдержу я».
Шаг – передышка.
Шаг – два удара.
«Шницель по-берлински… Кто не знает, как выглядит шницель по-берлински? Посмотрите на меня, и узнаете!»
Сколько еще осталось? Он давно перестал считать шаги. Иссеченное тело уже не чувствует боли.
«Не упасть. Только бы не упасть! Я… дойду. Я выдержу. Потом… все не важно. Если выдержал Пауль… Как он мог это выдержать?!»
– На месте раз-два! – громовой хохот. – Стой, дубина. Ты выдержал, ты жив. Хорошо бы тебя сейчас посыпать солью! Твое счастье, что мы не палачи. Мы только исполняли приговор. А теперь ползи отсюда, ободранный червяк! Ползи, пока цел!
«Я не червяк! Я не поползу!»
– Ты что, не слышишь? Конец!
«Я не червяк!»
– Кру-гом! – хрипло командует избиваемый. – Шагом марш! Круг почета!
И снова идет сквозь строй.
– Секите меня! Ну? Секите! Иду на круг почета!
Мгновенная изумленная передышка, и снова в воздухе засвистели плети.
Удар, удар, удар, удар… нет больше передышки. Его бьют так жестоко, как не били даже раньше.
«Я не упаду. Я не…»
Тогда он не упал. Он остался жив. Но чуть ли не каждую ночь ему снится, что он все-таки не удержался на ногах, что упал, и его забили сапогами насмерть. А потом говорили с насмешкой:
– Дурак, он сам напросился!
А его последней мыслью было: «Пауль выдержал, а я не смог!»
Но это всего лишь ночной кошмар.
Берлин, 1942
– Слушай, – шепчет Марика, почти не размыкая губ, – по-моему, он сейчас начнет вытирать слезы умиления. Тебе не кажется?
– Ничуть этому не удивлюсь! – бормочет в ответ Алекс, точно так же еле шевеля губами – соблюдая конспирацию. – Дело в том, что я сказал ему, будто мы с тобой влюблены друг в друга.
Алекс, чертов Алекс! Это не родственник, а проклятие какое-то! Как он донимал ее мальчишкой, так и через двадцать лет донимает.
– Ты сдурел? – чуть не вскрикивает Марика. Какое счастье, что комендант лагеря не понимает по-русски!
– Ты его просто не знаешь, а у него очень романтическая натура. Если бы я сказал, что ты самая обыкновенная двоюродная сестра, он нас не выпустил бы из комнаты для свиданий при своей канцелярии. Да еще и охранники бы то и дело к нам заходили. А так… Просто ложь во спасение.
Надо признать, да, именно что во спасение. Ни на что подобное и надеяться нельзя было.
Марика измучилась, пока добралась до Дрездена. Пустяковый в общем-то путь занял почти десять часов, потому что расписание после очередного налета переломалось вдребезги. Пришлось подкреплять угасшие силы тем, что понемножку отхлебывать вина, приготовленного для Алекса, так что литровая фьяска[11] стала весить к вечеру несколько меньше.
Марика оказалась в Дрездене уже около восьми вечера, ни о какой поездке в лагерь (два часа на автобусе от города), конечно, и думать было нечего. Ночь Марика провела в какой-то гостиничке, где оказалось невыносимо душно: хозяйка сурово запретила открывать окна, заклеенные крест-накрест бумажными полосами (чтобы стекла не выпали при бомбежке), и содержимого в бутылке осталось еще меньше: очень болела от духоты голова, надо было лечить. Благодаря лечению Марике удалось заснуть, и вскочила она за полчаса до отхода автобуса только чудом.
Еле-еле успев умыться, собраться, добежать до автовокзала и сунуть под нос избыточно придирчивому полицейскому пропуск, она плюхнулась на последнее оставшееся свободным сиденье и всю дорогу поедом ела себя за то, что такая растеряха, такая неорганизованная, даже единственного кузена толком не смогла навестить: приедет к нему зачуханная, растрепанная, урод уродом! Хорошо хоть, под шляпкой не видно, в каком состоянии у нее волосы – от укладки и следа не осталось. И вообще, счастье, что Алекс всегда был к своей кузине равнодушен как к девушке. В детстве он даже жалел, что Машуня (так он ее называл, и это имя было истинным проклятием для ее чувствительных ушек) не родилась мальчишкой: было бы кому скакать с Алексом верхом с утра и до вечера. А вот Ники с его идиосинкразией на запах лошадиного пота следовало родиться девчонкой, тихо играть в куклы, вплетать в косички разноцветные ленты, жеманничать и плакать по поводу и без повода…
И вот вам пожалуйста! Алекс сказал коменданту своего лагеря, что к нему едет любовь всей его жизни, с которой его разлучили жестокие родители, решившие, что брак между кузенами греховен. Такие браки разрешены как католической, так и протестантской церковью, а вот церковь православная относится к ним неодобрительно, так что не зря православную веру называют ортодоксальной. А ведь господин комендант не хочет прослыть ортодоксом?
Господин комендант этого явно не хотел. Поэтому, вволю насмотревшись на смущенную Марику своими увлажнившимися, чуточку навыкате голубыми глазами, изобличавшими в нем добродушного, сентиментального и не слишком-то далекого человека, он создал для встречи «влюбленных» самые что ни на есть комфортные условия.
Честно говоря, Марика представляла себе концентрационные лагеря несколько иначе. Об Освенциме, Бухенвальде, Равенсбрюке рассказывали ужасные, просто чудовищные вещи, которые вообще не укладывались в голове и которым не хотелось верить. Но, судя по тому размаху, с которым решался в рейхе еврейский (а заодно и цыганский) вопрос, судя по той жестокости, с которой гитлеровская армия прошла по Польше и шла теперь по России, страшным рассказам следовало верить. А здесь, в этом тихом уголке под Дрезденом… Конечно, территория окружена колючей проволокой, и коттеджами невзрачные бараки не назовешь, но в них чисто, в каждом отделении спят по пять человек, не больше, у каждого постельное белье, раз в неделю баня, никаких жутких полосатых одеяний, все ходят в старой военной форме, а если есть деньги, можно заказать в деревенской швейной мастерской костюм. Правда, по словам Алекса, костюмы там шьют такие, что лучше уж донашивать обветшалую форму. Зато обувь недавно выдали крепкую и довольно удобную, даже по размеру, – постарался Красный Крест.
Увидев расширенные от изумления глаза кузины, Алекс успевает шепнуть, чтобы Марика не обольщалась: далеко не все французские военнопленные содержатся в таких комфортабельных условиях. Повезло лишь тем, чьи части сдавались без боя, повинуясь приказу маршала Петена, объявившего о капитуляции, ну а кто был взят с оружием в руках, с теми обращаются иначе, лагеря для них совсем другие. Здесь есть и англичане, и американцы, к которым относятся с особым пиететом, хотя это экипажи сбитых самолетов, они попали в плен, что называется, с оружием в руках; есть и русские – из числа сдавшихся добровольно. Поскольку Алекс знает и французский, и английский, и немецкий, и русский, он здесь трудится в основном как переводчик, хотя приходится помогать и в медпункте. Сюда, в лагерную больницу, уже привыкли обращаться жители окрестных деревень, потому что денег за медицинскую помощь тут не берут. Идиллия, словом!
Но настоящая идиллия начинается, когда комендант предоставляет Марике и Алексу для разговоров свой кабинет, а денщику велит приготовить «влюбленным» обед из привезенных Марикой продуктов: все-таки купленные пресловутые шницели таинственного происхождения, омары, устрицы, булочки и сыр, а также остатки вина, к которым комендант щедрой рукой добавляет полбутылки шнапса. Никто к нему, правда, не притрагивается, но все равно это мило! От себя комендант презентует также банку консервированного горошка и свежайший хлеб из лагерной пекарни, однако приглашения отобедать за компанию не принимает, уверяя, что ни в коем случае не хочет мешать влюбленной парочке беседовать. Марике показалось, что, попроси Алекс, комендант после обеда предоставил бы им собственную спальню, где они могли бы предаться греху!
Но поскольку предаваться греху ни у Марики, ни у Алекса нет желания, они вместо спальни получают разрешение погулять по окрестностям без охраны.
Окрестности оказываются самые живописные: поля, рощицы… Пока идут по дороге, мимо проезжают машины с немецкими военными, но никто не обращает внимания на девушку, которая идет под ручку с французским офицером в форме. Марика не устает изумляться.
– Не переживай, – усмехается Алекс. – Нас, французов, здесь считают безобидными чудаками из-за нашей drole de guerre[12]. Ну как же, собственный маршал, народный герой – Петен ведь крестьянский сын, ты слыхала? – некогда побивший германцев под Верденом, приказал сдаться целой армии! Чего нас опасаться? Поэтому на меня и не обращают внимания. В компании с англичанином или американцем в форме ты привлекла бы значительно больше внимания. А уж с русским…
Наконец они сворачивают в рощу и остаются одни.
– Слушай, а из этого лагеря когда-нибудь бегут? – спрашивает Марика, усаживаясь под березкой на плед, выданный все тем же заботливым комендантом. Интересно, что подразумевалось, когда выдавался этот плед? – Мне кажется, наоборот: к его воротам должна тянуться длиннющая цепочка из военнопленных, желающих сделаться узниками!
– Не обольщайся, дорогая кузина, – усмехается Алекс. – Вся штука в том, что наш лагерь – образцово-показательный. Нечто вроде «образцово-показательного гетто» Терезиенштадт. Не слышала о таком? Туда время от времени привозят представителей Красного Креста, а контингент для «отсидки» выбирают строго по протекции. Одни только «хорошие евреи», как правило, представители аристократических фамилий. Насколько я помню русскую историю, светлейший князь Потемкин-Таврический в свое время строил для матушки-Екатерины так называемые потемкинские деревни. Вот и у нас совершенно такая же потемкинская деревня. По сути, это пересыльный лагерь, откуда людей направляют в разные другие «места отдыха» при малейшей провинности. Задерживаются особо «благонадежные». Ну и полезные… Например, у нас есть один француз, мастер пластической хирургии. Он тут уже год, его очень ценят многие знакомые герра коменданта. Иногда его даже отпускают оперировать в Дрезден. Под охраной, конечно, но под весьма условной охраной. Мне он предлагает сделать мои оттопыренные уши более благопристойными. Как думаешь, может быть, согласиться?
– Ты смеешься? – недоверчиво спрашивает Марика.
– Да нет, отчего же? Я совершенно серьезен. Оттопыренные уши всегда осложняли мне жизнь… А вообще-то наш лагерь – такой же парадокс войны, как те омары, которые ты сегодня привезла. Но долго эта благодать не продлится. Чем крепче будет увязать германская армия в России, тем хуже будет всем нам. Появятся новые пленные – русские. И отношение к ним будет уже совершенно другое. О наших соотечественниках рассказывают поразительные вещи. Говорят, они сражаются не как солдаты, а как преступники. С точки зрения бошей, конечно. – Похоже, Алекс, прожив несколько лет во Франции, уже не может отвязаться от галлицизмов. – Русские поднимают руки, делая вид, будто сдаются, а когда боши приближаются вплотную, они открывают по ним огонь в упор. Убивают всех, кого могут, даже стреляют в спину немецких санитаров, присматривающих за их же ранеными. Это, пожалуй, трудно понять, но русские беззаветно храбры и не сдаются без тяжелых боев. Разумеется, если этих берсеркеров удается взять в плен, их отправляют в такие лагеря, что и представить страшно…
Алекс машет рукой, и на миг его веселое лицо, которое кажется клоунски-забавным из-за в самом деле сильно оттопыренных ушей, принимает усталое, измученное выражение. И вдруг он снова оживляется. Марика видит, что он с удовольствием разглядывает ее знаменитое омбреро.
– Сногсшибательная шляпка, – говорит Алекс елейным голосом. – Просто убийственная! Клянусь, что в жизни не видел ничего подобного!
– Странно, что ты не сказал этого раньше, – улыбается Марика.
– Почему? А, ну, понимаю, я должен был осыпать тебя комплиментами, чуть только ты появилась. Но, понимаешь, я был так рад тебя увидеть…
– Верю, – прерывает его Марика. – Но Ники, прислав мне эту шляпку, выставил такое категорическое условие, чтобы я поехала к тебе именно в ней, что я, честное слово, подумала: может, это заветная мечта твоей жизни, чтобы тебя в лагере для военнопленных навестила девушка в зеленом сомбреро с черными лентами?
– Ну, можно и так сказать, – хихикает Алекс. – Только знаешь, по-моему, черные ленты тут совершенно неуместны! Давай их снимем, а?
И не успевает ошеломленная Марика слова сказать, он проворно дергает за ленты, завязанные у девушки под подбородком, и снимает с ее головы шляпку, а потом с тем же проворством выдергивает ленты из прорезей. Увидев, что они пришиты к зеленой соломке, Алекс вынимает из кармана маленький маникюрный наборчик, напоминающий перочинный ножик-складень, и подпарывает нитки миниатюрными ножничками. Мгновение – и ленты исчезают в карманах его галифе, а зеленую шляпку, вернее, то, что от нее осталось, Алекс довольно небрежно нахлобучивает на голову Марике.
– Вот, – говорит он, удовлетворенно разглядывая ошарашенную кузину. – Теперь совсем другое дело!
Конечно, теперь совсем другое дело! Даже когда Марика сидит не шевелясь, чуточку великоватое ей сооружение из соломки норовит соскользнуть с головы. А что будет, когда она вздумает встать и пойти?
Через мгновение Марика узнает что. Шляпка съезжает ей на колени, и Марика с ужасом смотрит на неаккуратные дыры, зияющие там, где сквозь соломку были продернуты ленты.
– Ради Бога, Алекс! – восклицает она. – Немедленно верни мне ленты! Ты с ума сошел?!
– По-моему, это ты сошла с ума, – недоумевающе говорит ее кузен. – О чем речь? Какие ленты?
– Как это – какие? Те, которые ты вытащил из шляпки! Которые положил в свои карманы!
– В какие карманы?
– Перестань строить из себя дурака! – уже всерьез злится Марика. – В карманы галифе!
Алекс вскакивает и выворачивает перед Марикой карманы. Господи Иисусе… Да ведь они пусты! В них ничего нет, кроме носового платка, маленькой расчески, пресловутого маникюрного наборчика и коробка спичек. Марика поднимается с травы и проверяет сама, ощупывает каждый шов – ничего нет в помине, никаких лент! Но ведь она сама видела, как Алекс прятал их в карманы!
– Дорогая, успокойся, – уговаривает он, видя, что его кузина вне себя от недоумения и ярости. – Прошу тебя, забудь ты об этих лентах! Просто забудь, как будто их никогда не было. Вернешься в Дрезден – купишь себе новенькие, веселенькие, не столь мрачные. А про эти – забудь!
Марика смотрит на него исподлобья. Что-то здесь не так… Сначала она решила, будто это один из дурацких розыгрышей дорогого братца, одна из его шуточек, над которыми смеялся только он. Однако в голосе Алекса звучат какие-то странные нотки… Он вовсе не смеется, он очень серьезен. И Марика вспоминает, как настаивал в своем письме Ники, чтобы она приехала к Алексу непременно в его шляпке.
Да, здесь явно что-то нечисто! Это и дураку ясно было бы, а Марика вовсе не дура, хоть, пожалуй, не слишком догадлива.
– Может, все же объяснишь? – угрюмо спрашивает она, снова усаживаясь на траву и пытаясь уверить себя, что Алекс прав и никаких лент на шляпке у нее и в самом деле никогда не было.
– Лучше не надо, ладно? – мягко улыбается он. – Ничего не спрашивай, Машуня, умоляю тебя. Не обижайся: я просто не могу ничего тебе сказать. Иногда лишнее знание, понимаешь ли, может быть очень опасным. Как говорится, во многой мудрости многая печаль. Еще раз прошу, не обижайся: твоими ленточками слишком серьезно и много завязано не только для меня, но и для других людей.
При этих словах у Марики падает сердце. Ну да, она так и знала, что ее пылкие братцы не смогут остаться в стороне от знаменитого Resistance, Сопротивления, к которому призывает французов генерал де Голль с того самого момента, как Петен отдал Францию бошам. И, конечно, наивно думать, что своего Resistance нет в Германии.
Ники в Париже, Алекс – в концлагере под Дрезденом… Кто еще? Наверное, таких людей много. Есть они и в Берлине, но Марике никого из них не узнать.
А что, если она уже знает одного из них? Что, если это Торнберг?
Вполне логичное умозаключение.
Знает ли Алекс Торнберга? Спросить? Может быть, но только немного погодя, а пока надо вот что сделать – показать ему записку. Марика о ней совершенно забыла, а между тем – чем черт не шутит! – может быть, и она косвенным образом предназначалась Алексу, как пресловутые ленты?
Хотя нет, Торнберг не мог предположить, что Марика в каком-то безумном порыве вдруг решится – и вытащит его шифрованную записку из мертвой руки Вернера.
Или мог?
Ладно, об этом потом.
– Слушай, Алекс, – говорит она миролюбиво. – Услуга за услугу. Я забуду про ленты, а ты помоги мне прочитать одну записку.
И она достает из кармана плаща злосчастный листок.
Ну, если она ожидала, что Алекс подпрыгнет на месте и вопьется взглядом в текст, то этого не случилось. Алекс смотрит с любопытством – но не более того.
– Ух ты, какой замечательный ребус! – восклицает наконец он. – Ты его где взяла?
– Ребус?
– А что, ты думаешь, это пиктограмма? – озадачивается Алекс. – Нет, здесь ведь имеют место быть не только рисунки, но и буквы. Однозначно аналфабетное, то есть не буквенное, письмо, но о конкретике можно спорить…
Нет уж, о конкретике как раз лучше не спорить!
– Так где ты взяла эту шифрованную записку? – находит наконец подходящий термин профессионал. – Да, так будет правильнее назвать сей «ребус».
Подумаешь, Марика и без всякого профессионализма называла эту штуку именно так!
– Где взяла? У одного человека, – уклончиво говорит она.
– Он профессиональный криптолог?
Марике трудно ответить на вопрос кузена. По многим причинам.
– Потом расскажу, – снова уклоняется от ответа Марика. – Ты сможешь разгадать этот «ребус»? Тут, кажется, изображены руны?
– Да, целых три, – кивает Алекс. – Вообще-то это руны победы, но…
– Руны победы? – перебивает Марика.
Удивительно: именно о рунах победы читал ей стихи Бальдр, даже не зная, что как раз о них и идет речь на листке. Удивительно точно угадал!
- Руны победы,
- коль ты к ней стремишься, —
- вырежи их
- на меча рукояти
- и дважды пометь
- именем Тюра! —
неожиданно для самой себя – надо же, она запомнила с одного раза эти не слишком-то вразумительные строчки! – читает наизусть Марика и гордо косится на Алекса: выразит ли он восхищение ее образованностью? Однако Алекс, этот несостоявшийся семиолог, как старый полковой конь, услышавший звук боевой трубы, уже всецело погрузился в разгадывание «аналфабетного письма» и только небрежно кивает своей эрудированной кузине:
– Вот именно. Однако я не договорил. Если бы руны имели строго значение победы, они были бы нарисованы вот так… – Он шарит по карманам френча, ничего не находит и с досадой обращается к Марике: – У тебя есть чем писать?
У нее в сумке лежит небольшой нарядный блокнот и золоченый карандашик с ластиком на конце – подарок любимого шефа на прошлое Рождество. Этот праздник, как и все христианские торжественные даты, не приветствуется в рейхе – Гитлер считает все, что связано с католическими традициями, кандалами на теле нации, и как тут не вспомнить «опиум для народа», которым называют религию большевики в России. Однако Адам фон Трот иногда позволял себе идти наперекор официозу. Марике не слишком-то хочется показывать эти прелестные вещицы Алексу, который всегда, как девчонка, был неравнодушен ко всему писчебумажному, а уж автоматические ручки и карандаши вызывали у него приступы безудержной клептмании, но делать нечего: любопытство в данном случае сильнее осторожности.
К ее облегчению, Алекс даже не обращает внимания на то, какая красота у него в руках, а немедленно начинает черкать на листке:
– Смотри: будь это сугубо руны победы, они были бы написаны вот так:
Именно в таком порядке и в столбик. Значит, их нужно читать каждую по отдельности, но при этом не забывать и об общем их смысле. А теперь о значении каждой отдельно.






